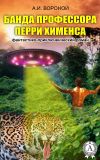Текст книги "Побег. Роман в шести частях"
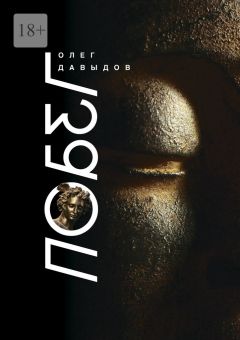
Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава III. Бедный ангел
Утром я зашел к Марлинскому, собрал вещи, которые он просил привезти, и поспешил на Беговую – надо было успеть к можайской электричке. Марли живет около консерватории, так что я пересек свой вчерашний маршрут и вспомнил то ночное видение, от коего блудливое перо увело меня в мир поэтических грез… Сонного Сидорова, излагающего основы судебной психиатрии, вспомнил я.
– Забыл прошлый раз спросить, – сказал он, когда мы двинулись в сторону Пушкинской, – что это вас так волнует проблема вменяемости? – И тонко улыбнулся.
Крайне неприятно общение с психологом в частной жизни – ведь психолог это человек, как и все мы, ущербный, и, как многие, он нашел для себя форму поведения, скрывающую эту ущербность. И у психолога это чаще всего агрессия в отношении чужих слабостей. Я не против агрессии, но психолог забыл, почему и для чего он выработал такую форму. Все вырабатывают какую-нибудь форму, но человек, знающий чужие слабости (как раз эти вот формы поведения) и не желающий выполнять их на себе, легче всего попадает в силки собственных знаний: его подозрительность в отношении других скрывает от него то, что невыносимо ему в самом себе, – и он благополучен. Но можно ли это скрыть от других? Нет! – и человек, болтающий о чужих комплексах, силясь скрыть свои, по крайней мере неприятен – эстетически.
Я нахмурился, услышав это заигрывание Сидорова, и он тут же отработал назад:
– Хотя, вы знаете, я сам этим заинтересовался. Вопрос-то крайне запутанный – по самой своей сути. Вы меня понимаете? Но ставится крайне часто, – потому что вменяемость трактуется в юриспруденции как предпосылка вины. – Он помолчал. – Ведь многие, совершив преступление, ссылаются на свою невменяемость в тот момент. Это естественно, особенно, когда наказание может быть тяжким. Поэтому существует специальное понятие: «формула вменяемости». Эта формула состоит из двух критериев – медицинского и юридического. Не знаю, интересно ли вам это?.. – и опять замолчал.
– Ну-ну, – сказал я.
– Ну, медицинский включает нозологическую форму, патогенез, течение, прогноз заболевания, факт невменяемости, – Сидоров зевнул, а я подумал, что Марлинскому просто хотят вменить невменяемость.
– То есть насколько может отвечать за свои поступки?
– Ну да…
– А если еще ничего не сделал?
В этот момент в свете гнилушек-фонарей меж нами мелькнул серый мотылек.
– Ну, это, наверно, можно рассматривать, – отвечал Сидоров, машинальным движением руки перехватывая беспечного летуна, – как покушение…
– На невменяемость? – вставил я так же машинально.
Сидоров поморщился, отрывая крылышки. «Ну при чем тут невменяемость?» – хотел он, видимо, сказать.
– Дайте-ка, – сказал я, отбирая у него изломанные детали. Мы стояли уже у перехода через улицу Горького, где должны были расстаться.
– Юридический критерий, – заспешил Сидоров, – обычно подразделяется на два признака: первый, интеллектуальный – невозможность отдавать себе отчет в своих действиях, а второй, волевой – невозможность руководить своими действиями.
– Спасибо, – сказал я, протягивая руку на прощание.
– Да не за что, – ответил он смущенно, – заходите как-нибудь к нам – выберите время и заходите. Сара будет рада. Только вот на следующей неделе я буду в командировке, но вы звоните…
Читатель, да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.
Я успел к электричке как раз вовремя, сел на единственное свободное место и тут вдруг увидал, что по краю моей сумки переползает, пошевеливая усиками, пузатый черный таракан. Я ни на секунду не усомнился в том, что таракан от Марлинского, ибо как раз у него дома водились эти крупные черные твари, – водились сотнями. Это были необыкновенно раскормленные, ленивые, малоподвижные животные. Марли никогда не травил их, не давил, не обижал – так, иногда только прогонял со стола, когда они бывали чересчур уж настырны. Он даже, пожалуй, любил их. Во всяком случае, с некоторыми у него были какие-то дружеские, возможно, даже интимные отношения. Безвредным резиновым клеем он наклеивал им на спину бумажки, где бисерным почерком были означены имена.
Самого крупного звали Юпитер, что было не слишком удачно, ибо Юпитер оказался просто беременной самкой. Зато Аполлон отличался изяществом, а Меркурий бегал, как угорелый, плутая в объедках, разбросанных у неряхи Марлинского всюду. Когда я порой спрашивал: что это такое и откуда столь странная страсть? – он отвечал коротко:
– Таракан не ропщет.
Что правда, то правда. Так вот, увидав таракана, неторопливо ползущего по сумке, я непроизвольным щелчком отвращения стукнул по сумке и осознал содеянное, только когда ошеломленное насекомое, как брошка, повисло на кофточке сидящей передо мной девушки. В следующее мгновенье таракан уже пришел в себя и юркнул вбок, а я взглянул и обомлел: это была девушка с портрета Смирнова.
Да, та самая девушка со вчерашнего портрета, но в жизни она была совсем иной. На портрете она вышла куда как плотней, грубей, матерьяльней, тверже, сильней да и живее, наверно, чем в жизни. В жизни она оказалась хрупче, значительно мягче было лицо, обрамленное легкими светящимися волосами, более тонким был и чуть птичий нос, аккуратней прочерчены губы. Хотя вот глаза – те же самые, что на портрете, – убегающие, если даже она смотрела прямо на вас. В этих глазах была напряженность, настороженность, тонкая перетянутая струна, готовая лопнуть и вдруг обратиться слезами, отчаяние, дребезжащий надломчик и боль – и глубина, следовательно. Но тоже особого рода глубина.
Она заметила мое движение (этот мой щелчок), но, очевидно, не сообразила, в чем дело; а я – чтоб отвлечь ее, чтобы не дать ей опомниться – поскорее сказал первое, что залетело на ум:
– Здравствуйте, – сказал я, и девушка удивленно вскинула брови, – вы меня не помните? А мы ведь встречались… если не ошибаюсь, у Бенедиктова – вспомнили?
– Нет, – сказала она улыбаясь.
Читатель, ведь, собственно, я тоже не знаю Бенедиктова и помянул его только затем, что надо что-то сказать. Такая у меня манера – называю первую фамилию, а кто он? – бог весть. То есть я знаю, что был Бенедиктов-поэт, и обратился к ней так потому, что, увидев живьем, почувствовал некий надломчик, и тут закрутились в моей голове стихи Бенедиктова – вот они:
Когда ж напрасные усилья
Стремишь ты ввысь – к родной звезде,
Я мыслю: бедный ангел! где
Твои оторванные крылья?
Да и потом, слишком забавная ситуация: вчера я видел портрет, а сегодня уже встречаю ее наяву.
– Но я вас точно где-то видел, – продолжал я.
– Но где? где? – спрашивала она, нечаянно напоминая этим, что я веду себя как идиот.
Может быть, вы замечали, умудренный читатель, что, если кто-то, упомянутый в случайной, к примеру, беседе или виденный как-то мельком, поразит вас, а потом вы к тому же вдруг встретитесь с ним на улице, или в гостях, или где-то, да еще плюс к тому же и сблизитесь с ним – с поразившим вас, – человек этот будет позднее иметь на вашу судьбу особое влияние (или, если угодно, он послан вам судьбой). Для меня сказанное – просто практическое правило, и, поскольку я всегда стараюсь слушаться велений судьбы, я и решил, не упускать случая с этой милой девушкой. Тем более что она тоже живо интересовалась мной, спрашивая, где я мог ее видеть.
– Не знаю, может быть, во сне, – сказал я, подводя итог нашей непроизвольной игре в Достоевского.
– Во сне? – сказала она разочарованно – как бы пробуя на вкус мой ответ.
– Да нет – я просто не помню… Вы… впрочем, может быть, знаете такого художника Смирнова?..
– Конечно! – это мой дядя, – засмеялась она. Напряжение тут же спало, и я обстоятельно, уже без дураков, рассказал о нашей вчерашней встрече с дядей – о том, как видел в мастерской ее портрет и как он меня поразил. Девушка была довольна моими запутанными комплиментами и даже слегка зарделась. Когда же я спросил, как ее имя, она вдруг будто бы застеснялась, покраснела еще сильней и сказала, что не может простить родителям своего дурацкого имени (вот он надломчик-то – милый надломчик, который ее так красил) – Анжелика! – Она прямо выставила это имя, а я сказал:
– Ну что ж, прекрасно! Все вас, наверно, зовут Лика, и я так буду звать. – Она еще немного покраснела, и тогда я стал расспрашивать, что это за странная фамилия – Смирнов? откуда она взялась? и т. д.
– Смирна – это название одного турецкого города. Дядя Саша всегда рассказывает, что наш предок был взят в плен казаками, по национальности был турок. И вот считается, что он происходил из этого города… Дядя Саша считает себя турком…
– Ага?! – то-то я и думаю, какой он странный, – сказал я, и мы рассмеялись.
Вообще, поездка эта начинала мне все больше и больше нравиться – я с удовольствием посматривал то в окно на быстроменяющийся цветущий пейзаж; то на Лику, уже забывшую свое имя и болтающую всякий вздор; то, наконец, на симпатичных наших попутчиков. И я тоже болтал, постоянно шутил, улыбался – был в ударе! – и было приятно сознавать, как я забавен, как прекрасно нам ехать, как весело мне глядеть на Лику и ей на меня, как все хорошо, и, что это хорошее все мы крепко держим в руках! Это было, что называется, «пробуждением радостных чувств по прибытии в деревню», читатель!
В разговоре выяснилось, что Лика тоже едет на дачу и тоже в Тучково, что туда же сегодня приедет Смирнов и еще другие люди и – как было бы славно удивить дядю Сашу (Александр Иваныч звали Смирнова) этим случайным совпадением. Короче говоря, я решил похерить Марли с его вечными страданиями (зайду к нему позже) и, сойдя с поезда, отправился к Лике.
По дороге она мне рассказала кое-что о Смирнове: он живет уединенно, много в жизни пережил, мало с кем из художников общается, постоянно работает над какой-то картиной, которую не видел никто, и т. д. – однако сейчас не стоит об этом говорить – неуместно! – все это потом, читатели, потом…
– Ааа! – мой таинственный полночный собеседник! – такими словами встретил нас Смирнов. – Ну, здравствуйте, здравствуйте – какими судьбами? – уже познакомились или давно знакомы? – И к Лике: – А где же мама?
– Она сегодня не приедет – у нее дела…
– Дела, дела, вечные дела. – И ко мне: – Что, будем позировать?
– Сегодня?
– Ну, как хотите. Проходите же!.. Что мы у калитки?!
Он пошел к дому, на ходу смахивая газетой с лысины липнущих комаров. Вид у него был самый затрапезный: пузырящиеся какие-то шаровары, синяя рубаха, расстегнутая на жирной шее, и сандалии на босу ногу, но голова и лицо свежеобриты.
– Хорошо здесь, да только комары заели, – продолжал дядя Саша, усаживаясь за стол, – пейте-ка чай! Лика, тащи чашки… Эй, вон – смотрите-ка! – белка… вон она…
Действительно, было здесь хорошо и спокойно – на редкость хорошо! – и я был ужасно рад тому, что встретил Лику. Лика со Смирновым все время шутливо пикировались, и каждый старался перетянуть меня в этой игре на свою сторону:
– Правда Лика на белку похожа, правда? – такая же рыжая, и хвост линялый, – смеялся Смирнов. И действительно – ей шло коричневое, и она носила его, но что же я мог ответить? – я улыбался.
– А пойдемте, я вам покажу, какое крыльцо дядя Саша сделал. Вот, видите?
Крыльцо было похоже на дугообразный козырек, заломленный вверх, – вода должна была стекать прямо на стену.
– Забавно, – сказал я.
– Ага, понял! – закричал Смирнов в полном восторге. – Это я сам придумал…
– Только дом, наверно, сгниет, – вода-то куда стекать будет?..
– Конечно сгниет, конечно! – вот видите, дядя Саша? – сгниет.
– А мы не лыком шиты – мы вот здесь трубу сделаем. Зато какой вид с крыльца открывается, какая свобода! – встаньте сюда.
– Действительно – птица-тройка – и дуга даже, только колокольчика нет…
– Во! – вот видишь? – человек понимает! Правда, это примитивная ассоциация, но хоть какая-нибудь – а? – а ты, – он обратился к Лике, – ты заземленный человек, хоть и белка.
– С этого крыльца сбежать хочется, – добавил я, несколько задетый его «примитивной ассоциацией», – хочется освобождения. Я ведь имел в виду чувство лошади, запряженной в тройку, – тяжко под дугой…
– Ай-я-яй! – захохотал Александр Иваныч. – Кого ты сюда привезла? – подрывателя устоев. Ну, пейте чай, и айда в лес.
Я не стану занимать читателя разговорами за чаем – достаточно того, что голова Лики оказалась набитой всякого рода переселениями душ, чакрами, полями и астрологией. Между прочим, она много толковала о гороскопах – о моем, своем, дяди Сашином. Сама она родилась 18 декабря под созвездием Стрельца, что означало «кентавра, целящегося в невидимое, и – склонность к авантюризму», – сказала Лика, и я почувствовал: это было предметом ее особой гордости.
Во время чаепития появился еще один человек – некий Толик, который был, очевидно, неравнодушен к Лике, а она его всячески третировала.
Наконец, мы все вчетвером отправились гулять по лесу.
Мы медленно шли по тропе: впереди, продолжая о чем-то спорить, – Смирнов с Толиком; немного отстав, – я с Ликой, которая рассказывала о своей знакомой, как та выходит в астрал и что там видит. Я кивал и задавал вопросы:
– И что же, она полетела в эту трубу?
– Ну да – и долго летела, а потом услышала голос: «Вернитесь – вы не готовы».
– Не может быть! – воскликнул я.
Незаметно мы свернули на боковую дорожку – так что Смирнова и Толика уже не было видно.
– Вы ориентируетесь? – спросил я.
– Нет, но мы, наверно, найдем дорогу назад.
– Наверно, – сказал я и подумал вдруг: бедная овечка!
Мне стало жаль ее. Мне стало жаль вообще всех. Блаженное чувство жалости охватило меня со всех сторон – боже мой, и все это пройдет: эта прогулка, и Лика, и мое радостное чувство – ничего не останется, даже сожаления, – ведь сейчас все и вправду пройдет. Сентиментальная жалость посетила меня как бессловесное чувство, как трепет, как мгновенно упавшее сердце, – посетила и прошла, но все же мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть это от Лики.
– Знаете, на кого вы похожи? – спросила она, вдруг краснея.
– На серого волка? – (на кого же еще, если она овечка?)
– Почему же на серого? – на степного…
Вот оно чтo! Вот, оказывается, какое впечатление произвожу я на молоденьких начитанных девиц – очень мило, только на мой вкус слишком интеллигентно! – я брутально раздел ее.
– Почему ж на степного? – здесь и степей-то нет…
– А вы разве не читали?
– Что?
– Есть такой роман – «Степной волк»…
– Ааа – но что ж общего вы нашли?
Наверно ты сейчас будешь говорить, что я одинок и никем не понят, что мне нужны руководители и непременно оккультного свойства и т.д., и т. д. и т. д. – нам это знакомо! Только, когда молчишь, ты производишь лучшее впечатление, – думал я, подавая ей руку, ибо мы спускались в сплошь заросший незрелым малинником овраг, на дне которого журчал ручеек. Но Лика сказала:
– Нет, ничего особенного, там просто герой нюхает воздух – вот! – и делает это так же, как вы – так вот закидывает голову и… – Мы были в тот момент уже на дне оврага, и… когда она закинула голову, показывая, как это делаю я, – я, извернувшись, сверху клюнул ее в губы. Не так она глупа, как показалось мне вдруг, – совсем не глупа! когда наши губы соприкоснулись, она, смеясь, отпрянула и продолжала говорить, как ни в чем не бывало: – и так же точно раздуваете ноздри – вот-вот, точно так, как сейчас.
– Ли-ка! – донесся издалека трагический голос Толика, – Лика, а-у!
– Не будем отзываться, – сказала Лика, – ох, как он мне надоел! Тише.
Мы сели на огромный замшелый пень, солнечные лучи с трудом пробивали себе путь на дно оврага – разбившись о плотную листву дерев, они устало бликовали в токе ручья.
– Тише, – прошептала Лика, когда я положил руку ей на плечо, – ради бога, тише!
Склонившись, я чуть тронул губами ее шею, она отодвинулась. («Настоящая Диана», – была моя последняя мысль) – она отстранилась, но я успел заметить вставшие в ряд золотистые волоски, убегающие по ее хребту, и настороженную позу. Мы погрузились в оцепенение. Если хотите, я назову это медитацией.
– Ли-ка, Ли-ка, а-у! – слышалось по всему лесу, но Лика, по-видимому, действительно ничего не слышала. Ау, Лика!
Мы вышли, наконец, на не прекращавшийся ни на минуту зов.
– Как далеко мы забрались, – сказала Лика.
– Да, мы ничего не слышали, – мог только добавить я, пряча улыбку.
– Ладно, идемте обедать, – проворчал Смирнов.
Толик промолчал, но страдальчески поджал губы.
Глава IV. Неопознанный летающий объект
После обеда я уж было собрался отправиться на поиски Марлинского, но вдруг обнаружил, что записная книжка, где был нарисован план, как найти его, исчезла – вот так вот – куда идти? Скорей всего, я обронил ее, когда мы гуляли по лесу, ибо перед самым выходом записывал Ликин телефон и – точно помню – сунул в карман. Что ж, пришлось оставить вещи и идти искать не Марлинского, а книжку – по собственным следам.
Глядя под ноги, я все вспоминал, как натянуто прошел у нас обед, – как дулся Толик, как был рассеян Смирнов, да и мы с Ликой чувствовали себя из-за этого не в своей тарелке, хотя – что ж произошло?!
Тяжелая дождевая капля громко шлепнулась рядом, потом еще – и вдруг дружно, усиливаясь, зашелестело по всему лесу. Дождь загнал меня в плотно обросший ельником окоп на краю поляны – здесь можно было переждать любой ливень. Было видно, как на листе соседней березы постепенно скапливается крупная капля и затем медленно, как бы нехотя отделяясь, падает, словно малое солнце, на землю. Удары дождинок о листы были разнообразны, но все вместе создавали монотонную мелодию, понемногу настроившую и меня на грустный лад. Кто сидел в этом окопе лет сорок назад: немец? русский? фашист? коммунист? беспартийный? О чем он думал тогда? – так в своей сентиментальной печали гадал я, спасаясь от дождя, когда в его печальный лепет ворвался посторонний звук.
Он, этот звук, напоминал плеск весел, сопровождаемый скрипом уключин. Кто-то плывет на лодке? Но ближайшая лодка была, наверно, километрах в двадцати. Я тихонечко вынул голову из-под еловых лап: ничего – только, показалось мне, было что-то темновато; поднял вверх голову и увидал – тарелку. Она нависла над полянкой и, медленно снижаясь, вращалась вокруг своей оси.
В последние годы много написано о летающих тарелках – много среди этого недоразумений, попадаются и ценные наблюдения. Я ни с кем не собираюсь спорить из-за пустяков, не собираюсь давать никаких научных описаний летающих тарелок, классификаций и объяснений – это дело неблагодарное! – пусть читатель, если ему интересно, возьмет какое-нибудь руководство по этому вопросу и сам разберется, что здесь к чему. Моя задача другая: оставив в стороне все классификации и фальсификации, бьющие мимо цели, ввести вас в самую суть этой темной проблемы, в самую гущу этой столь тонкой, столь только умопостигаемой и неуловимой обыденным разумом материи:
Что воочию видел человек,
То и мнит он поведать всех изряднее.
Вскоре читатель поймет, что уже и ранее – вот до этого вот момента – я имел дело с тарелками, – имел с ними дело, не подозревая о том, – вскоре откроются странные тайны! Ну, смелее, читатель, подойди ко мне ближе – не бойся! – дай одеть на твою гордую выю сладкое ярмо веры – смелее, друг! – отбросив сомненья и страхи, вступи на чудный путь. Бодро шагай в этой упряжке, дабы вместе могли мы вспахать ниву моей истории, – доверься мне, брат! Ну же! – круглыми глазами ребенка взгляни на эту надвигающуюся громаду – она похожа на обыкновенную глубокую тарелку, покрытую перевернутой мелкой.
Тарелка наконец остановилась и зависла на двухметровой высоте, – зависла, и сразу под ней оказался человек: возник из ничего, проявился, сфокусировался, сконденсировался из дождя – что-то такое. Он воровато огляделся, расстегнул, деловито достал и, широко расставив ноги, начал мочиться. Моча была ярко-фиолетового цвета – сущий анилин – и светилась. Вот тут я и понял, что это тарелочник.
Тарелочник кончил – в тех местах, где упала моча, начала стремительно прорастать изумрудная свежая зелень, запестрелись роскошные чудо-цветы; из-за туч показалося солнце, позлатив своим светом последние крупные капли дождя; где-то в кроне древесной запела канарейка, из чащи вышел фальшивый заяц и лег под тарелкой у ног человека, который – я вдруг разглядел – имел зеленое лицо!
И тут мне тоже приспичило вдруг по малой нужде! Мог ли я утерпеть, удержаться? – нет! Моя моча была по-земному, по-человечьи желтоватого цвета – от нее шел легкий пар и характерный аромат. Я растроганно, сквозь слезу умиления, смотрел на эту короткую струйку и думал о судьбах человечества, о контакте – и вот он! В том месте, куда уструилась моча, проявилась нора, из нее вылезла лиса-чернобурка и помчалась за встрепенувшимся зайцем, канарейка умолкла… Тарелочник что-то сказал, но я не расслышал его, ибо прятал на место контактный прибор.
– Что? – спросил я и хотел еще что-то сказать. И уже открыл для этого рот, но ничего не сказал и не знаю, что мог бы сказать, потому что вдруг в голове смешалось все сразу, спуталось, закрутилось, екнуло сердце, и я потонул в потоке бессвязных мыслей, среди которых доминировало что-то вроде: тарелочники – это орудия… продукты деятельности цивилизации в которой нет ни одного существа подобного вам то есть ни один из них не может сказать о себе «я» ибо они всего лишь органы некоего может быть и могшего бы сказать «я» да только никогда никому не пришло бы такое под «я» же надо сейчас понимать способность моральной ответственности а не пришло бы такое как раз потому что некому противостать из подобных ибо подобных нет и потому в принципе не может встретиться с подобными что и есть цивилизация в которой нет ни одного существа, подобного вам то есть ни один из них не может сказать о себе я ибо они всего лишь органы некоего может быть и могшего бы сказать я да только никогда никому не пришло бы такое под я же надо сейчас понимать способность моральной ответственности а не пришло бы такое как раз потому что некому противостать из подобных ибо подобных нет и потому в принципе не может встретиться с подобными что и есть цивилизация в которой нет ни одного существа подобного вам то есть ни один не может сказать… – я ничего не сказал, а так и остался с открытым ртом, мысля вращающимися мельничными жерновами в голове.
Потом помаленьку стал выпутываться, приводить в порядок эти свои мысли, догадываясь уже, что это вовсе не мои мысли. Они как-то сами собой разомкнулись, прояснились, стали на что-то похожи, и, закрыв рот, я подумал с облегчением, что можно было бы, весьма приблизительно, сопоставить это с муравейником, но таким образом, что каждый муравей и весь муравейник в целом – есть мысли или, точнее, выражение мыслей этого существа. Можно было бы, наблюдая жизнь большого города с высоты птичьего полета – откуда не видно людей, – составить себе некоторое представление об этой цивилизации: вот работает завод, продукты его перевозятся поездами, вот строятся новые дома, вот разрушаются старые, вот едет автомобиль, вот летит самолет, и т. д. – все это делается само собой, и все это как бы спонтанные мысли организма города, город мыслит этими действиями.
Но надо помнить о разнице! Хаос мыслей города имеет своими носителями живых людей – тех, кто с тем или иным правом может сказать о себе: «я». И каждый один из этих «я», в принципе, может – хочется верить! – все это изменить: улучшить, разрушить и, главное, отвечать за это!
Совсем не то в цивилизации тарелочников. Там вообще нет никаких «я», и каждый орган, как бы он ни был сложен (а сложность некоторых из этих органов – лучше сказать «орудий» – беспредельна), – как бы ни был он сложен, все-таки всего лишь механизм. Вот, например, то, что стоит сейчас перед тобой, – только робот, а следовательно, не многим лучше обыкновенного заступа.
Цивилизация знает о нас (нашем механизме, нашем устройстве) все, но ничего не знает, и в принципе ничего не способна знать, о нас (так же как, впрочем, и мы о себе)! В сущности, оно (это существо) – это один из нас, если предположить, что он – «я»; но если он не имеет «я» – это всего лишь еще один механизм во Вселенной, построенный, может быть, даже одним из нас – людей.
Тарелочник в своем небесном комбинезоне стоял передо мной, выпучив из зелени лица жабьи глаза. ничего нельзя было прочесть на этом лице, – зеленом лице с неудачно наклеенной оранжевой полосой губ.
– Вам все ясно? – спросил он.
Я взглянул на него и, пожав плечами, совершенно отчетливо понял еще одну вещь: цивилизация тарелочников все-таки не механизм – это личность, причем личность ищущая и религиозная. Это одинокое существо – оно поклоняется человеку. Не человечеству, а лишь некоторым, отдельно взятым лицам из людей. Таких лиц, вообще говоря, не так много, но вместе они составляют своеобразный пантеон. И – мне стало ясно! – я – один из этих богов.
Нам, оказывается, это существо приносит жертвы и молится. Оно, оказывается, просит нас о чем-то там и надеется, что мы сможем выполнить эти мольбы. А мы, даже если бы знали об этом, все равно были бы просто не в силах постичь, о чем нас просят, – подумал я и тут же опять понял, что дело вовсе не в том, что мы можем выполнить эти просьбы сознательно, – а в том, что мы, боги, своеобразные устройства – рефлекторы, отражаясь на которых, эти мольбы приобретают новые свойства, то есть выполняются или не выполняются. Не все люди представляют из себя такие устройства, не все они боги для этого Океана (можно назвать его и так – по-Лемовски), но все мы специалисты, и ваш покорный слуга для него – что-то вроде греческого Гермеса (так я понял).
Так богословствовало (или, может быть, антропософствовало) во мне неземное существо, однако я все еще не мог сообразить, что же ему нужно теперь. Но вот мне уяснилось и это: оно, оказывается, влюбилось, безнадежно влюбилось в земную девушку – даже девочку! – отдыхающую сейчас где-то здесь, под Можайском.
В то лето над Тучковом вовсю носились летающие тарелки, и одним засекреченным научным учреждением была даже выслана специальная научная экспедиция на Можайское море для изучения НЛО. Не могли понять: почему над Тучковом, почему вдруг так много, почему вечерами и ночами? Почему? Почему? Почему?
А Океан томился, а несчастный Гумберт Гумберт страдал. Изнывал и молился своей богине любви: «Сжалься, богиня».
Однако богине было не до него – она была не в состоянии услышать голос влюбленного, ибо сама была по уши, как кошка, влюблена в одного майора по фамилии Ковалев. Но майор не отвечал богине взаимностью, ибо недавно потерял свой нос и был этим весьма расстроен. В другое время он с удовольствием совокупился бы с такой женщиной, как Марина Стефановна, но теперь, теперь… нет! – не теперь!
Да, Марина Стефановна была женщина во вкусе майора: белая, дебелая, с рыжими волосами и формами настолько развитыми, что новичку подчас становилось страшновато иметь с нею дело. Но нежность Марины Стефановны (Щекотихина – ее фамилия) легко смиряла любой, пусть даже самый строптивый, норов – торжествовала любовь. Один остроумный импотент от удивления назвал ее даже жрицей любви – когда ему удалось совершить с Мариной Стефановной то, чего у него до того ни с кем не получалось, – он не знал, что под ним сама богиня. И все же она ничего не могла поделать с крепостью майора Ковалева, опечаленного утратой носа.
Стоял знойный конец мая 1981 года; на редкость знойный конец – и Марина Стефановна маялась, сгорая на медленном огне своей неудовлетворенной похоти: она изнемогала и в этой маяте не могла слышать стенаний, несущихся к ней из бездны вселенной. Она целыми днями лежала на диване, и ни один мужчина не был ей нужен – кроме майора. Каждую ночь ей снился один и тот же сон: к ней приходил нос и – о! что это было за упоение! – Марина Стефанна просыпалась вся мокрая, сжимая своими полными руками пустоту. Возможно, что и было-то так жарко в те дни потому, что майор Ковалев потерял нос, и тот разгуливал ночами один. А может быть, нос потерялся от жары? – кто знает?!
Итак, особенно страдали в эти дни следующие лица: майор авиации Ковалев, гражданка Щекотихина Марина Стефанна и высокоразвитая неземная цивилизация, о которой нам пока еще слишком мало известно.
И тогда цивилизация обратилась ко мне с мольбой. Она молила о том, чтобы я разыскал Марину Стефанну и сделал что-нибудь для того, чтобы она (М.С.) соединила влюбленную цивилизацию (которая, кстати, выходит, мужского пола, то есть он – цивилизаций), – с его юной возлюбленной, которая не является, следовательно, богиней для звездного скитальца в том же (буквальном) смысле, что и мы с Мариной Стефановной, но является богиней и идолищем в переносном смысле – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Цивилизация не может положиться на свою Венеру и обратиться к ней вот так вот прямо, как ко мне, – ибо богиня-то все-таки «вздорная баба». Цивилизация обращается ко мне, а Марина Стефанна – пусть уж лучше не знает, что она богиня, ибо это знание может только повредить и даже расстроить строй вселенной.
Что ж, я согласился, но потребовал жертв. Напрасно мой коллега, робот-посланец, пытался внушить мне при помощи своего гипноза, что я и так получаю достаточно. Я сказал, что не стану иметь ничего общего с такой жадной меркантильной цивилизацией, – и он обещал все. Об этом позже, но, впрочем, было бы достаточно уже и того, что я был первым из богов, знающим себе цену.
Вдруг на землю, откуда ни возьмись, пало густое облако тумана, – облако настолько плотное, что не то чтобы там кончика носа – ничего не стало видно. Я оказался обернут бестелесной ватой, сквозь которую до меня донесся отчаянный вопль:
– Молю вас, помогите! – разыщите Щекотихину, сделайте что-нибудь, ибо я изнемогаю от любви. Только на вас все мое упование, ибо ведь вы, и только вы, тот изворотливый ловкач и дока, хитрый пролаз, быкокрад, сновидений вожатый, разбойник, в двери подглядчик, ночной соглядатай, которому вскоре много преславных деяний явить меж людей и богов предстоит!
Быкокрад? – разве это обязательно? – однако вот до чего доводит любовь!
– Не беспокойся, добрая душа! – крикнул я в туман и, выставив вперед руку, чтобы не натолкнуться на дерево, сделал шаг вперед. Маленькое облачко, в котором я был спеленут, осталось позади, но перед собой я не увидал ни тарелки, ни тарелочника, ни плодов его благотворного писания – ничего этого уже не было; зато вся поляна предстала передо мной уставленной стоящими, как спарты перед Кадмом, боровиками: крепкими, толстоногими, в коричневых шляпках. Их было столько, – столько, что вполне можно было бы построить здесь грибоварню и бесперебойно снабжать москвичей и гостей столицы маринованными и солеными грибками еще долгие-долгие годы – по крайней мере, уважаемый читатель, на наш-то век хватило бы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?