Текст книги "Побег. Роман в шести частях"
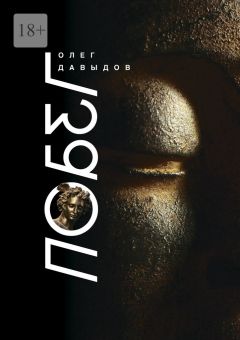
Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Но позвольте – это же написано искренно, – вскричала добрая старушка, – и с болью!
– И боли здесь нет (а скорее – поддельная), и искренности тоже нет, и, главное, нет дистанции автора с героем, нет остраненности – автор прет со страницы. А искренность его – позвольте вам сказать – есть искренность невротика на приеме у психиатора.
Такая тишина наполнила комнату, что стало слышно, как копошатся по углам черные тараканы Марлинского. Сам он сидел уже безучастно во время этих филиппик и, видно, давно потерял нить своего обсуждения. Казалось, только силой удерживает он готовящиеся наконец выступить слезы. Он, схватившись за подлокотники кресла, весь напрягся, как будто ему удаляли зуб, и, вздыхая, все смотрел в одну точку – на мое плечо. Он ждал поддержки, но что же я мог сказать?
Конечно, людям очень хочется чуда – тысяча шагов по бульвару удовлетворить их, конечно, не может: «не плачут, сволочи», хоть ты тресни, не плачут, а считают шаги, – считают, повторяя в такт: не поступайся-де ширью, храни живую точность: точность тайн, не увлекайся, – считают, – точками в пунктире и зерен в мере хлеба не считай! – считают, начисто забывая, что одно зерно не составляет кучи, и два не составляют, и три тоже, и четыре… Сколько же зерен составляют кучу, считатель?
Слушатели поднялись расходиться, и Марли имел мужество всех проводить и с каждым, прощаясь, сказать пару слов. Последний из оставшихся, Букин, спросил его:
– А как это будет называться?
– Не знаю еще.
– Назови «Побег», – сказал я.
– Почему «Побег»?
– Ну, ты же опишешь свое бегство из больницы?
– Пожалуй бля…
Когда мы остались вдвоем, Марли достал водку и закуску. Он был явно не в себе после случившегося и все прятал глаза. Он был обижен, что я не вступился за него. Он старался как можно скорей напиться, чтобы убежать от этих неприятных воспоминаний. Да и у меня нехорошо было на душе – из-за Софьи, – и я пил, чтобы побыстрее забыться; но все равно было тошно.
Сегодня напившийся Марли был молчалив – он не пускался даже в свои сентиментальные воспоминания о студенческих годах, – воспоминания, которые под водкой каждый раз аккуратно излагал, но которые, сказать по совести, я давно уже не принимал всерьез. О, эти студенческие мемуары о том, как на первом курсе они до утра пили или таскались по Москве в спорах о литературе, на втором – женились, на третьем – разводились, на четвертом – уже бывалые гении – что-то создавали, на пятом – во всем демонически разочаровывались и т. д. «Бывало, снимешь какую-нибудь продавщицу или парикмахершу, – рассказывает обычно Марли, – приведешь в общежитие, а ее трусики вывешиваешь снаружи на дверь; и уже все знают, чем ты занимаешься и какая она». Такое, бля, творчество, но сегодня ему уже было не до литературы и не до литературных воспоминаний о литературном институте – он вдруг спросил:
– Что, неужто так уж плохо?
– Не расстраивайся, Марли, – сказал я, – всяко бывает. Но я-то какой у тебя вышел! – какой-то резонер, театр за что-то ругаю – разве это похоже на меня? – да я ведь и не видел этот спектакль. Да и потом, что это за отношение к людям? – разве я когда-нибудь смотрю на людей свысока? Наоборот, я очень даже доброжелателен. Нет, Марли, – извини меня! – ты не прав. И вот еще что хочу тебе сказать: с чего ты решил, что я трахнул Сидорову в чулане? Ты что?! – тебе Томочка, что ли, сказала? Так ведь учти, она врет, – этого не было, понимаешь? – не бы-ло! – и я не позволю тебе порочить честную женщину и преданную супругу человека, которого я склонен назвать своим другом.
Пока я так говорил, Марлинский смотрел на меня как ошалелый, хлопая своими пьяными глазками, – он не верил своим ушам, он вообще не понимал, о чем идет речь. И тогда я сказал:
– Да брось ты, Марли, я пошутил – никакой Сары на вечере не было, и мужа у нее тоже нет. На-ка, выпей!
Откровенно говоря, читатель, я и сам до сегодняшнего вечера так думал (забыл, вытеснилось, не думалось), – не думал совсем, что существует в природе какая-то Сара Сидорова; но текст Марлинского заставил меня усомниться в этом (в том, что думал или не думал), – я решил немедленно проверить свою догадку – завтра, обязательно завтра! – пока еще Сидоров в командировке.
– Кстати пл, мне на днях приснилось, – сказал Марлинский, морщась от выпитого стакана, – что я был тобой.
– Ну, и что ты делал на моем месте?
– Имел одну даму.
– Ну, и как она поимелась?
– Ты знаешь, очень не плохо – я теперь хорошо представляю, как ты действуешь.
– Это ты врешь, – сказал я, – у тебя была просто ночная поллюция.
О, как много неясного остается еще в этой истории с обменами. Чем, например, занималось мое бедное тело после того, как бежало от Томочки вместе с Марли? Кто мне поставил синяк?
– Слушай, мы дрались, что ли?
– Это бл, когда мне сон-то приснился? – ничего не помню!.. Дрались?! – разве могу я с тобой драться? – ты же пл человек, и я завидую тебе… Особенно после того, как, хотя бы во сне, побывал в твоей шкуре, – для тебя нет преград – таким я тебя пл люблю! – тебе не надо оправдывать никаких званий – «писатель», бл! – ты сел, изучил язык: один, другой, третий… – и ты свободный человек, а сколько-бл времени мне пришлось потратить на этот проклятый марлинский!? – бляха муха! С твоим лицом ты можешь пойти куда угодно и что угодно сделать; а у меня не лицо – мошонка. Я не могу так больше жить, понимаешь? Я же знаю: они не роман мой ругали, а мои прыщи и морщины – мол, не лезь, мошонка, не в свое дело! – а кто они сами? что они сделали? Я – «не писатель вовсе», а они? – ублядки! – «писатели»?..
– Брось, Марли! – увещевал я его. – Ты совсем распустился! Что за мундир такой – «писатель»?.. или, может быть, риза? – брось, мы-то ведь знаем с тобой всему этому цену…
Дальше уже был совсем какой-то длинный, пустой, бессмысленный разговор: Марлинский в чем-то каялся, на что-то намекал, заглядывал, как пес, мне в глаза, и все подливал, подливал, подливал водку, потом портвейн, потом еще какую-то гниль. Я почти и не слушал, но должен был что-то отвечать, и меня уже тошнило этими прожеванными фразами. Мы оба уже и лыка не вязали, уже и пить не хотелось эту гадкую краску, но собутыльник мой был неудержим. Теперь, когда он разогнался и забыл о своих несчастьях, это был дурашливый малый, прежний Марли. Вдруг он предложил сделать возлияние. Венере!
– Как это?
– А вот так! – и он вылил из своего стакана немного вина на грязный пол. Тонкая струйка разлилась анилиновой лужицей по зеленому линолеуму. – Вот так, а остальное выпьем.
– С удовольствием, – сказал я, опорожняя свой стакан. – А теперь кому из богов мы нальем?
Я намеревался споить эту бутылку богам и уйти поскорее домой.
– Кому из богов? Пл – не знаю.
– Давай Гермесу – это, пожалуй, твой бог… – сказал я и открыл, было уж, рот, чтобы объясниться, но Марлинский упредил меня.
– Давай… – и с этими словами блеванул краской. Я метнулся в сторону. Новый поток красноречия обдал то место, где я только что сидел. И еще один! И снова я увернулся.
– Сейчас принесу тряпку, – давясь подступившим к горлу, крикнул я и бросился вон, в сортир. Я успел и тем самым предотвратил, так сказать, соборную разгерметизацию. Стало легче.
Вернувшись, я увидал ужасную сцену: низко склонившись, стоя босыми ногами в луже собственной блевотины, Марлинский пожирает эту свою блевотину глазами, измазанными помидорным соком с вином.
Я бежал!
Глава VI. Выпьем чашку кофе
А наутро я с трудом припоминал вчерашнее, подозревая в провалах памяти всякую гнусь. Каждый раз, как я напиваюсь, мое похмелье – муки совести. Ведь нельзя же без содрогания касаться того, что никак не удается ни забыть, ни припомнить, – вот того как раз, что только подозреваешь за собой. Похмелье усугубляет всякую тяжесть, и, потягивая спасительное пиво, я тупо думал о том, как это вообще можно видеть людей вот такими вот грязненькими, какими вижу я их постоянно? А ведь это от моей внутренней грязи, – думал я, глядя слезящимися глазами на окружающее, и в слабости моей мне все грезилось, как любители литературы топчут Марлиского, Сару, меня… На мутном экране похмелья дрожали лица героев Марли, и сквозь шум в ушах доносились их голоса:
– Какая любовь?! – настоящий невроз, истерия, – говорил Сидоров, а Сара ему отвечала, что, в таком случае, всякая любовь истерия.
– Нет, не всякая, а вот бывает невроз. Его нарочито – хоть, может, и бессознательно – вызывают в любовнике, а лекарством от этой болезни ставят себя. Вот я, скажем, невротически в вас влюблен, – обратился Сидоров к Томочке. – Так вы и есть лекарство для меня: вас вижу и успокаиваюсь.
– Вы хотите сказать, что человека вгоняют в лабиринт? – спросила Тома.
– Ну да, а там минотавр: болезнь, отчаяние, безумие.
– Все верно, – заметила Сара, – вы попадаете в лабиринт, если женщина вас не любит, а если любит – она, как Ариадна, дает вам нить…
Пустую надежду, – подумал я, делая глоток пива и ежась, как от холода, – подумал, вспоминая свой последний разговор с Софьей. Эта нить еще не оборвана, но выведет ли она меня из тупика?
Прав тот, кто скажет вам: любовь – не радость, не сладость, не счастье, но нестерпимая боль, исступленность, от которой одно только и есть лекарство – соединение. Но разве кто-нибудь спутает пенициллин с воспалением легких? Нет, и потому чувствуется что-то подмоченное в счастливой любви. Эрос – алканье, и это алканье есть дело души, в то время как остроумно устроенные тела прекрасно обходятся простым совокуплением – тем, что погружает дух в сон, отнимая у него подлинную реальность – любовь. Так что же я буду делать с Софьей? – куда ее дену?.. О, лучше б она и вообще не пришла. Так, предаваясь раскаянию и самоограничению, размышлял я de vanitate hundi et fugu saeculi, то есть о суетности мира и быстротечности жизни, – ибо был я с похмелья и не знал еще, придет ли сегодня Софья.
Она пришла. К вечеру я пошел на Рождественский бульвар, уже растеряв свои мрачные мысли (глупые обиды), – спокойно пошел, уверенный в себе, сел на лавку, закурил сигарету, выпустил красивое колечко дыма, поддел его пальцем, рассмеялся – просто от переизбытка в душе.
Вот таким вот, смеющимся, и застала меня Софья: она выросла передо мной вдруг, внезапно, – явилась и ошарашила меня. Я смотрел на нее и снова молчал. Милое лицо, совершенно черные волосы – и при этом слегка весновата. И все эти линии – линии носа, бровей, губ и щек были так хорошо, так удачно подобраны, с таким безошибочным вкусом найдены, что я возликовал рядом с ней и весь с головой погрузился в любовное созерцание.
На ней было довольно свободное синее клетчатое платье, на шее – кусок белого кружева, и на ногах белые же носочки с дырочкой (я заметил) у безымянного пальца. Эти веснушки и дырочка на носке! – малюсенькая дырочка размером со спичечную головку.
И к тому же я видел, что Софья уже пересилила свой страх передо мной, а лучше сказать: страх перед тем, что взошло в ней за эти дни. (Малая закваска квасит все тесто, читатель.) Позднее она мне расскажет свой сон в эту ночь: как стоит она над морем на высокой скале с каменным парапетом, и вдруг налетает ветер, «Готовая вот-вот сорваться в бушующее море, я борюсь с ним».
– Ну и как, сорвалась? – спрошу я.
– А я еще тогда не знала, – ответит она, прижимаясь ко мне. Но все это будет потом, а сейчас Софья, удивленная моим молчанием, говорит:
– Ну вот, как видите, я вас все-таки не обманула.
– Отчасти, – отвечаю я, – ведь вы обещали меня обмануть, и если то была истина, получился обман; если же ложь, то вот истина: вы пришли.
– Ах, вот что? – улыбнулась она. – Ну, так у нас на встречу было два дня: на первый я солгала, на второй же сказала правду. Верно?
– Конечно! И как нравится мне ваша доброжелательность.
– Ну, вы ее преувеличиваете, наверно.
– Никак! – когда я вас вчера не дождался, я стал думать о вас, воображать себе наш несостоявшийся разговор…
– И навоображал – день-то был ложный.
– Но именно потому я воображал истину.
– Зато, значит, сейчас не то что-то воображаете.
– О, с вами я не боюсь быть глупее, чем есть, и это очень умно с моей стороны.
– Я вас делаю умнее?
– Вы вселяете в меня смелость городить все, что ни взбредет в голову…
– Так вы бредите?
– Скорей – вижу сны.
– Ага, значит, я ваш сон.
– Вы мне сами себя истолкуете…
– Вас!
– Меня? Это как?
– Если хотите, я могу погадать на кофейной гуще, – сказала она, улыбаясь и (такой удачи я не ожидал) очень мило пригласила к себе: – Выпьем чашку кофе…
– Прекрасно, а я запишу…
– Вы что, писатель?
После вчерашнего провала меня это больно задело, но я сказал:
– Да – на скрижалях души. Но с чего же вы взяли?
– Так… – она помолчала. – У вас внешность артистическая.
– Я пишу под псевдонимом Ипполито Риминальди и, если повезет, сделаю вас героиней своего романа.
– У вас там найдется для меня место?
– Конечно, ведь вы уже и так героиня…
– О, это было…
– Все равно – вас будет безумно любить мой главный герой.
– А я его?
– Тоже, конечно. Причем надо будет написать от первого лица…
– Вы так думаете?
– Да ведь это же в моей власти, Софья.
– Как бы не так!..
– Уверяю, любовь неизбежна – по сюжету.
– Ну, если это истина, то это ложь.
– Но ведь если это ложь, то это истина.
– Несносный софист, – рассмеялась она.
– Здесь вот, Софья, вы правы, – отвечал я, тоже смеясь. На этом закончилось наше ироническое пикирование…
Остановись, Гермес, – остановись, отложи перо в сторону и спроси своего читателя, неужто он верит тому, что ты здесь сейчас понаписал? – читатель, неужели ты веришь всему этому? Нет? Ну, так я продолжаю: рассмешить женщину, которую любишь и которую собираешься соблазнить, – наипервейшее дело.
Мы вошли в квартиру, которую совсем еще недавно я видел во сне. Софья дала мне смолоть кофе, и, вращая мельницу, я нес всякий вздор. Софья тоже что-то такое говорила – мы знакомились.
Кофе вышел отличный! – это было как раз то, что нужно мне было для окончательного возвращения в колею, – он ударял в голову, и я пьянел его крепостью, все поглядывая на Софью, присевшую на диванчике с чашкой в руке. Она объясняла, как надо для гадания пить кофе, как, выпив, «грамотно» перевернуть чашку на блюдце, как сосредоточиться. И я пил ее голос, вбирая в себя его колебания, настраивался на них, вибрировал ими, растворялся ими в себе.
Я выпил свою чашку, перевернул ее, поставил на блюдце. Мы подождали, пока отпечаток кофейного моего сна не просох, и вот уже Софья берет в руки чашку. Она долго всматривалась в ее глубину, вертела ее так и сяк, несколько раз покосилась на меня подозрительно, а потом вдруг спросила:
– Все у вас в порядке? – что-то уж больно черно на дне – а?
– Вроде все… есть, впрочем…
– Есть, есть, – усмехнулась она и вновь углубилась в узоры. Наконец начала так: – У вас нет никакого, то есть абсолютно никакого интереса к внешней жизни. Были раньше какие-то устремления, но теперь то быльем поросло, и по этим следам уже почти невозможно ничего сказать. Вы удушили в себе все, что не связано с вашей личной жизнью, а были бутоны, из которых могли бы вырасти… Вы могли стать кем угодно: изобретателем, художником… я не знаю – могли бы сделать хорошую карьеру. И люди раньше так и смотрели на вас – вы подавали им какие-то надежды. Теперь уже нет! Вы, собственно, кто по профессии?
– Я кончил физтех, но это было давно.
– Вы что же, физик?
– Да нет…
– Скрытничаете. Еще должна вам сказать, что вы очень сухой человек – вы, быть может, даже никогда и не плакали, а если и плакали, это были холодные слезы – вода. Вы не способны и смеяться. Да, но я забыла сказать: в той вот внешней жизни прорастает что-то – вы вернетесь к людям… Вам придется пробиваться назад через какую-то толщу, и вы изберете средний путь – вы будете хитрить, чтоб вас поняли и приняли. Впрочем, иначе вы и не можете – прямые дороги не для вас…
Я молча дивился тому, что она говорит, и, хоть было это, может быть, не совсем правильно, все же – так разделать мое прошлое… И этот тон! Софья сидела прямо, быстро покачивала ногой, перебирала руками чашку и раздувала ноздри, как гончая, взявшая след. На виске у нее трепетала нервная жилка, – жилка, которой так хотелось коснуться губами.
– Но зато в вашей внутренней жизни, – продолжала она, – наворочено слишком уж… Гора, которую венчает человек с посохом. Человек этот – вы. Посмотрите, как у вас фигура похожа.
Я встал, пересел на диван, из-за ее плеча стал всматриваться в плетенье струящихся линий.
– Это, скорее, одинокая сосна на утесе, чем моя фигура, – сказал я. Софья резко обернулась, обдав мои губы волною волос:
– Уж позвольте мне самой знать, что я вижу.
– А вы знаете, что сейчас я вдруг увидел? Смотрите: вот отсюда растет дерево с плодами (вот с этого пригорка, – показал я), – а вот женщина срывает плод и подает его коленопреклоненному мужчине. Согласитесь, что это не выдумка.
– Действительно, что-то такое есть, – нехотя согласилась она, – но ведь это же то, что вы сами хотели бы видеть. Нельзя, – добавила она, задумчиво глядя в чашку, – гадать самому себе. Сидите тихо, не мешайте, – и продолжала: – Вы хитры, вы всегда готовы выдумать каверзу. Вы попираете ногами женщину, даже девочку. А, может быть, куклу?
– Куклу.
– Но, все равно, очень много женщин. Вы – Дон-Жуан. Кстати, кто вам связал этот свитер?
– Купил в магазине.
– Угу. Ну, так вы нечестны и способны украсть. Правда это?
Я сидел рядом с Софьей и, вдыхая воздух, ее окружавший, впал в бредовый экстаз: было тихо, темно, одиноко; лишь частые звезды мерцали вокруг, как осколки солнца – священного фиала, разбитого кем-то о полированный мрамор небес, – драгоценное вино на закате дождем пало в море, и теперь опьяневшее море мерно плещется у моих ног – темное, тускло-бархатное, местами позлащенное бликами новой луны, – медленно накатывает волна, и я со стороны слежу, как схватывает она мою стопу, обнимает, целует, но, не в силах ее удержать, возвращается в море, вздыхая.
– Это правда? – повторила Софья.
– А что тут такого? – Впрочем, ведь не пойманный – не вор.
– И вы крали? Тут получается, что крал… и будете…
– Раз получается, буду.
– И вы ужасно скрытны…
– Почему? – спросил я, подвигаясь поближе.
– Сейчас ведь начнете противоречить и выкручиваться, – сказала она, показывая мне средь узоров норку, а в норке – мышку. При этом смутилась и добавила, отстраняясь: – больше я ничего вам не буду показывать, – и продолжала гадать так: – Но вы удачливы, – удачливы, и все у вас так ловко должно получаться – вот и сейчас вы совершили какой-то прыжок, который увенчается успехом… (Сказав это, она взглянула на меня.) вообще, очень много прыжков – вперед, назад, в сторону! – вы не живете, а танцуете, и нет ничего для вас определенного, устойчивого, невозможного. Вы парите, вы стараетесь оторваться от твердой земли, она вас гнетет, вы используете ее иногда для прыжка, но и только… И потом, вы никого и ничего не боитесь – только вот этой тяжести… И вы влюблены…
– Влюблен? А в кого?
– Ну, это вам лучше знать…
– А простите… этот прыжок, – сказал я и опять к ней придвинулся, – который, вы говорили, увенчается успехом… покажите мне его…
– Прыжок? Вон он… Видите? Волк или еще какой хищник (в языках пламени, видите?) – прыгает на человека и уже настиг его, а человек только слабо защищается…
– А почему же так – слабо?
– Так уж! Ну, а теперь откроем дно.
– ?
– Опусти палец в чашку… нет, большой…
– И что?
– Надо коснуться дна – вот так вот.
Она взяла мой палец, обмакнула его в остатки кофейной гущи, затем заглянула в чашку и поставила ее на стол.
– Ну, что там? – спросил я.
– Так…
– А все же?
– Вы плохой человек!? – полуспросила-полуответила она.
Я вздохнул, мы продолжали сидеть на диване, рядышком, думая каждый о своем. Я чувствовал, что она как будто чего-то от меня ждет; но сидел и ждал чего-то от нее. За время своего гадания Софья сникла и сделалась грустной. Сумерки уже начали вползать через окно, а мы все сидели, боясь шелохнуться. В такой ситуации, читатель, – в состоянии равновесия – я превращаюсь в буриданова осла. Впрочем, я уже прыгнул, но что-то никак все не мог приземлиться, хоть хорошо понимал: стоит ей или мне шевельнуться сейчас, и неустойчивое это равновесие нарушится, чаши весов качнутся, колеблясь между землею и небом, – падение вознесет нас. Но мне не хотелось рушить идиллию.
Ах, был бы художник! – вы тогда бы увидели, сквозь жемчужную дымку светящихся лаков, овальный стол на единственной шаткой ножке, две чашки на блюдцах (одна перевернута), открытую сахарницу, надкушенное яблоко – молочно-белые предметы на ореховой столешнице… А дальше, более смутно, – диван, на краешке которого сидит красивая женщина с пушистыми черными волосами, – сидит прямо, скрестив руки на коленях. Она смотрит вдаль – на вас, досточтимый читатель, – но все никак не может разглядеть вашего лица. Точно так же и вы только угадываете, что она чему-то улыбается, прикусив верхнюю губу. А рядом, плечом к плечу с ней, сидит человек – это я, – сидит человек неопределенного возраста, пропорционально сложенный, в черном. Его взгляд выразителен и, быть может, напомнит вам портрет Ипполито Риминальди работы великого Тициана. Этот человек никуда не смотрит, выглядит немного виновато и, кажется, готов просидеть так еще хоть целую вечность. Но вот он слегка оборачивается, берет руку Софьи (это она) и целует. Она чуть вбирает голову в плечи, но не отнимает руки. Он целует еще и еще, привлекает ее к себе – она слабо противится, но, попадая в объятия, сникает. Он осторожно целует ее сначала в висок, потом в губы… Я нежно целую ее в губы, она вначале застенчиво, но все более и более увлекаясь, отвечает мне… Сердце мое скачет, как лошадь, берущая барьер, как неуклюжая на земле ласточка – прыг-скок! – и вот она уже в родной стихии и режет воздух косыми крылами, изумляя своим прихотливым полетом одинокого пешехода – эй, путник! ты завидуешь мне?
Читатель, может быть, забрюзжит здесь в рифму: «Эх, распутник, – да что с тобой говорить-то?» Но я влюблен, читатель, – бывал ли ты влюблен когда-нибудь?
Еще с древнейших времен нам известно, что quod omne animal post coitum est triste. То есть: каждое животное после соития становится печальным.
– Что с тобой? Как ты холоден стал, – говорила Софья, гладя руками мое лицо. Я бросил огрызок яблока в пепельницу и закурил. Било одиннадцать. Увижу Сару сегодня или никогда, – решил я, отвечая Софье так:
– Я не холоден, а печален – ибо должен идти…
– Ты вернешься?
– Сегодня уже нет.
– Возвращайся, я буду ждать.
Я, наклонившись, поцеловал ее в висок, в бьющуюся под моими губами жилку:
– Постараюсь.
И так далее, читатель, и так далее, и так далее, и так далее…
Выйдя на воздух, я увидал сценку, которой, пожалуй, и завершу уже эту главу. Но, хотя нет сомнения в том, что она (эта сценка) имеет некое символическое значение, я бы предостерег читателя выводить отсюда скороспелую мораль. Какое значение это имеет? – нелегко так вот сразу сказать какое.
Проходя через Трубную площадь, я заметил маленького зверька, бегущего с Цветного бульвара. Сегодня днем там стригли газоны – вот и спугнули зверька, который теперь, как и я, пересекал дорогу; и по его, зверька, движениям: стремительному, скачущему, стелющемуся, опережающему себя напряженному аллюру, царапающему асфальт, видно было, как он боится, как он взбешен, как он измучен диким грохотом мотокосилок, поднявших его с насиженных мест, – как он взбешен и сбит с толку этим грохотом и этим асфальтом, за камень которого ну ни в какую нельзя зацепиться.
Из-за поворота медленно выруливал троллейбус. И вот они стали сближаться – зверек выбивался из сил в прямом своем и верном рвении угодить как раз точно под колесо. Я вскрикнул, сердце рванулось, послышался четкий хлопок – пок! – я вспотел. Подошел посмотреть – это была обыкновенная серая крыса (Rattus norvegicus. L.), троллейбус расплющил ей голову. Наверно, она была еще жива, хоть и обездвижена; но крысы переносят все мыслимые и немыслимые болезни, и я поспешил прочь, чтоб успеть на роковой троллейбус, и сел в него, раздумывая: какие же выводы можно отсюда извлечь?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































