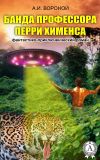Текст книги "Побег. Роман в шести частях"
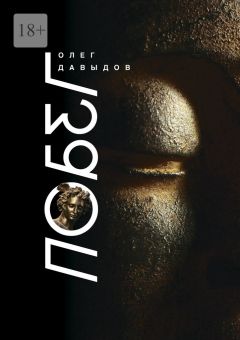
Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
И вот теперь я в нерешительности пожимала плечами, когда Геннадий пригласил меня в гости.
И все же пошла. Для начала я лучше кого-то другого, – такова была первая мысль, – я все ж-таки знаю себя, как пять пальцев, и, если с кого начинать, так с себя… Вот только вдруг это расслабленный – мало радости! – а, скорей всего, он – это именно он. Или – еще того хлеще – Марина Стефанна (не ее ли все это проделки?) – тоже знаете… все-таки опять женщина… хотя!.. Впрочем, что гадать-то? – может, это вообще кто-нибудь третий, десятый?.. Может, сегодня все обменялись телами? Этим надо пользоваться – в целях познания сущности.
Вас, наверное, удивляет, почему я так мало места уделяю ощущениям в новых телах? Читатель, а как описать ощущение? Тем более – новое? Что-то было, конечно, но что – я почти что забыл. Ведь все это ново лишь малое время, а потом привыкаешь и перестаешь замечать. Помню только, что, будучи Сержем, я чувствовал постоянный зуд в промежности, а теперь, когда стал Томочкой, у меня сильно чесались груди. Никаких подобного рода неприятностей в своем удобном ладном теле я не знавал отродясь.
Что же касается непосредственно эротических ощущений, то скажу прямо: Серж, хоть и красавец-мужчина, и усач-гренадер, а мне его жаль – возможности-то у него большие, а толку никакого – он, знаете ли, испытывает (да-да, ты, Серж, испытываешь) в своем теле просто какое-то щекотание. И – ничего больше. Видно, не слишком полезно иметь стальные нервы и двухметровый рост. И я счастлив, что оставил это громадное глупое тело, переселившись в Томочку. О, эта-то выше всяких похвал, и здесь мой язык бессилен описать, что я чувствую: это… что-то просто даже почти что и не мыслимое… Во всяком случае, надо признаться: ощущения мужчины (мои ощущения) по сравнению с моими (Томочкиными) – что зрение паука в сравнении с человеческим.
Впрочем, я отвлекаюсь.
Ну и тюфяк же оказался этот Геннадий! – он, оказывается, действительно привел меня пить чай и рассказывать о птичках, которыми у него заполнена вся комната: клетка на клетку. Какая дисгармония! – такой красивый, молодой человек (я – представьте себе!) и вот – разводит птичек и щебечет о них безумолку.
Двойные чувства владели мной, противоречивые чувства: с одной стороны, я хотела отдаться (ведь себе же, себе! – разве есть в этом что-нибудь предрассудительное?), а с другой, брезгливость к этому паралитику с его нечистыми штудиями отвращала меня. Ни я, ни Томочка, по-видимому, не были достаточно испорчены, чтобы найти какую-то прелесть в подобном. Соблазнить его ничего не стоило, он и так-то сидел, весь истекая слюной, но отдаваться своему собственному телу? – это вроде как онанизм. Но я же женщина!!! – и так далее – сомненья, страданья…
Геннадий вышел на минуту, потом вернулся, сел, вздохнул – и вдруг произошла разительная перемена: глаза его сделались маслянистыми, рот раздвинула похотливая улыбочка, он приподнялся, подошел:
– Кстати, о птичках!
Потом, вдруг, схватил меня грубо, бросил, как сноп, на кровать, полез под юбку – нет, это не расслабленный! – и, не успела я рта раскрыть, наполнил меня, обдал морским ветром, и я растворилась в этом порыве, – растворилась в нем так, что стало невозможно различить, где чья рука, нога; где чей рот, нос… – я растворилась куском сахара в этом биении… бум-бум-бум… – что это случилось, кто это стучит? – ах, мое сердце! – я раскрываю глаза, – какая легкость, какая чистота вокруг! Надо мной склоняется знакомое лицо – да это же я! – он целует меня в губы, я слабо шепчу про себя:
– Вот за что меня женщины любят…
– Что?
– Геннадий, я хочу сказать…
– Я не Геннадий, но Евгений. А не мало их у тебя было, правда? – спросил он, ехидно улыбаясь.
Ну почему мужчины после всего, что было, становятся такими хамами?!. – почему, читатели? И ведь, если он не Геннадий, мог бы сообразить, что… Э, да он еще ничего и не знает – пришел, увидел, победил! Хорошо быть женщиной, вот только… Кстати!
И я спросила:
– Евгений, а ваша фамилия не Марлинский случаем?
– Можно подумать, что ты меня первый раз видишь пл…
– Ну так смотри на кого ты похож, – сказала я, подавая ему зеркальце. Он взглянул и сердито ответил – по врожденному своему тугоумию вообразив, видимо, что перед ним не зеркало, а мой портрет:
– Я на него не похож и зовут его не Геннадий…
Но тут вдруг сообразив, что губы мои в зеркале движутся и что, следовательно, это вовсе не мой портрет, а его собственное зеркальное отражение, – сообразив это вдруг, он всплеснул руками и бросился бежать. Как и все!
И бог с ним! – как он меня измял. Кое-как привела себя в порядок и потащилась домой с ощущением измочаленной шлюхи.
Глава Х. Метаморфозы (окончание)
На Сретенском бульваре мне встретились знакомые тела: Серж с перевязанным ухом и совершенно голая Марина Щекотихина, трогательно ухаживающая за ним. Серж явно узнал меня (Тому, читатель), – узнал, но виду не подал. Не заметил! А Марина Стефанна, увлеченная своим новым кавалером, и вправду не замечала ничего вокруг.
Значит это не Томочка, значит опять перемены, значит дома я встречу кого-то другого, если кого-нибудь встречу вообще. Впрочем, возможно, что мне показалось – все-таки совсем голая Венера на улицах Москвы…
Через пять минут я звонил к себе. Дверь открыла Марина Стефанна, завернутая в простыню.
– Как вы здесь очутились?
– То есть как, милочка? – отвечала она.
– Я вам не милочка! Как вас зовут?
– Мария…
Уж тут я взбесился – «Мария», читатель!
– А не Марина Стефанна?
Тут она стала оправдываться, впрочем, – весьма неискусно:
– Это со сна! – страшный сон мне приснился. Мне снилось, что я превратилась в калеку – это ужасно! – едва ходишь, вся трясешься, все болит. А потом еще и в Марию… вот я и сказала…
Сон она видела? Нет, читатель, это не Томочка. И никак не Марина – та сейчас где-то с Сержем. Или Серж уже с Томочкой? Нет – не Марина! – разве боги видят сны? Откуда известно, что это был сон? Нет, она не богиня. Все врет! – я уже знаю: это расслабленный. Ведь ему одному только выгодны эти обмены. О, а мне-то уж как надоело быть женщиной! Хватит с меня подчиненно-почвенного положения, когда всякий Марлинский может вот так вот прийти, надругаться, подавить твою женскую гордость и честь…
– И ты часто видишь подобные сны? – спросила я вкрадчивым тоном.
– Да как тебе сказать…
– Хватит ломаться! – заорал я, уже окончательно забывая себя, – хватит! – и, схватив мнимую богиню за прекрасную шею, стал душить.
– Ах, что ты делаешь? – хрипела она, – отпусти. Да за что же?.. Я видела… Страшный сон… О… о птичках…
Я ослабил хватку:
– О птичках? О каких – орлах? канарейках? Оборотень, чтоб ты сдох!..
– Да что ты?
– Что я? – и опять я сдавил это бело-лилейное горло, – сейчас удавлю тебя, сука! Трясун, паралитик, калека…
– Но это ведь только приснилось! – шипела она, – я тряслась, ходила среди клеток… кормила птиц!
Я плюнул, разжал свои пальцы – ну как его изловить!?
Не портить же знойно-прекрасное тело Марины Стефанны? – оно-то ни в чем не виновно.
Однако, откуда взялась неколебимая моя уверенность в том, что в этом добротном лоснящемся теле поселился убогий урод? Что это у меня за догматическое богословие такое? – женщина утверждает, что видела сон, значит уже и не богиня. А может она богиня иного характера? И что с того, что минуту назад она была на бульваре? – ведь все здесь так зыбко, ведь можно представить себе, что я начал душить одного, а закончил – кого-то другого… что-нибудь в этом духе.
Но, читатель, мне некогда было раздумывать – я был в аффекте, я энергично душил! И пусть то было «энергией заблуждения» (Лев Толстой), пусть по ошибке душил я Марину Стефанну (еще бы не по ошибке! – душил ее тело, а хотел удушить ведь калеку), пусть, наконец, в тот момент я совсем никого не душил – все же был я на верном пути. Трезвость придет!
Зачем же душить? – подумал я, взяв себя в руки, – и прогонять его незачем – он-то как раз мне и нужен.
– Марина, – сказал я, – прости – со мной такое бывает. Затмение! Что ж это были за птицы?
– Не знаю. Зачем тебе?
– Так – хочу тебе сон толковать.
– Толковать?
Читатель уже догадался: у меня в голове бродили какие-то мысли. Нужно было лишь выиграть время, привести их в порядок. К тому же, толкуя сны, очень многое можно узнать… И я начал:
– Во-первых, птиц видеть – к радости, птица в клетке – семейное счастье. Замуж пойдешь!
– Да? – удивился калека. – А когда много клеток?
– Много счастья. Что, замуж-то хочешь?
Лицо и шею Щекотихиной начала заливать пунцовая краска – наверно стыдливости. Она напряженно молчала, смотрела букой – не издеваюсь ли?
– Ну вот, а что калекой была, – продолжал я, – это удача в любви. Очень хороший сон, зря ты боялась. Впрочем, можно иначе истолковать – во всех подробностях. Попробовать?.. Что было еще-то в той комнате?
– Ничего…
– Ну, мебель какая?
– Только красный диван.
Читатель, узнай: никакого дивана в той комнате (речь, несомненно, идет о квартире Геннадия) не было. Были обычные стол, два стула, кровать; но диван – это нет. Не очень умен наш паук-птицеед: виляя таким образом, он не сумеет убедить меня в том, что он – Марина Стефанна. А ведь именно эту весьма удобную возможность я сейчас ему предоставил, начав толковать его (уверен!) мнимый сон. И я спросил:
– Что, больше ничего не было?
– Нет, только еще клетки с птицами.
– А где это было?
– Не знаю. Там окна выходят на бульвар.
Ну зачем ему врать – а, читатель? Ведь я уже знаю, что окна выходят во двор, и бульвара там нет даже близко. Зачем?!
– Ну а вообще, как все это выглядело?
– Было очень страшно, гадко, неприятно – это был какой-то кошмар! Кошмар, понимаешь?
– Ну-ну, оставь. Сколько окон?
– Два рядом.
Вот это правильно – так и должно быть. Действительно было в той комнате два окна (только конечно не на бульвар). Я пересел в кресло, увидел свое отражение в зеркале: совершенно замученная, усталая женщина – морщинки у глаз, лицо какое-то пористое, жирное. Еще бы: такой бурный день – просто безумный! А тут еще глупые сны.
И с чего это Томочка нравится Сержу? – подумал я, разглядывая ее отражение. – А ведь эта дурацкая прическа (она провела рукой по своим волосам), идиотически выгибающиеся кудри без всякого цвета, этот курносый носок и дебильные глазки – все это так ему нравится (я испытал) – я любил это, будучи Сержем, и чувствую жалость теперь, сам став Томочкой. Впрочем, так жалко, как нынче, она никогда не смотрелась. Хоть я и всегда находил в ней поразительное сходство с нанайской ряшкой Павла Первого, но сейчас это был уже совсем какой-то развенчанный император. Впрочем, она за собой, вероятно, следила, а я за ней – нет (так только – наблюдаю со стороны).
Голова кружилась, томящая слабость разлилась по всем моим членам, и легкая тошнота подступала к горлу. Неожиданно я вдруг почуял горячие влажные волны, прилившие между ногами, и… от ужаса вздрогнул, остолбенел, еще просто не веря… У меня началась менструация – обыкновенное женское.
Странное чувство, читатель, – такое впечатление, что с твоим телом что-то происходит, а ты ничего не можешь поделать, – как во сне.
– И там так ужасно пахло, – произнесла между тем Щекотихина.
– А! Где? – воскликнула я. Я ушла в себя, так, что все позабыла вокруг. Надо было быстрей что-то делать. Я засуетилась. Что мы делаем в таких случаях, милые подружки? – вата? бинт? черт возьми! – у меня же и нет ничего.
– Ну, в этом сне с птичками – каким-то навозом.
– Да? сильно пахло? – спросила я, – это ужасно, Марина, ужасно – просто ужасно (черт!) – Слушай, у тебя нет ваты?
– Откуда? – ты же видишь мне нечего надеть. Сама хотела просить…
– Что ты, у меня ничего нет для тебя – вскричала я в панике и добавила тише: – пожалуйста, поставь чайник – я сейчас приду.
Натирая промежность сырыми трусами, я беспорядочно рыскал, метался в поисках хоть чего-нибудь подходящего к случаю. Нашел чистый носовой платок и уединился в туалете… Дальнейшие подробности уже не литературны.
Но то, о чем я там думал, будет уместно предложить на рассмотрение публики. Думал о многом! И, во-первых, я проклинал свою злую судьбу, попустившую мне стать менструшкой, приведшую в этот проклятый сортир… А во-вторых, я пытался умом охватить масштабы всех этих обменов. Пока было ясно лишь то, что я – Томочка, расслабленный – Марина Стефанна, Серж – скорей всего пришел в себя, Марина – видимо, Геннадий, тогда Томочка – во мне. Но может быть подключены еще какие-нибудь тела и лица? Потом, непонятен сам механизм: кто здесь главный виновник? – Геннадий? Марина? – черт их знает! а может опять тарелочники? О, это было бы просто ужасно! – тогда они мне, пожалуй, внушат, что я – Томочка, и ходи с этой ватой. Нет, об этом и думать нельзя – страшно! – подслушают, превратят в Лядскую, в Лоренца, – и притом, может быть, навсегда…
Хоп! – вот тут-то и выход! – ведь тогда все станет на свои места. Прекрасно! – я понял, что, если я в теле Томочки буду сознавать себя Томочкой, то и буду Томочкой; тогда как Томочка во мне – станет мной, – то есть, я вернусь в себя. Прекрасно, но?.. Я вышла на кухню несколько ободренной и сразу спросила:
– А что за птицы были в клетках?
– Разные, – канарейки, чижики, чечетки. Они раскрывали рты, но не пели…
– Как не пели?
– Так. Как в немом кино: совершенно немой сон.
Ну а это тебе еще зачем? – действительно, совершенно не твой сон. Меня этот сон что-то стал беспокоить: какой-то «красный диван», «пахли», «не пели» – зачем он это выдумывает?
Вполне вероятная вещь, что среди моих читателей окажутся и тугодумы, так вот для них объясняю: если из тела Марины говорит со мной именно Лоренц, и если он хочет убедить меня в том, что, побывав в его теле (и в его доме), богиня вернулась в себя, и в себе по сию пору пребывает, – если он хочет, чтоб я в эти байки поверил, – поверил в то, что сейчас со мной говорит Щекотихина (но не калека); – он (трясун) должен в точности описать то место, где она (эта русская Венера) была, пока он сам был здесь, – описать в точности, а не рассказывать небылицы о немых птицах, каких-то особых запахах, несуществующих бульварах, красных диванах.
– А ты садилась на этот диван? – спросил я.
– Да – я на нем отдыхала от тряски.
– Ничего не понимаю…
Если бы передо мной была и вправду Марина Стефанна, и если бы ей действительно приснился сон, я бы истолковал его так:
Марина-то уже женщина в летах – ей уже побольше сорока. У нее в жизни уже немало всего было – никак она не весталка, Венера она, одно слово, и потому так много клеток с птичками, которых она кормит. Естественно, многих за свою жизнь накормила она своими прелестями, эта хтоническая богиня. И вот уже приходит что-то вроде угрызений совести: дрожащей рукой она кормит птиц, но и привычным жестом смиряет дрожь этой руки. Очень тяжелый, неприятный, неопрятный сон ей снится: она – расслабленный мужчина среди этих ужасных запахов. Не приснится такой сон молоденькой девушке – нет, только сорокалетней жрице может присниться такое – жрице, знающей о любви все – всю подноготную. И она отдыхает от тряски на красном (что за цвет!) диване – и перед ней два окна на бульвар…
Эта пахнущая навозом комната с немыми птицами (подавленными желаниями?) – ее видавшее виды тело; двумя глазами-окнами смотрит она из него на бульвар, но нельзя ей, сорокалетней даме, на бульвар – и птицы в ней замолчали, и душа ее парализована, вся дрожит… Неужели это симптомы старости? Неужели опыт не ведет к пресыщению, к покою, но только – к угару вынужденно усмиряемых страстей? – нет! – и привычной рукой успокаивает она свою дрожащую душу, и все-таки кормит своих пахнущих примолкнувших птиц, а потом отдыхает на красном диване – возраст берет свое.
Ах, Марина Стефанна, ну кто б мог подумать, что снятся вам подобные сны, что вас посещают подобные мысли, – вас, – знающую себе цену красавицу. Нет конечно! – не посещают вас такие мысли, а если и залетит случайно какая, сразу ее изгоняете вы, привычно смиряете дрожь и кормите своих птиц досыта (разве же я не знаю?). Но в теле-то эти мысли живут, тело-то ваше…
Стоп! – вот теперь все действительно ясно: расслабленному, действительно, примерещились и два окна на бульвар, и красный диван, и немые птицы. Не хотел он меня обмануть, а просто тело мадам Щекотихиной ненароком подсунуло ему эти образы, но сама-то она что за птица у нас получилась!
Разъясняю на всякий случай, что наш паралитик сидит ведь теперь как раз в этом расхоленном теле и чуть лишь только не мыслит его (тела этого) штампами. Ведь я тоже подчас рассуждаю, как Серж или Томик – не так ли? Все-таки легче, но дальше-то что?
А дальше раздался звонок.
Теперь, черт возьми, препикантная сцена: я пошел открывать – на пороге стояли я и Марлинский. Представьте себе: я с открывшимся ртом уцепился за дверь (подобное уже описано – Томочка, заставшая нас с Сарой в чулане), а за дверью, опять-таки, я, но в дым пьяный, лыка не вяжущий, весь растерзанный и с подбитым глазом. Рядом со мной забулдыга Марлинский – тоже хорош! – говорит мне:
– Привет, Том, ты как здесь?
– Не твое дело!
Я втащила себя в коридор, а перед Марлинским захлопнула дверь. Он еще позвонил, но я не открыла. Между тем, я по стенке прошел в свою комнату, бухнулся на кровать. Горе ты мое!
– Кто это там? – прошептала Марина Стефанна, выглядывая из кухни.
– Муж пришел.
– А-а-а!
– Я сбросил с себя башмаки, кое-как раздел свое обессилевшее тело (что с тобой сделали!), укрыл, пошел намочил платок, приложил к синяку. Я во сне все бурчал, беспокоился.
– Ну, что будем делать? – спросил я, вернувшись на кухню.
– Не знаю.
«Не знаю – не знаю!» – а ведь этот расслабленный мне уже на фиг не нужен! Хлопоча над своим пьяным телом, я все понял уже без него – светлый ум!
Да, читатели, я все отчетливо понял, осознал! – о, бедняк-паралитик! – он ведь просто попался, он попал в тело нашей Марины Стефанны, как птица в силки.
– Поди-ка сюда, посмотри, – позвал я богиню, открывая дверку в кладовочку (есть и у меня дома комнатка без окон).
– Что?
– Придется тебя здесь положить.
Марина вошла, я прихлопнул дверь, закрыл на замок.
– Что такое!? – кричала она.
– Что такое? – а посиди пока здесь – уже поздно. Кстати, как твой попугай? – его надо кормить. Да и кошку ведь тоже, а то обязательно съест попугая. Поеду, заодно привезу тебе платье. Тебя звать-то как? Геннадий? А меня Тамара – ты ведь не знал, а? – так говоря, приводил я в порядок свою Лядскую женскую внешность. – Ну, чао, милая, я побежал.
«К концу похождений и я не могу удержаться от смеха», – говорит Вергилий где-то в «Георгиках». Вот и я тоже не могу, достославный читатель. Посмеемся же вместе – ведь ты отлично понимаешь, что направлялся я отнюдь не к Марине Стефанне, а к Геннадию Лоренцу. Когда я Томочкиным ногтем вскрыл замок и вошел в эту пресловутую комнату (тело Щекотихиной, как было сказано), с кровати ко мне задрожал расслабленный голос:
– Тома!
– Марина?
– О, что со мной сталось?!?
– Ничего, полежи пока…
Я направился к клеткам, открыл одну дверцу, поймал птичку. Куда же теперь ее посадить?..
Ты понял, читатель, в чем фокус? – расслабленный пересаживал птичек из клетки в клетку.
Куда же ее посадить?.. Нет, эту мы, пожалуй, здесь оставим – я вернул птичку на место. А вот помните, он давеча зачем-то выходил? – так вот зачем он выходил, оказывается: я пошел на кухню и, естественно, нашел там еще две клетки с птичками. Принес в комнату, поставил на стол, поменял птичек местами.
И тут калека вскочил с кровати, весь дрожа и вихляясь, бросился на меня с палкой.
Читатель, ты не забыл? – я ведь женщина!
– Я ведь женщина: не забывайся, брось палку! – вскричал я. Э-ээх! расслабленный-расслабленный, а откуда силы берутся?
В краткой схватке я победила – привязала его к кровати. Как он бедный затрясся! – но не оставлять же ему эту голубятню.
– Где тут я? – спросил я, но не получил ответа.
Ведь надо же как-то разобраться. Доверять ему ни в коем случае нельзя – он моими же руками в два счета упрячет меня в свое тело – и уж тогда надергаешься!.. Значит эти две клетки – Марина Стефанна (радуется сейчас у меня в чулане) и Геннадий.
– Тебя ведь Геннадий зовут?
Он опять промолчал.
Да, но в которой Геннадий? В общем, задача простая, когда она на бумаге: сиди, пересаживай из клеточки в клеточку, смотри, что получится. А только вот вдруг я пересажу сейчас Геннадия в какого-нибудь Сержа, а он тут где-нибудь рядом, да прибежит, да с палкой, а я слабая женщина… то-то! А не проще ли их пустить на свободу обоих? – черт с ними, пусть летят! – или, может, свернуть шею?
– А, Геннадий! Я хоть и слабая женщина, а птичке шею свернуть сумею. Вот только которой? – не хочется оставлять труп у себя в кладовке – этой?
Я запустил руку в клетку с канарейкой, она забилась, пытаясь спастись от меня.
– Это жестоко, – не выдержал расслабленный.
– Конечно! А людей калечить не жестоко?
– А я-то! – крикнул он, – эх, что ты понимаешь? – шлюха!
– Я шлюха!?! – да ты сумасшедший урод! Ты хоть знаешь, кто я?
Да конечно ничего не знает, ему может быть этот птичник и достался-то так же, как мне, – случайно – он же не знает, как им пользоваться, дурак!
– Ты хоть знаешь, кто я?
– Ты облезлая шлюха, – заорал он и плюнул в меня, – блядь!
Этого я не выдержал (не я – Томочка! – она сдавила птичку) – я сдавил птичку в кулаке и метнул окровавленный комок канареечных перьев в лицо ходуном заходившему Лоренцу. Он весь натянулся, в последний раз страшно взбрыкнул, разинул рот, хватая потерянный воздух, два раза чирикнул и помер.
До чего же удачно все вышло! – такова была моя первая мысль, – великолепно, отлично, сногсшибательно! Теперь-то уж все у меня в руках – этот клад! – скорей найти себя! Так! – что делать с этой пустой клеткой? – ага, так-так-так – ну что за светлая голова! – ну-ка…
И я посадил в пустую клетку Марину Стефановну. Калека приподнялся: «Тамара, да что ж это делается? – я с ума схожу!». На место! – Геннадий упал, а Марина запрыгала в клетке.
Так, – сейчас ночь – теперь этим людям будут сниться сны. Я буду им снить! – всем одно и то же: к удачной любви и свадьбе, очень счастливые сны – все будут расслаблены. И я стал загонять поочередно птичек из всех клеток в одну – калекину. Что за вещи я видел, что за чудеса: я воочию видел чужие сны, ибо из интереса будил этих спящих, чтобы спросить хотя бы их имя. Им снились разговоры со мной.
Птиц было так много – вот уже и утро забрезжило, а я все еще не нашел себя. Хотелось спать, во всем теле чувствовались неясные боли – ведь я был усталой, больной, разбитой женщиной. Голова уже слабо соображала, а я все пересаживал птиц в эту пустую клетку и обратно, все смотрел чужие сны: пока мой собственный сон вдруг не осилил меня: поехали стены, дрогнул потолок, выскользнул из-под меня стул; и вот уже я лечу и рухнул на пол…
А пришел в себя совершенно расслабленным (все болело, руки тряслись) – огляделся: на полу лежала Томочка, а я полусидел на кровати и дрожал.
В расслабленной клетке прыгал и чистил перышки симпатичный жизнерадостный щегол. «Фить-фюить, фить-фюить», – пел он, приветствуя наступающее утро.
«Фить-фюить», – а ситуация-то была даже слишком критической. Как вы помните, я привязал Геннадия к кровати – иного выхода-то ведь не было, – но я и не стал отвязывать его, пока занимался с птичками, – мало ли какие могли возникнуть неожиданности?.. Все учел, а вот то, чего следовало ожидать, – нет. Женские мозги – ничего не попишешь.
Я лежал, привязанный к кровати, и делал жалкие попытки освободиться, а мой щегленок меж тем – «фить-фюить» – выглядывал из-за дверки незакрытой клетки и уже собирался упорхнуть.
А злосчастная Томочка Лядская, как упала, так и валялась на полу – смерть застигла ее мгновенно, разве тут до закрывания дверей? Эх, ротозейка!
В общем, я был в положении авиатора, выпрыгнувшего с неисправным парашютом. Бедняга дергает за кольцо: так-сяк, но все впустую. А земля-то все ближе, а скорость все больше и больше, и лишь ветер свищет в ушах – боже мой! – и вот он с ужасом зрит неотвратимо надвигающееся, и считает удары своего сердца, и все дергает за спасительное кольцо, и не может поверить, что все уже, в сущности, кончено, – кончено для него! – и случилось это именно с ним, и последние несколько секунд отпущены ему уже только для того, чтобы как следует это осознать.
И вот, птичка вылетела – щелк! – я исчез из этого мира.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?