Читать книгу "Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография"
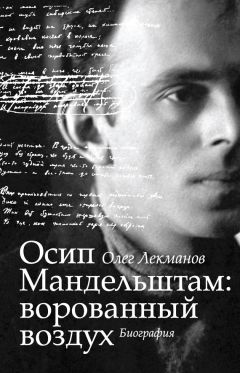
Автор книги: Олег Лекманов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Бескомпромиссно «сводя счеты» с многочисленными оппонентами (особенно досталось Блоку), Мандельштам в своем «Разговоре о Данте» заочно «примирился» с теми двумя поэтами, с которыми у него были связаны самые сладкие и самые горькие крымские воспоминания. В пятой главке эссе он доброжелательно процитировал эмигрантку Марину Цветаеву (III: 239). А в одном из отброшенных фрагментов своего «Разговора о Данте» с чувством рассказал о могиле Максимилиана Волошина (с которым он, впрочем, коротко, но дружелюбно свиделся еще в январе 1924 года): «Только сам М<аксимилиан> А<лександрович> – наибольший, по словам плотника, спец в делах зоркости – мог так удачно выбрать место для своего погребения» (III: 411).
Тем не менее история теперь уже заочных взаимоотношений Мандельштама с Волошиным на этом не закончилась. Встретив в 1937 году в московской консерватории на концерте пианиста Софроницкого Анну Ивановну Ходасевич и услышав от нее горестное известие об аресте за распространение волошинских стихов молодого математика Даниила Жуковского, Осип Эмильевич не нашел ничего лучшего, как ответить: «Так ему и надо – Макс плохой поэт»[694]694
Цит. по: Видгоф Л.М. Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. М., 1998. С. 273.
[Закрыть].
Нужно сказать, что Италия в лице мастеров флорентийской и венецианской школ XVI века заняла бы почетное место на карте не только литературных мандельштамовских приоритетов, но и его предпочтений в европейской живописи[695]695
Из произведений восточных художников Мандельштам упоминает только «гравюру Хокусая» в эссе 1922 года «Девятнадцатый век» (II: 269).
[Закрыть]. Попробуем теперь кратко наметить общие контуры этой воображаемой карты, опираясь главным образом на стихи, прозу и письма самого поэта[696]696
О мандельштамовском восприятии живописи см. прежде всего: Кантор Е. В теплокрылатом воздухе картин: Искусство и архитектура в творчестве О.Э. Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 59–68; Доронченков И. «Масло парижских картин». Из искусствоведческих примечаний к прозе и стихам О.Э. Мандельштама // Не музыкальное приношение, или Allegro affettuoso: Сборник статей к 65-летию Бориса Ароновича Каца. СПб., 2013. С. 514–547.
[Закрыть].
Живопись сравнительно поздно, лишь в начале 1920-х годов, отвоевала себе значительное место в художественном мире Мандельштама. В его стихах и статьях периода «Камня» обнаруживается поразительно мало мотивов, восходящих к изобразительному искусству. Это намек на картину Джорджоне «Юдифь» в финале стихотворения «Футбол» (1913)
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна
Юдифь глумилась…
да еще пассаж о «кукле, сделанной руками волшебника Леонардо для какого-нибудь князя итальянского Возрождения» в рецензии на «Фамиру-Кифареда» И. Анненского (I: 192).
«Юдифь Джорджоне», улизнувшую «от евнухов Эрмитажа», встречаем и в мандельштамовской повести «Египетская марка» 1927 года (II: 482), а в его заметке об Александре Блоке 1922 года упомянута картина Джорджоне «Концерт», хранящаяся «в Palazzo Pitti» (II: 238). В стихотворении Мандельштама «Еще далёко мне до патриарха…» (1931) в орбиту зрения поэта попадают два других великих художника-венецианца эпохи Позднего Возрождения:
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев.
О Леонардо да Винчи, причем не столько как о художнике, сколько как о «волшебнике»-искуснике, Мандельштам вспомнит еще дважды: в очерке «Мазеса да Винчи» будет описан «корабельный хаос мастерской славного Леонардо» (II: 401), а в «Разговоре о Данте» мелькнут «Леонардовы чертежи» (III: 232).
В воронежских мандельштамовских стихотворениях появятся еще два флорентийских гения – Рафаэль:
Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста…
и – дважды – Микеланджело Буонарроти:
А небо, небо – твой Буонаротти…
«Я должен жить, хотя я дважды умер…»
Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд, –
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, –
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и рабстве молчит.
«Рим»[697]697
«Образ Рима – синтетический: на самом деле микеланджеловские Давид и Ночь (из капеллы Медичи, памятная скорбным четверостишием самого Микеланджело “…О, в этот век преступный и постыдный… отрадно спать, отрадней камнем быть”) находятся не в Риме, а во Флоренции» (Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 810).
[Закрыть], 1937
За все великое испанское искусство XVI века в текстах Мандельштама представительствует лишь «козлиная испанская живопись», упоминание о которой встречаем в «Египетской марке» (II: 477). Немецкое и нидерландское Возрождение было и вовсе обойдено вниманием поэта[698]698
В мемуарах Натальи Штемпель рассказывается о том, что Мандельштам часто «останавливался перед маленькой картиной Дюрера» в воронежском музее изобразительных искусств (Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 41).
[Закрыть].
Куда больше повезло голландцам XVII века. Рембрандту посвящены две выразительные строки стихотворения «Еще далёко мне до патриарха…»
Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи…
и одиннадцатистрочное воронежское стихотворение 1937 года:
Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.
Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец черно-зеленой теми, –
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя[699]699
Подробнее об этом стихотворении см. прежде всего: Лангерак Т. Анализ одного стихотворения Мандельштама («Как светотени мученик Рембрандт») // Russian Literature. 1993. № 33. P. 289–298.
[Закрыть].
В другом воронежском мандельштамовском стихотворении, «Пластинкой тоненькой жиллета…» (1936), в проникновенных строках словесно воспроизводятся пейзажи младшего рембрандтовского современника Якоба ван Рейсдаля:
Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины, –
Честь Рюисдалевых картин…
Трудно сказать, репродукцию с какой именно картины и какого именно художника, но явно работу кого-то из «малых голландцев» рассматривает герой мандельштамовской «Египетской марки» Парнок на перегородке у портного Мервиса: «Дальше изображены были голландцы на ходулях, журавлиным маршем перебегающие свою маленькую страну» (II: 468).
Но, пожалуй, самую большую территорию на карте художественных предпочтений Мандельштама заняла бы Франция. В своей прозе 1920–1930-х годов поэт не без иронии говорит о «театральном гневе лже-историка» классициста Жака-Луи Давида (II: 463); коротко упоминает о «Путешествии в Марокко» романтика Эжена Делакруа (III: 185)[700]700
См. также в мемуарах Натальи Штемпель: «Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гётевскому “Фаусту” (как-то, будучи у меня, он внимательно их рассматривал)» (Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 42).
[Закрыть]; умиляется «толстым деревянным башмакам и крестьянским блузам» реалиста Гюстава Курбе (II: 413). Однако особенно подробно и любовно Мандельштам написал об импрессионистах и постимпрессионистах, которым посвящены его стихотворение «Импрессионизм» (1932)[701]701
Подробнее об этом стихотворении см. прежде всего: Langerak T. Mandelstam’s “Impressionism” // Voz’mi na radost’: To Honor J. v. d. Eng-Liedmeier. Amsterdam, 1980. P. 139–147.
[Закрыть], а также отдельная главка «Французы» в мандельштамовском «Путешествии в Армению» (плюс черновики к этой главке). Здесь фигурируют «храм воздуха, и света, и славы Эдуарда Манэ и Клода Монэ» (III: 194), «лучший желудь французских лесов» – «славный дедушка» Сезанн (III: 198) и «художник богачей» Матисс, «красная краска» холстов которого «шипит содой» (III: 198). С «дешевыми овощными красками Ван-Гога» (III: 198) соседствуют «кукурузное солнце» Синьяка (III: 199), «вода Ренуара» (III: 199) и «серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие как колеса огромной лотереи, с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах» (III: 199).
На этих же страницах появляется Пабло Пикассо (III: 199) и коротко описывается его картина «Старый еврей» (наблюдение Вс. Зельченко). Знаменитый образ из другой картины Пикассо используется и в куда более ранней заметке Мандельштама «Кое-что о грузинском искусстве» (1922): «Работы безымянных грузинских живописцев – настоящая победа грузинского искусства над Востоком, – и как ничтожны перед ними танцующие осколки скрипки, некогда разбитой Пикассо, пленившей новую грузинскую живопись. С этой скрипкой – то же самое, что с мошенническими реликвиями монахов: скрипка была одна, ее разбили один раз, но нет такого города, где бы не показывали щепочки – вот кусочек от Пикассо!» (III: 234–235).
Рабски зависимая от Пикассо новая грузинская живопись в этой заметке противопоставлена примитивистским работам Нико Пиросманашвили: «Нельзя не преклониться перед величием его “безграмотных” (не анатомических) львов, великолепных верблюдов, с несоразмерными человеческими фигурами и палатками, победивших плоскость силою одного цвета» (III: 235).
Остается отметить, что Мандельштам отнюдь не был энтузиастом русской реалистической живописи. В его прозе находим упоминание лишь об уже воспроизводившейся в нашей книге отвратительной советской «жанровой картинке по Венецианову» (III: 169); о «мальчике, играющем в бабки, в скульптуре Федора Толстого» (II: 377); о «пирамиде черепов на скучной картине Верещагина» (III: 191); да еще пренебрежительное описание пластики актрис Художественного театра: «движения всех женщин плохи, будто сошли с картин Семирадского» (II: 135). Характерный эпизод приводит в своих мемуарах о Мандельштаме Наталья Штемпель: «Мы пошли в Третьяковскую галерею… Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он шел»[702]702
Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 18.
[Закрыть].
5
Оттеняющим фоном для чтения и изучения итальянских классиков послужили ужасные картины крестьянского голода, которые Мандельштаму довелось наблюдать в Крыму. Чтобы сломить сопротивление крестьян коллективизации, власти отняли у них запасы зерна, и к зиме начался массовый голод. В своих не слишком достоверных воспоминаниях Р. Березов (Акульшин) сообщает, что еще в Москве он рассказывал поэту «печальные истории» о «поездках по городам и по колхозам, о настроениях крестьян и рабочих»[703]703
Березов Р. Из очерка «В Доме Герцена» // Новое русское слово. [Нью-Йорк], 1950. 3 сентября. С. 8.
[Закрыть].
Голодающие крестьяне, увиденные в Крыму, вдохновили Мандельштама на гражданское, почти «некрасовское» стихотворение, которое потом будет фигурировать в следственном деле поэта. Из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года: «К 1930 году в моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса. Мое восприятие этого процесса выражено в моем стихотворении “Холодная весна”»[704]704
Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 90.
[Закрыть].
Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Все тот же кисленький, кусающийся дым.
Все так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани…
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.
Комментарий Н.Я. Мандельштам: «Калитку действительно стерегли день и ночь – и собаки, и люди, чтобы бродяги не разбили саманную стенку дома и не вытащили последних запасов муки. Тогда ведь хозяева сами стали бы бродягами. Они бы пошли побираться, чтобы не погибнуть от отсутствия хлеба. Магазины “закрытого типа” обеспечивали только городское начальство»[705]705
Мандельштам Н. Комментарий к стихам 1930–1937 годов // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 231.
[Закрыть].
28 мая Мандельштамы переехали в коктебельский Дом творчества. Здесь в это время отдыхал Андрей Белый со своей женой, Клавдией Николаевной.
Когда-то Андрей Белый доброжелательно отнесся к стихотворным опытам начинающего Мандельштама – согласно воспоминаниям Владимира Пяста, он «пожаловал» будущему автору «Камня» «титул» «пэоннейшего из поэтов»[706]706
Пяст В. Встречи. С. 101.
[Закрыть]. Затем Белый изменил свое отношение к Осипу Эмильевичу. Не последнюю роль здесь, вероятно, сыграл антисемитизм, которым были заражены многие старшие модернисты, в диапазоне приблизительно от Блока до Кузмина. К уже приводившимся в этой книге цитатам добавим еще одну, из дневника М. Кузмина от 11 марта 1914 года: «Вечером были три жида – Лившиц, Лурье и Мандельштам»[707]707
Кузмин М. Дневник. 1908–1915. С. 437–438.
[Закрыть]. Приведем также микрофрагмент из внутренней рецензии самого Мандельштама 1926 года на книгу Бернара Лекаша «Радан великолепный»: «<Антисемитизм> заимствовал свои аргументы там, где только мог, – у декаданса, у символизма, у второсортной социальной мистики» (II: 450) и следующее свидетельство из мемуаров Эммы Герштейн: «В “Предисловии” <к поэме “Возмездие”>, где Блок перечисляет разнородные события, из которых образовывался “единый музыкальный напор” эпохи, он называет такое: “В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови”. Эта оскорбительно-“объективная” фраза возмутила Мандельштама»[708]708
Герштейн Э. Мемуары. С. 27. Об антисемитизме Белого см. также: Безродный М.В. О «юдобоязни» Андрея Белого // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. А также в замечательной книге: Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006.
[Закрыть].
Но с особой силой Андрея Белого от Мандельштама должны были отвратить критические мандельштамовские статьи, содержавшие крайне резкие оценки прозы автора «Петербурга». Иногда Мандельштам даже переходил на личности. «Необычайная свобода и легкость мысли у Белого» (II: 322), – писал он, например, в разгромной рецензии на роман «Записки чудака», иронически намекая на знаменитое признание гоголевского Хлестакова: «У меня легкость необыкновенная в мыслях»[709]709
Гоголь Н. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 4. Л., 1951. С. 49.
[Закрыть]. «Белый неожиданно оказался дамой, просияв нестерпимым блеском мирового шарлатанства – теософией», – издевательски констатировал Мандельштам в заметке «Письмо о русской поэзии» (II: 237), вновь отсылая внимательного читателя к Гоголю – на этот раз к хрестоматийно известному эпизоду из «Мертвых душ» («“Ой, баба!” – подумал он про себя и тут же прибавил: – Ой, нет!” – “Конечно, баба!” – наконец сказал он, рассмотрев попристальнее»[710]710
Гоголь Н. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 6. Л., 1951. С. 14.
[Закрыть]). Но даже и подобные инвективы не мешали Мандельштаму считать романы и повести Белого «вершиной русской психологической прозы» (формула из мандельштамовской заметки «Литературная Москва. Рождение фабулы») (II: 262).
7 июня 1933 года Андрей Белый жаловался в письме к Петру Зайцеву из Коктебеля: «Все бы хорошо, если б не… Мандельштаммы <у Белого два “м” – О.Л.> (муж и жена); и дернуло же так, что они оказались с нами за общим столиком (здесь столики на 4 персоны); приходится с ними завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Между тем они единственно из 20 с лишним отдыхающих нам неприятны и чужды»[711]711
Цит. по: Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 325.
[Закрыть]. Еще жестче Белый высказался в письме к Федору Гладкову: «…С Мандельштамами – трудно; нам почему-то отвели отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, за обедом, 5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень “умные”, нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с “что”, “вы понимаете”, “а”, “не правда ли”; а я – “ничего”, “не понимаю”; словом, М<андельштам> мне почему-то исключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах»[712]712
Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 325.
[Закрыть]. В своем коктебельском дневнике Белый написал о соседях по столику нечто столь резкое, что его вдова сочла за благо уничтожить этот фрагмент[713]713
Там же. С. 438–439.
[Закрыть].
Отдыхавший одновременно с Белым и Мандельштамом в Коктебеле поэт и драматург Анатолий Мариенгоф описал общую ситуацию так: «Администрация нашего Дома творчества <…> посадила их в столовой за один столик. Доброе намерение совершенно испортило обоим лето. Ложноклассическая декламация Осипа Эмильевича и невероятное произношение итальянских слов, слов Данте и Петрарки, ужасно раздражало Андрея Белого. Мандельштам, как человек тонко чувствующий, сразу все понял. И это, в свою очередь, выводило его из душевного равновесия»[714]714
Мариенгоф А. «Бессмертная трилогия». М., 1999. С. 495.
[Закрыть].
Мемуарист очень точно изобразил нервную реакцию Андрея Белого на постоянное соседство с Мандельштамами, по понятным причинам не указав только, что просоветски настроенного пожилого писателя не могли не выводить из себя мандельштамовские крамольные «подмиги». Но относительно Мандельштама Мариенгоф ошибся: Осипу Эмильевичу, по всей видимости, казалось, что взаимоотношения между ним и Белым складываются как нельзя лучше. С течением времени эта мандельштамовская иллюзия только укреплялась. В черновиках к «Разговору о Данте» Мандельштам ссылается на Белого как на Б.Н. Бугаева, то есть как на частное лицо, как на своего личного знакомого и собеседника (III: 404).
Сергею Рудакову в 1935 году поэт без тени сомнения рассказывал, что в «последнее время» был «очень близок» с автором «Петербурга»[715]715
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 52.
[Закрыть]. А в воспоминаниях Надежды Яковлевны о контактах Белого и Мандельштама в Коктебеле говорится почти как о дружбе: «…Они встречались, хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни О. М. написал “Разговор о Данте” и читал его Белому»[716]716
Мандельштам Н. Воспоминания. С. 182. О Мандельштаме и Белом см. также две статьи в книге: Полякова С.В. «Олейников об Олейникове» и другие работы по русской литературе.
[Закрыть].
В мае 1933 года, пока Мандельштамы были в Крыму, ленинградский журнал «Звезда», возглавлявшийся отважным Цезарем Вольпе, все-таки опубликовал «Путешествие в Армению». 17 июня, уже после возвращения Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны в Москву, разгромный отзыв на мандельштамовскую прозу напечатала «Литературная газета». 30 августа – «Правда». Из статьи С. Розенталя в «Правде»: «От образов Мандельштама пахнет старым, прелым, великодержавным шовинистом, который, расточая похвалы Армении, хвалит ее экзотику, ее рабское прошлое, ибо о настоящем не написал ни строки Мандельштам <…>. Старый петербургский поэт-акмеист О. Мандельштам прошел мимо бурно цветущей и радостно строящей социализм Армении»[717]717
Цит. по: Нерлер П.М. Комментарий // Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. Т. 2. С. 421.
[Закрыть]. Цезаря Вольпе сняли с должности главного редактора «Звезды». Доведенное до корректуры книжное издание «Путешествия в Армению» было заморожено. Некогда безвредная болтовня о Мандельштаме как о старом классике прямо на глазах неуследимо перетекла в опасные для поэта идеологические разносы и политические обвинения.
В сентябре 1933 года Мандельштамы посетили Ленинград, где после долгого перерыва вновь свиделись с Анной Андреевной Ахматовой. «Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом, – вспоминала поэтесса. – “Божественную комедию” читал наизусть страницами. Мы стали говорить о “Чистилище”, и я прочла кусок из ХХХ песни (явление Беатриче) <…>. Осип заплакал. Я испугалась: “Что такое?” – “Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом”»[718]718
Ахматова А. Листки из дневника. С. 134.
[Закрыть].
У Ахматовой Мандельштам читал свой «Разговор о Данте». На чтении присутствовал едва ли не весь ленинградский филологический бомонд: Виктор Жирмунский, Юрий Тынянов, Бенедикт Лившиц, Лидия Гинзбург… Из записей Л.Я. Гинзбург: «Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами (как переполнен мыслями) и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам – с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках <…>. Он говорит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словцом “этого…”, беспрерывно пересекающим речь), грандиозно, бесстыдно, не забывая все-таки хитрить и шутить»[719]719
Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 119–120.
[Закрыть].
Рукопись «Разговора о Данте» была «Издательством писателей в Ленинграде» отклонена.
«Я хорошо помню <…> Осипа Эмильевича, – вспоминает старший сын Бориса Пастернака, Евгений, мандельштамовский облик той поры, – его характерную позу с закинутой головой – в длиннополой шубе, с тросточкой, он ходил через двор обедать в литфондовскую столовую. Помню, как смеялись над ним наши дворовые мальчишки. Они с Надеждой Яковлевной вскоре получили новую квартиру в Нащокинском переулке и уехали из Дома Герцена»[720]720
Цит. по: Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. М., 1998. С. 388.
[Закрыть].
В новую кооперативную двухкомнатную квартиру Мандельштамы переселились в октябре 1933 года. «По действующим тогда законам жильца нельзя было выселить, если на спорной площади стоит его кровать. Надя прекрасно это знала, и как только был назначен день всеобщего вселения, она с ночи дежурила у подъезда, поставив рядом с собой пружинный матрац. Утром, как только дверь подъезда открыли, она ринулась со своим матрацем на пятый этаж (дом без лифта) и первая ворвалась в квартиру» (Из «Мемуаров» Эммы Герштейн)[721]721
Герштейн Э. Мемуары. С. 40.
[Закрыть].
Именно здесь Осип Эмильевич, одно за другим, в ноябре 1933 года написал два своих самоубийственных стихотворения: «Квартира тиха, как бумага…» и «Мы живем, под собою не чуя страны…»
Об отдельном жилье Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич мечтали долгие годы. Немало энергии и сил Мандельштамы потратили, отстаивая законность своих притязаний на квартиру в писательском доме в Нащокинском переулке. «Дом был одним из первых кооперативных, и кандидатуру каждого жильца обсуждали сами писатели», – вспоминала Эмма Герштейн[722]722
Там же.
[Закрыть]. «Мандельштамы на новой квартире, своей, собственной, из двух комнат, – записал в дневнике 18 октября 1933 года поэт и переводчик, мандельштамовский приятель Марк Талов. – Библиотечные полки Осип Эмильевич построил довольно примитивно: с двух сторон положил кирпичи, прикрыл доской, на доске снова кирпичи, снова доска – так он оборудовал несколько рядов. А вообще в квартире пустые стены. Нет у него денег на мебель первой необходимости» [723]723
Талов М. Воспоминания. Стихи. Переводы. С. 71.
[Закрыть]. И все же это было свое и не временное, а, как тогда казалось, постоянное, прочное жилье.
Однако вместо законной радости вселение в новую квартиру одарило поэта тяжким чувством жгучего стыда и раскаянья. Чуть ли не впервые в жизни Мандельштам ощутил себя приспособленцем и предателем: не только по отношению к своим «исстрадавшимся, недоедающим» читателям, но и по отношению к бездомным и голодным крестьянам. В его собственной терминологии – он чуть ли не впервые ощутил себя писателем. А платой за предательство – эквивалентом тридцати сребреников – послужила халтурная писательская квартира в Нащокинском переулке.
Масла в огонь невольно подлил не устроенный в бытовом отношении Борис Пастернак, который, побывав у Мандельштамов в гостях, попробовал подбодрить поэта: «“Ну вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи”, – сказал он, уходя. “Ты слышала, что он сказал?” – О. М. был в ярости»[724]724
Мандельштам Н. Воспоминания. С. 176.
[Закрыть].
Так на новом временно́м витке продолжился спор о том, как поэту нужно выстраивать отношения с современной ему действительностью, начатый давним разговором-ссорой Мандельштама и Пастернака по итогам «дела Горнфельда». «Я не могу иметь ничего общего с Борисом Леонидовичем – у него профбилет <билет профсоюза> в кармане», – приводит Лидия Гинзбург мандельштамовскую реплику этого времени в своих записях[725]725
Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 117.
[Закрыть]. И она же резюмирует: «Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты)»[726]726
Там же. С. 116.
[Закрыть]. При этом нужно иметь в виду, что «с точки зрения бытовой, Мандельштам, переселявшийся в Москву, мог выглядеть если не более, то во всяком случае не менее “благополучным”, чем его “антипод”»[727]727
Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 181.
[Закрыть].
После визита Пастернака Осип Эмильевич почувствовал настоятельную необходимость срочно действовать, совершить поступок, написать стихи, «вернуть билет».
Так Мандельштам разразился поэтическим вариантом своей «Четвертой прозы» – стихотворением «Квартира тиха, как бумага…», направленным, на этот раз, против самого себя. Поэтому Горнфельд и другие обидчики были забыты, а служба в «Московском комсомольце» – наоборот, выпячена (в четвертой, самой крамольной строфе):
Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.
Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.
И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.
Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать –
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.
И вместо ключа Ипокрены[728]728
Ключ Ипокрены – на греческом Геликоне – символ поэтического вдохновения.
[Закрыть]
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья[729]729
Подробнее об этом стихотворении см., например: Кушнер А.С. Мандельштам и Ходасевич // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 48–52.
[Закрыть].
В третьей и четвертой строфах этого стихотворения своеобразно отразилось пышное официальное празднование пятнадцатилетия ВЛКСМ[730]730
См., например: Ленин и Сталин с исключительной заботливостью выпестовали комсомол. Речь тов. Кагановича на VIII пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 15-летней годовщине Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи // Известия. 1933. 2 ноября. С. 1; О задачах комсомола. Речь тов. Молотова на юбилейном пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1933 года // Там же.
[Закрыть]. Процитируем также восемь мандельштамовских строк, которые, по-видимому, правомерно счесть поэтическим «отводком» от четвертой строфы «Квартиры»:
У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови:
На баюшки-баю похожи
И баю борьбу объяви.
И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.
Первая строфа еще одного ноябрьского антисоветского стихотворения Мандельштама представляет собой довольно точный, хотя и издевательский пересказ сразу нескольких материалов «Литературной газеты», объединенных общей темой – обсуждением проблемы переводов на русский язык произведений, написанных на языках народов СССР:
Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.
И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.
На первой странице «Литературной газеты» от 23 октября 1933 года была опубликована большая статья А. Гидаша «Выше качество художественного перевода», в которой подчеркивалось: «Особого внимания заслуживает вопрос о переводах литературы отдельных социалистических республик Советского Союза. Эти литературы национальные по форме и социалистические по содержанию уже сейчас создали такие произведения, передача которых путем перевода не только В ПОЛИТИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ, но и с точки зрения ЛИТЕРАТУРНОЙ является делом неотложной важности». На третьей странице этого же номера газеты находим несколько статей, помещенных под общей шапкой: «Художественный перевод – на высоту оригинала!». Самая обширная статья озаглавлена «Теснее сплотить братские литературы. На заседании украинской комиссии Оргкомитета». Процитируем ее финальный абзац: «На заседании украинской комиссии Оргкомитета ССП СССР принято решение о конкретном изучении творчества отдельных украинских писателей. Тов. Стецкому поручено изучить творчество П. Панча, т. Безыменскому – Кулика, Бажана, Первомайского и Косынко, т. Юдину – Эпика, т. Гладкову – Копыленко, Кириленко и Досвитного, т. Форш – Любченко, т. Динамову – Микитиенко, Кулиша и Ивана Ле, т. Катаеву – Остапа Вишни, т. Багрицкому – Терещенко и Тычины, т. Коваленко – Головко, т. Шагинян – молодых писателей Одессщины, тт. Стецкому, Березовскому и Форш – Кузьмича». Рядом были напечатаны статьи Гейши Шариповой «Качество ошибок» и П. Карабана «Осторожнее на переводах!», а также коллективное письмо четырех переводчиков (Ю. Березовского, Дзахо Гатуева, В. Нейштадта и Александра Ромма) с самокритичным названием «Довольно барства»: «Значительно слабее обстоит дело с переводом литератур братских народов СССР».
23 ноября 1933 года на первой странице «Литературной газеты» появилась программная редакционная статья «По-настоящему изучить богатейшую литературу народов СССР». Приведем несколько выдержек из нее: «<З>наем ли мы нацлитературу республик и областей РСФСР? Если и знаем, то очень слабо <…>. Одиннадцать писательских бригад всесоюзного Оргкомитета по изучению нацлитератур республик и областей РСФСР должны были уже давно приступить к работе <…>. В результате из 11 бригад по-настоящему работает только 3 бригады <…> (только эти три бригады уже выехали или выезжали на места) <…>. Совсем пока не работает: <…> бригада т. Шульца (республика немцев Поволжья)». Вот эти добровольно-принудительные поездки писательских переводческих бригад в республики и области СССР и были высмеяны Мандельштамом в стихотворении «Татары, узбеки и ненцы…».
Актом жертвенного очищения и высвобождения из-под власти советского «писательства» стала мандельштамовская лютая эпиграмма на Сталина, тоже созданная в ноябре 1933 года.
Мандельштам первый среди своих современников, проживавших в СССР, решился нарушить коллективный заговор молчания вокруг фигуры всесильного диктатора (начальные стихотворения ахматовского «Реквиема» будут написаны два года спустя):
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина[731]731
Подробнее об этом стихотворении, см.: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002 (По «Указателю произведений Мандельштама»).
[Закрыть].
Важно отметить, что в ноябрьской советской прессе 1933 года не удается найти конкретного веского повода к написанию самоубийственного мандельштамовского стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…», направленного лично против Сталина. Не означает ли это, что такого решающего повода просто не было, а был месяцами копившийся гнев, чью поэтическую вспышку в ноябре 1933 года мог спровоцировать любой пустяк? Возможно, подобным пустяковым поводом стало уже цитировавшееся нами заглавие доклада Кагановича на пленуме ВЛКСМ – «Ленин и Сталин с исключительной заботливостью выпестовали комсомол» – у Мандельштама в стихотворении: «А где хватит на полразговорца, / Там припомнят кремлевского горца». Возможно, поводом послужила напечатанная во всех праздничных ноябрьских газетах фотография Сталина в окружении Молотова, Кагановича, Орджоникидзе, Калинина, Рудзутака, Куйбышева, Микояна и Енукидзе на трибуне мавзолея во время демонстрации[732]732
См., например: Правда. 1933. 10 ноября. С. 1; Известия. 1933. 10 ноября. С. 1.
[Закрыть] – у Мандельштама в стихотворении: «А вокруг него сброд тонкошеих вождей». Возможно, но менее вероятно, поскольку это прямо не отразилось в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…», что таким поводом стала напечатанная на третьей странице «Литературной газеты» 23 ноября 1933 года большая подборка материалов «Писатели работают над книгой о Беломоро-Балтийском водном пути». В частности, эта подборка включала в себя статью профессора института советского строительства и права С.Я. Булатова «Чего мы ждем от книги о Беломорском канале», где содержалось такое, например, рассуждение: «Лагеря ОГПУ и концентрационные лагеря фашистской Германии – вот два пункта, отражающие, как капли воды, всю противоположность двух систем – системы гниющего капитализма и системы строящегося социализма».
Отметим еще, что страшный образ жирных пальцев-червей диктатора Мандельштам, по-видимому, взял из сатирического стихотворения Владимира Маяковского «Новый тип» (1930): «Пальцы потные / червятся». А упоминание о сталинских «тараканьих глазищах», возможно, восходит к широкоизвестному сталинскому разоблачению Бухарина и других «правых оппортунистов», сделанному в 1930 году (наблюдение М.А. Котовой): «Зашуршал где-либо таракан, не успев еще вылезть как следует из норы, – а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели Советской власти. (Общий хохот.) Мы успокаиваем их и стараемся убедить, что тут нет еще ничего опасного, что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться. Куда там! Они продолжают вопить свое: “Как так таракан? Это не таракан, а тысяча разъяренных зверей! Это не таракан, а пропасть, гибель Советской власти”… И – “пошла писать губерния”… Бухарин пишет по этому поводу тезисы и посылает их в ЦК, утверждая, что политика ЦК довела страну до гибели, что Советская власть наверняка погибнет, если не сейчас, то по крайней мере через месяц. Рыков присоединяется к тезисам Бухарина, оговариваясь, однако, что у него имеется серьезнейшее разногласие с Бухариным, состоящее в том, что Советская власть погибнет, по его мнению, не через месяц, а через месяц и два дня. (Общий смех.) Томский присоединяется к Бухарину и Рыкову, но протестует против того, что они не сумели обойтись без тезисов, не сумели обойтись без документа, за который придется потом отвечать: “Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов”. (Гомерический хохот всего зала. Продолжительные аплодисменты.) Правда, потом, через год, когда всякому дураку становится ясно, что тараканья опасность не стоит и выеденного яйца, правые уклонисты начинают приходить в себя и, расхрабрившись, не прочь пуститься даже в хвастовство, заявляя, что они не боятся никаких тараканов, что таракан этот к тому же такой тщедушный и дохлый. (Смех. Аплодисменты.)»[733]733
Правда. 1930. 3 июля.
[Закрыть].









































