Читать книгу "Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография"
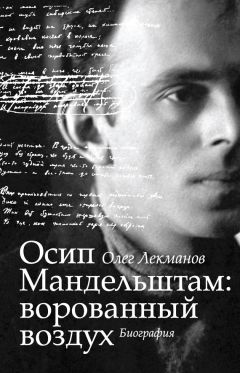
Автор книги: Олег Лекманов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сергею Рудакову вернувшийся из поездки Мандельштам рассказывал о своем самоощущении следующим образом: «“21/2 часа чувствовал себя Рябининым (секретарь обкома), который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель расшатанный, с провалами, а я им… я им… дал по 12 важных указаний и без числа мелких…” На вопрос мой, каких же, он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновенье»[839]839
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 78.
[Закрыть].
Однако спустя буквально несколько дней маятник качнулся в противоположную сторону. Очерк из совхозной жизни у Мандельштама не клеился.
Из письма Рудакова к жене от 2 августа 1935 года: «Он <Мандельштам>: “Я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают, – не могу. Я не могу так: “Посмотрел и увидел”. Нельзя, как бык на корову, уставиться и писать. Я всю жизнь с этим боролся. Я не могу описывать, описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать <…>. Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках <те самые, что читались Эфрон и Бояджиевой>), которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. “Ах! Ах!” – и только; написал рецензии – под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортЮнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало большой пустоты”»[840]840
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 80.
[Закрыть].
Осип Эмильевич оказался прав – стихи вернулись к нему только в начале декабря 1936 года.
3
10 октября 1935 года по рекомендации местного отделения Союза советских писателей Мандельштам был назначен на должность заведующего литературной частью в воронежский Большой советский театр. Появилась перспектива стабильного заработка. «Это был очень тихий и скромный человек, молча он смотрел спектакли и репетиции, – вспоминал актер театра П. Вишняков. – Наверняка у него было свое мнение о спектаклях, и, возможно, он высказывал его директору театра Вольфу или главрежу Энгель-Крону, но никогда труппе. Также никогда не читал он и своих стихов нам, актерам <…>. В своем темном костюмчике со своими неведомыми нам мыслями Мандельштам был для нас несколько загадочным <…>. Казалось, он боялся расплескать свой внутренний мир»[841]841
Цит. по: Нерлер П.М. «Чуть мерцает призрачная сцена…» // Альманах «Поэзия». № 57. М., 1990. С. 187.
[Закрыть].
О том, какие мысли о местном театре «очень тихий» Мандельштам таил от его актеров, дает неплохое представление отрывок из небольшой мандельштамовской заметки, посвященной анализу воронежского «Вишневого сада». Скорее всего, эта заметка была написана еще до поступления поэта в театр на штатную работу: «Я испугался певицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о сем с актером, исполнявшим роль конторщика Епиходова. В нем нельзя было не узнать философа, ищущего места по объявлению в “Петербургском листке”. В то время как другие актеры всей осанкой своей говорили: “Не мне, а имени моему”, – <в то время, как все они двигались, как недостойные иереи,> словно ожидая, что кто-нибудь назовет их “ваше правдоподобие” и чмокнет в ручку, – один Епиходов знал свое место» (III: 415).
Среди черновых бумаг к радиокомпозиции «Молодость Гёте» сохранились также размышления Мандельштама о шекспировской трагедии «Отелло», которые были спровоцированы в первую очередь работой поэта над исправлением для воронежского Большого советского театра и сведением в единый текст двух переводов «Отелло», выполненных А.Л. Соколовским и А.Д. Радловой: «Отелло никогда никого не убил. В сцене скандала, сколько бы он ни грозил, никто не верит, что он кого-нибудь проткнет шпагой. Он скорее может вылечить рану, быть хирургом, чем убить. Недаром его последние слова – про турка. Это нечто такое, что можно изрыгнуть, только заколов потом самого себя.
Дездемона (Войлошникова) – идеал средневековой женщины, жены. Этот идеал никогда не обрабатывался в литературе. Но он в ней присутствовал. Жена по образу какого-то средневекового Домостроя, лишенного восточной жестокости. Дошекспировский идеал. В шекспир<овское> время женщина уже изменяется под влиянием напора буржуазии. В<ойлошникова> инстинктивно вернула Дездемону средневековью, и в этом ее сила» (III: 417–418).
Своеобразным комментарием к этим рассуждениям Мандельштама может послужить рецензия на постановку «Отелло» воронежским драмтеатром, написанная Н. Садковым: «Принципиальным является вопрос о переводе, по которому ставится то или иное классическое произведение на нашей сцене. Перевод “Отелло”, сделанный А. Радловой, значительно отличается от прежних переводов, у него много преимуществ перед ними: он не так декламационен, он ближе к разговорному языку, хотя и не утрачивает поэтического звучания стройности стихотворной речи <…>. В.А. Поляков играет Отелло с большим подъемом. Артист увлечен своей новой ролью, в отдельных местах ее он достигает настоящего трагического пафоса. Вот эта продуманность в игре, верный показ перехода от одних чувств к другим, от детской доверчивости до отчаяния и зверского безумия есть у Полякова. Перед нами человек, пораженный страданием. И гнев, и злоба, и мгновенная вспышка доверчивости к той, которая так “обманула”, – все это правдивые человеческие чувства <…>. Роль Дездемоны не удалась ни <А.> Войлошниковой, ни Мариуц. Лучше все же играет Войлошникова. Она находит порой те подкупающие интонации, которыми пленяет Дездемона, но найдя их, она тотчас же сбивается на совершенно иной лад <…>. Юная Дездемона превращается у Войлошниковой в зрелую женщину, играющую в инфантильность <…>. Много труда в спектакль внесли худ. Стернин и музыкальный руководитель Каминский. Если бы иногда декорации Стернина не были слишком помпезными и громоздкими (пятый акт), декоративное и вещественное оформление спектакля можно было бы назвать целиком удавшимся, но художник, к сожалению, кое-где излишне подзолотил»[842]842
Садковой Н. «Отелло» (Большой советский театр) // Коммуна. 1936. 1 марта. С. 3.
[Закрыть].
В театре Мандельштам прижился неплохо. «Числился он заведующим литературной частью, но не имел ни малейшего понятия о том, что нужно делать. В сущности, он просто болтал с актерами, и они его любили»[843]843
Мандельштам Н. Воспоминания. С. 166.
[Закрыть]. 17 декабря 1935 года Осип Эмильевич писал угодившему в больницу Рудакову: «Что сказать о себе? Устал очень. Настроение твердое, хорошее. Сдружился с театром. Кое-что там делаю (не канцелярия)» (IV: 162). 18 декабря Осип Эмильевич получил трехгодичный паспорт. В этот же день он уехал отдыхать в тамбовский санаторий. Из письма Мандельштама к жене в Москву (где она находилась с 15 декабря 1935 года по 15 января 1936 года): «Слушай, как я сюда <в Тамбов> ехал: ты на вокзал, я – в театр. Сказал дельную “режиссерскую речь”. Актеры ко мне начали тяготеть. Режиссеры всерьез у меня спрашивали. 2–3 дня держался на посту. Потом расклеился. Произошел обычный старинный “столбняк” на улице <…>. Дальше я бродил тенью, но вполне благополучно. Дал консультацию в Радиоком<итете> <…>. За полчаса до поезда ко мне приехала машина с заместителем директора <театра> и управляющим. Машину они взяли в Н.К.В.Д., и шофер был военный <…>. Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслажденье. Очень настоящие места. До центра – 10 м<инут> автобусиком. Каланчи, одичавшие монастыри, толстые женщины с усами» (IV: 163). О самом санатории в новогоднем письме к жене от 1 января 1936 года Мандельштам высказался гораздо мрачнее: «Какой-то штрафной батальон» (IV: 168).
В свою очередь Надежда Яковлевна в письмах к мужу отчитывалась о встречах с их общими московскими друзьями и знакомыми, в частности с Пастернаком: «Вчера встретила Бориса Леонидо<вича>. Он из виноватости не выходит. Да как вы, да что вы? Да не сердитесь ли вы с Осей на меня? Да способны ли вы меня простить? Эти ламентации меня забавляют»[844]844
Цит. по: Тименчик Р.Д. Об одном эпизоде биографии Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly. 2014. № 47. С. 226.
[Закрыть].
5 января 1936 года Мандельштам раньше срока вернулся в Воронеж. Здесь его ждали новые неприятности: в отсутствие жильцов хозяева квартиры Пановы заняли их комнату. «Он очень слаб, еле ходит. Затем нервы. Ночует по писателям»[845]845
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 123.
[Закрыть]. В середине января Панов, которого, по-видимому, припугнули в местном НКВД, сам пришел в правление Союза писателей с извинениями и пригласил Осипа Эмильевича и Надежду Яковлевну возвратиться. Мандельштам ответил согласием.
5 февраля 1936 года в Воронеж к Мандельштамам приехала долгожданная гостья – Анна Андреевна Ахматова (еще 12 июля 1935 года она писала Мандельштаму: «На днях лягу в больницу на исследование. Если все кончится благополучно – непременно побываю у Вас»)[846]846
Цит. по: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники. Воспоминания. Письма. С. 339.
[Закрыть]. На вокзале Ахматову встречали Надежда Яковлевна и Сергей Рудаков. Из письма Рудакова к жене: «Анна Андреевна – в старом, старом пальто и сама старая. Вид кошмарный. Сажу их на извозчика, сам трамваем. Вхожу: она еще не разделась. О<сип> полупомешался от переживаний.
Она снимает шляпу и преображается <…>. Когда она оживлена, лицо прекрасно и лишено возраста»[847]847
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 137.
[Закрыть].
Уже через шесть дней, 11 февраля Ахматова уехала в Москву. «У О<сипа> так пусто стало, просто до слез, – жаловался Рудаков жене. – <…> Н<адин> – с похоронно-воспоминательными репликами. Мы с О<сипом> в разных углах комнаты – почему-то злые друг на друга (ревность!?)»[848]848
Там же. С. 145.
[Закрыть]. Памяткой о пребывании Ахматовой у Мандельштамов стало ее стихотворение «Воронеж», которое завершается такой долгое время не печатавшейся строфой:
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.
13 марта 1936 года Мандельштамы перебрались на новую квартиру – со всеми удобствами, в центре Воронежа. Сюда на майские праздники к ним приехала Эмма Григорьевна Герштейн: «На второй день Осип Эмильевич почувствовал себя плохо. Я была с ним у дежурного врача в поликлинике обкома <…>. Осип Эмильевич был в сильном беспокойстве. Он рвался… куда-нибудь…»[849]849
Герштейн Э. Мемуары. С. 63.
[Закрыть].
Здоровье поэта все ухудшалось. 27 мая консилиум врачей в поликлинике № 1 признал Мандельштама нетрудоспособным и направил его в комиссию по инвалидности для определения степени потери трудоспособности. 18 июня поэта осмотрел врач-кардиолог, сообщивший, что «сердце 75-лет<него>, но жить еще можно» (свидетельство С. Рудакова)[850]850
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 182.
[Закрыть]. В этот же день Мандельштамы и Рудаков слушали по радио передачу о смерти Горького. «Для него Горький (как вообще настоящий писатель) вне вопроса о том, “хорошо ли” писал, – отмечал Рудаков, – Горький – это Горький»[851]851
Там же. С. 183.
[Закрыть]. Тем не менее о Чехове и Бунине Осип Эмильевич всегда высказывался негативно, как и Ахматова.
В середине июня Мандельштаму было прислано сообщение об увольнении его из театра с 1 августа (скоро в работе поэту отказал и Радиокомитет). 20 июня Осип Эмильевич вместе с Надеждой Яковлевной отправился отдыхать в Задонск, на дачу. Оплатить отдых Мандельштамы смогли благодаря материальной поддержке Ахматовой, Пастернака и Евгения Хазина. Беллетрист Юрий Слезкин, также проводивший лето в Задонске, внес в свой дневник запись о встрече с Мандельштамом: «Он совсем седой, страдает сердцем, выслан в Воронеж и решил провести лето в Задонске. Я повел его смотреть комнаты. Но он ходить не может – боится припадка, не отпускает от себя ни на шаг жену, говорит сбивчиво»[852]852
Цит. по: Нерлер П.М. Он ничему не научился… О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы. С. 93.
[Закрыть]. В начале июля 1936 года проститься к Мандельштамам в Задонск приезжал Сергей Рудаков. «Прощанье более чем трогательное»[853]853
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 185.
[Закрыть], – писал он.
Осенью 1936 года по стране прокатилась новая волна репрессий. Ее вибрации немедленно дали о себе знать и в провинциальном Воронеже. «С осени <19>36 года мое положение в Воронеже резко изменилось в худшую сторону, – жаловался Мандельштам неизвестному нам адресату. – Вот точная характеристика этого положения: независимо от того, здоров я или болен, никакой, абсолютно никакой работы в Воронеже получить я не могу. В равной мере никакой, абсолютно никакой работы в Воронеже не может получить и моя жена, проживающая вместе со мной» (IV: 179).
11 сентября на собрании воронежских писателей, посвященном вопросам борьбы с классовыми врагами на литературном фронте, имя Мандельштама поминалось не однажды. Из покаянных мемуаров Ольги Кретовой: «Состоялось позорное собрание, где мы, “братья-писатели”, отлучали, отторгали Мандельштама от литературы, отмежевывались от него и иже с ним, подвергали остракизму. Одни делали это убежденно, со всею страстью своего темперамента, другие – через горечь и боль.
Мандельштам осунулся, стал сплошным комком нервов, страдал одышкой.
Жена, Надежда Яковлевна, приходила с заявлениями о материальной помощи. Я, заместитель секретаря Союза писателей, накладывала резолюции: “Отказать”, “Воздержаться”»[854]854
Кретова О. Горькие страницы памяти // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 39.
[Закрыть].
В начале сентября в гости к Мандельштамам впервые пришла Наталья Евгеньевна Штемпель (1910–1988).
4
В своих воспоминаниях о Наталье Штемпель Марина Ярцева так описывала внешность своей подруги: «…Бело-розовое личико, русалочьи зеленоватые глаза и на правой щечке ямочка, придававшая особую прелесть ее улыбке»[855]855
Ярцева М. О моей дружбе с Натальей Евгеньевной Штемпель // Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 114.
[Закрыть]. Отличительной особенностью облика Натальи Евгеньевны была хромота, придававшая особый ритм ее походке. Наталья Штемпель работала преподавательницей русского языка и литературы в одном из воронежских техникумов.
Из воспоминаний Натальи Евгеньевны о первом посещении Мандельштамов: «Надежда Яковлевна встретила меня несколько удивленно – очевидно, к посетителям Мандельштамы не привыкли – и ввела в комнату. Осип Эмильевич стоял посреди комнаты и с любопытством смотрел на меня. Очень смущаясь, я пролепетала что-то невнятное о Сергее Борисовиче. “Ах, вот кого он прятал!” – лукаво и весело воскликнул Мандельштам. <Уезжая из Воронежа, ревнивый Рудаков взял с Натальи Евгеньевны честное слово, что она не придет к Мандельштамам.> И сразу стало легко и непринужденно <…>. Осип Эмильевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие-нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. “Прочитайте, пожалуйста, я так давно не слышал своих стихов”, – сказал он с грустью и сразу стал серьезным. Не знаю почему, я прочитала из “Камня”: “Я потеряла нежную камею, не знаю где, на берегу Невы…”. Боже мой, что началось. Осип Эмильевич негодовал. Он весь был воплощение гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настроения. Я растерялась. Единственное, что мне запомнилось из этого крика: “Вы прочитали самое плохое мое стихотворение!” Сквозь слезы я сказала в свое оправдание: “Не виновата же я, что вы его написали”. Это как-то сразу его успокоило, мне даже показалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна и сказала: “Ося, не смей обижать Наташу”»[856]856
Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 26.
[Закрыть].
Наталья Штемпель полюбила Мандельштамов самозабвенно и на всю жизнь. «Мы (Надежда Яковлевна и я) были захвачены в орбиту внутренней напряженной жизни Осипа Эмильевича и жили им, его стихами, – вспоминала она. – Новые стихи были праздником, победой, радостью»[857]857
Там же. С. 46.
[Закрыть]. И произошло это в то время, когда Мандельштам как никогда остро нуждался в душевной поддержке, когда «все было обрублено – ни людей, ни связей, ни работы» (из воспоминаний Натальи Евгеньевны)[858]858
Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 57.
[Закрыть]. Дело доходило до того, что свои стихи поэт порывался читать уже совсем неожиданным слушателям. «Осип Эмильевич написал новые стихи, – свидетельствовала Наталья Евгеньевна, – состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: “Нет, слушайте, мне больше некому читать!” Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен»[859]859
Там же. С. 27.
[Закрыть].
«Наташа владеет искусством дружбы», – считал Мандельштам[860]860
Там же. С. 29.
[Закрыть]. О его собственном отношении к Наталье Штемпель красноречиво свидетельствуют посвященные ей стихи, а в еще большей степени – обстоятельства чтения этих стихов самой Наташе.
«Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. “Я написал вчера стихи”, – сказал он. И прочитал их. Я молчала. “Что это?” Я не поняла вопроса и продолжала молчать. “Это любовная лирика, – ответил он за меня. – Это лучшее, что я написал”. И протянул мне листок.
1.
К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.
2.
Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье…
Что было – поступь – станет недоступно…
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И все, что будет, – только обещанье.
4 мая 1937
<…> Осип Эмильевич продолжал: “Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом”. И после небольшой паузы добавил: “Поцелуйте меня”. Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу – он сидел как изваяние. Почему-то было очень грустно»[861]861
Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже С. 62–62. О стихах Мандельштама, обращенных к Н. Штемпель, см., например: Рейнольдс Э. «Есть женщины, сырой земле родные…» // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 454–456.
[Закрыть].
Знакомство Мандельштама с Наташей Штемпель началось с прочтения худшего, на взгляд самого поэта, любовного мандельштамовского стихотворения. Высшей точкой этого знакомства стало создание лучших, по собственному признанию поэта, образцов любовной лирики Мандельштама.
5
В конце октября – начале ноября 1936 года Мандельштамы переехали на последнюю свою воронежскую квартиру. Работы не было. Денег не было. Никаких перспектив на улучшение обстоятельств воронежской жизни не было.
Сколько можно судить по сохранившимся мандельштамовским письмам зимы 1936 – весны 1937 годов, поэт весь, без остатка, отдался чувству лихорадочного и бескомпромиссного отчаяния. Он не желал больше различать оттенков и полутонов – пропадать, так с музыкой; выглядеть нищим – так на все сто. «Сегодня утром мы с мамой <Надежды Яковлевны – Верой Яковлевной, приехавшей в Воронеж на время ее очередной отлучки в Москву> пошли искать туфли <…>, – 2 мая 1937 писал Мандельштам жене. – Я купил страшные синие – 25 р. К ним я хотел купить зеленые носки (при коричневых брюках), но мама не позволила» (IV: 194). А вот описание внешности Мандельштама из мемуаров А. Русановой, почти случайно на минутку зашедшей к Осипу Эмильевичу и Надежде Яковлевне зимой 1937 года: «Я открыла дверь и увидела немного сгорбленного, уже немолодого – не поражающего красотой мужчину, одетого скорее небрежно, чем неряшливо, с неправильно застегнутыми пуговицами пиджака, в свитере и в шлепанцах. Он смотрел настороженно и тревожно, был суетлив, напуган»[862]862
Русанова А., Русанова Т. Встречи с Ахматовой и Мандельштамом. Воронеж, 1991. С. 17.
[Закрыть].
Письма поэта последнего периода воронежской ссылки удивительным образом сочетают в себе нешуточный вызов с почти детскими мольбами о помощи.
«…Я сообщаю: я тяжело болен, заброшен всеми и нищ. На днях я еще раз сообщу об этом в наше НКВД и сообщу, если понадобится, правительству. Здесь, в Воронеже, я живу как в лесу. Что люди, что деревья – толк один. Я буквально физически погибаю» (из новогоднего письма к Н.С. Тихонову от 31 декабря 1936 года) (IV: 174). «Узнай следующее: в конечном счете мне предложено жить на средства родных (?) или убраться в любую больницу, откуда меня вышвырнут в дом инвалидов (к бродягам и паралитикам)» (из письма от 8 января 1937 года к брату Евгению, не приславшему денег) (IV: 175). «…Ты ведешь себя как скверный мальчишка, надеющийся избежать ответственности» (из письма ему же) (IV: 176).
«Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе.
Не ответить мне – легко.
Обосновать воздержание от письма или записки – невозможно» (из письма к Ю.Н. Тынянову от 21 января 1937 года) (IV: 177).
«Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы. Не только не могу лечиться, но жить не могу: не на что. Я прошу вас, хотя мы с вами совсем не близки» (из письма к К.И. Чуковскому от 9 (?) февраля 1937 года) (IV: 180).
«Жить не на что. Даже простых знакомых в Воронеже у меня почти нет. Абсолютная нужда толкает на обращение к незнакомым, что совершенно недопустимо и бесполезно» (из мартовского письма к Н.С. Тихонову) (IV: 181).
«…Человек, прошедший через тягчайший психоз (точнее, изнурительное и острое сумасшествие), – сразу же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный, – стал на работу. Я сказал: правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл. Хорошо. Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь. Через 1 1/2 года я стал инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли всё: право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса» (из письма к К.И. Чуковскому от 17 апреля 1937 года) (IV: 185).
«Повторяю: никто из вас не знает, что делается со мной» (из письма к Н.С. Тихонову от 17 (?) апреля 1937 года) (IV: 186).
«<Брату> Шуре скажи: то, что он не ответил на мое письмо – непоправимо, – может больше не тревожиться. Обязательно точно передай» (из письма к жене от 22 апреля 1937 года) (IV: 187).
Таков был психологический фон, на котором, начиная с 6 декабря 1936 года, создавались едва ли не самые совершенные мандельштамовские стихи воронежского периода. Очень высоко оценил эти стихи Борис Пастернак в письме к Мандельштаму, переданном весной 1937 года: «Я рад за вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике и редкой чистоты и благородства <…>. Спасибо за письмо»[863]863
Пастернак Б. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. С. 97.
[Закрыть]. Пастернак благодарит Мандельштама за новогоднее поздравление, отправленное 2 января. «Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – писал Пастернаку Мандельштам, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям… Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за всё и за то, что это “всё” – еще не “всё”» (IV: 174).
В уже цитировавшемся нами письме Сергея Рудакова к жене от 24 мая 1935 года приводится следующая его развернутая реплика, обращенная к поэту: «…Кончен цикл открытых политических стихов. Теперь вы – вольноотпущенник и не должны, а вольны. Последние вещи живут отдельно, а это сейчас самое главное» [864]864
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 54.
[Закрыть]. Далее, может быть, не без хвастовства, описана реакция Мандельштама на рудаковские слова: «Он счастлив, поняв это»[865]865
Там же.
[Закрыть].
Действительно, почти все вещи Мандельштама, писавшиеся в декабре 1936 года, то есть в начале его второго воронежского периода, в отличие от большинства мандельштамовских стихотворений 1935 года, «живут отдельно» от политической злободневности, вне газетного контекста (при этом, если судить хотя бы по уже цитировавшемуся письму Мандельштама к Николаю Тихонову от 31 декабря 1936 года, поэт отнюдь не утратил интереса к текущим политическим событиям: «Вам, делегату VIII съезда (я слышал по радио Ваше прекрасное мужественное приветствие съезду), я сообщаю…» и так далее (IV: 174)).
Конечно, мы можем предположить, что, например, в финальных строках одного из вариантов стихотворения Мандельштама «Ночь. Дорога. Сон первичный…», находившегося в работе с 23 по 27 декабря 1936 года, отразились газетные сообщения о смерти Николая Островского[866]866
См. соответствующие подборки траурных материалов, например: Известия. 1936. 23 декабря. С. 1; Коммуна. 1936. 24 декабря. С. 4.
[Закрыть], в чьем романе «Как закалялась сталь», как и в мандельштамовском стихотворении, описана:
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков[867]867
О реминисценциях из «Как закалялась сталь» в другом воронежском стихотворении поэта см.: Алекс де Жонж. Как закалялось стихотворение: Мандельштам и Н. Островский // Русская литература ХХ века в исследованиях американских ученых. СПб., 1993.
[Закрыть].
А ритмический рисунок и образность этого и еще целого ряда стихотворений декабря 1936 года, возможно, были подсказаны Мандельштаму тем отрывком из поэмы Аделины Адалис «Киров», который был напечатан на первой странице «Литературной газеты» 30 апреля 1935 года[868]868
Поэма не вошла в книгу Адалис «Власть», которую Мандельштам рецензировал в 1935 году. См.: III: 275–278.
[Закрыть].
Сравним:
Напишу я, братья, книгу
Про колхозную зарю, –
Ленинградскому обкому
В красной папке подарю!
А. Адалис
Трудодень страны знакомой
Я запомнил навсегда:
Воробьевского райкома
Не забуду никогда!
О. Мандельштам
Однако газетные подтексты и злободневный фон оказываются для процитированного и других стихотворений Мандельштама декабря 1936 года периферийными, то есть лишенными решающей объяснительной силы.
Это справедливо уже в отношении начального стихотворения второго воронежского периода, датированного 6–9 декабря 1936 года[869]869
Датируем по изданию: Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 251. Согласно другому авторитетному изданию, стихотворение писалось с 6 по 8 декабря. См.: Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. С. 191.
[Закрыть]:
Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов –
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.
Гуди, старик, дыши сладко́,
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко, –
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов[870]870
Без привлечения газетных подтекстов это стихотворение разобрано в работе: Черашняя Д.И. Гудок, гудки, гудочки… (к семантике единственного и множественного в воронежских стихах Мандельштама) // Смерть и бессмертие поэта.
[Закрыть].
Газетный фон у приведенного мандельштамовского стихотворения такой: 5 декабря 1936 года на том самом чрезвычайном VIII съезде Советов, о котором Мандельштам упоминал в письме к Н. Тихонову, был утвержден текст новой Конституции Советского Союза. 6 декабря вся страна с воодушевлением отмечала это событие, о чем красноречиво свидетельствуют заголовки газетных подборок: «Великий день народного ликования»[871]871
Известия. 1936. 7 декабря. С. 3.
[Закрыть], «Всенародное ликование»[872]872
Правда. 1936. 7 декабря. С. 1.
[Закрыть], «Великий день. 90 000 трудящихся на улицах Воронежа»[873]873
Коммуна. 1936. 8 декабря. С. 1.
[Закрыть] и многие другие.
Первостепенно важная роль в ритуале принятия и празднования сталинской Конституции была отведена звуковой составляющей, что подметил, в частности, Всеволод Вишневский в своем экспрессивном «правдинском» репортаже «Чудесное расположение духа»: «Из тумана, сквозь туман – со всех сторон шли звуковые и возбуждающие нервные волны и токи»[874]874
Вишневский В. Чудесное расположение духа // Правда. 1936. 7 декабря. С. 2. Вишневскому Мандельштам передавал привет в письме к жене от 28 декабря 1936 года (IV: 166).
[Закрыть]. В этой звуковой составляющей были отчетливо различимы и заводские гудки – символ пролетарского приветствия новой Конституции. Приведем здесь только два примера, выбранные почти наудачу из воронежской «Коммуны»: «Заводской гудок. Рабочие, стахановцы, инженеры и техники 2-го механического цеха воронежского завода им. Сталина спешат на митинг, посвященный докладу товарища Сталина» о проекте новой Конституции[875]875
Приятно и радостно иметь такую конституцию: [Редакционная статья] // Коммуна. 1936. 28 ноября. С. 3.
[Закрыть]; «Гудок возвестил об окончании работы. Ворота цехов Острожского завода им. Тельмана распахнулись, и сотни людей – рабочие, работницы, инженеры, техники, конторщицы, пробираясь между пахнущих свежей краской вагонов, вереницей потянулись к клубу, потоком влились в его просторный и нарядный зал»[876]876
Слова горячей любви: [Редакционная статья] // Коммуна. 1936. 29 ноября. С. 3.
[Закрыть].
В намеченный ряд без натяжки встраивается финал мандельштамовского стихотворения («Гуди протяжно в глубь веков, / Гудок советских городов»)[877]877
«В глубь веков» тут, по-видимому, означает – в две стороны, в глубь прошедших и в глубь еще не наступивших веков.
[Закрыть], а также синтаксически и фонетически объединенная пара («заводов и садов») из его четвертой строки: отработавшие «за власть ночных трудов» стахановцы – в садах, парках и в заводских цехах радостно отмечают всенародный праздник[878]878
Отметим, впрочем, что, по мнению А.Г. Меца, в третьей строке стихотворения «<п>одразумевается труд поэтический» (Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 615).
[Закрыть].
10 декабря 1936 года, на исходе конституционных торжеств, московский Большой театр показал оперу Н.А. Римского-Корсакова «Садко»[879]879
См., например: Известия. 1936. 10 декабря. С. 4.
[Закрыть].
Подсвеченное всеми этими газетными подтекстами, стихотворение Мандельштама может быть прочитано как звуковой привет новой Конституции из глубины былинной, оперной русской древности.
Тем не менее нужно признать, что злободневная газетная тема в стихотворении «Из-за домов, из-за лесов…» затушевана. Не знай мы о том, что Мандельштам работал над ним 6–9 декабря 1936 года, приурочить стихотворение ко дню принятия сталинской Конституции было бы весьма затруднительно. Еще труднее с помощью отсылок к газетному материалу прояснить остальные мандельштамовские стихотворения декабря 1936 года – января 1937 года.
Интенсивное возвращение «газетной», «гражданской» образности в стихи Мандельштама пришлось на вторую половину января – первые числа февраля 1937 года. И связано это было с работой поэта над большим благодарственным стихотворением о Сталине «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», в домашнем обиходе получившем заглавие «Ода».
К 1937 году в советской поэзии уже успел сложиться определенный, хотя и негласный канон, с которым сверялся любой автор, бравшийся за стихотворение или поэму о Сталине. Можно даже сказать, что все стихотворные строки о вожде этого времени в совокупности развертываются в удивительно цельный, внутренне непротиворечивый текст. Сталин предстает в нем богочеловеком: дозированное перечисление реальных (и/или считавшихся в 1937 году реальными) обстоятельств биографии «кремлевского горца» соседствует в интересующем нас коллективном тексте с воспеванием сталинских сверхъестественных дарований и свойств.
Ключевыми событиями биографии отца народов советские предвоенные поэты, судя по их стихам, считали:
– детство на Кавказе: «Для веселых птенцов, / Для растущих бойцов / Наша песня о горном орле! / Это было в далеком грузинском селе, / Там, где крепость стоит на скале… / Невелик городок, / Веет с гор холодок, / Тополя разместились в рядок; / Луг блестит от росы, / И во время грозы / Листья падают в горный поток… / Эту землю порой / Бьет подземный прибой – / Вулканической силы раскат… / Но земля, чтоб не сдать, / Расцветает опять, / Наливает огнем виноград! / Там домишко стоит, / Неказистый на вид, / Где семья трудовая жила. / Этот каменный кров / Был и прост и суров, / Как должно быть гнездо у орла. / Там ты – маленький – рос, / Задал первый вопрос, / Там ты первую книжку открыл, – / И над всею землей / Свежий ветер шумит / От твоих развернувшихся крыл!» (А. Адалис)[880]880
Адалис А. Братство: стихи 1936 г. М., 1937. С. 40–41.
[Закрыть]; «Любо помнить: Сталин… Он с Кавказа… / И тихонько петь аульный стих» (Я. Городской)[881]881
Городской Я. Июль. Киев, 1937. С. 63.
[Закрыть]; «Припоминая отрочества годы, / хотел понять я, как в такой глуши / образовался действием природы / первоначальный строй его души, – / как он смотрел в небес огромный купол, / как гладил буйвола, как свой твердил урок, / как в тайниках души своей баюкал / то, что еще и высказать не мог» (Н. Заболоцкий)[882]882
Заболоцкий Н. Вторая книга: стихи. Л., 1937. С. 44–45.
[Закрыть].
– аресты, тюрьмы и ссылки: «Метелью Сибирь заровняла / Дороги пройденные им» (В. Гаприндашвили)[883]883
Стихи и песни о Сталине. М., 1937. С. 20.
[Закрыть]; «И сколько, сколько раз бежал ты из неволи» (И. Гачечиладзе)[884]884
Грузинские стихи и песни о Сталине. Тбилиси, 1937. С. 15.
[Закрыть]; «Злая Сибирь им исхожена» (Грузинская народная песня)[885]885
Там же. С. 155.
[Закрыть].
– клятву над телом Ленина: «Тобою говорит трудящийся народ, / Громовый голос ты земли освобожденной, / И потрясет столетий ровный ход / Сталь клятвы Сталина, борьбою закаленной» (Ш. Абхаидзе)[886]886
Там же. С. 12.
[Закрыть]; «В день смерти Ленина сердца, на миг остановясь, / Рванулись к солнцу твоему, к железной клятве той» (Н. Зарьян)[887]887
Стихи и песни о Сталине. С. 36.
[Закрыть]; «Такую же стальную, как и сам ты, / Ты клятву дал у ленинского гроба, / Не нарушил ты ее и не нарушишь, / Пускай врага задушит яда злоба» (С. Шаншиашвили)[888]888
Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 78.
[Закрыть].









































