Текст книги "Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография"
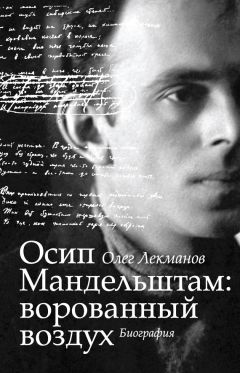
Автор книги: Олег Лекманов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Нотная страница – это революция в старинном немецком городе.
Большеголовые дети. Скворцы. Распрягают карету князя. Шахматисты выбегают из кофеен, размахивая ферзями и пешками.
Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге – это Гендель.
Но до чего воинственны страницы Баха – эти потрясающие связки сушеных грибов[240]240
Об этом композиторе Мандельштам написал восторженное стихотворение «Бах» (1913): «А ты ликуешь, как Исайя, / О рассудительнейший Бах! / Высокий спорщик, неужели, / Играя внукам свой хорал, / Опору духа в самом деле / Ты в доказательстве искал?»; ему же посвящены следующие строки в стихотворении «А небо будущим беременно…» (1923): «Давайте слушать грома проповедь, / Как внуки Себастьяна Баха, / И на востоке и на западе / Органные поставим крылья!» и два пассажа в программном мандельштамовском эссе «Утро акмеизма»: «Мы вводим готику в отношения слов, подобно тому как Себастьян Бах утвердил ее в музыке <…>. Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства!» (I: 178, 180).
[Закрыть] <…>.
Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы; пусть труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу» (II: 480–481)[241]241
Подробнейший разбор этого эпизода см. в статье: Кац Б.А. Из заметок о «нотном отступлении» в «Египетской марке» Осипа Мандельштама // Русско-французский разговорник, или / Ou les Causeries du 7 Septembre. Сборник в честь В.А. Мильчиной. М., 2015. С. 398–431. См. также комментированное издание: Осип Мандельштам. Египетская марка: Пояснения для читателя /авт.-сост. О. Лекманов, М. Котова, О. Репина, А. Сергеева-Клятис, С. Синельников. М., 2012.
[Закрыть].
Приведем также упоенный перечень из мандельштамовского воронежского стихотворения 1935 года, посвященного скрипачке Галине Бариновой:
За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой –
Кто с чохом – чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.
Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей –
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом[242]242
См. также в эссе Мандельштама «Разговор о Данте» (1933): «Виолончель задерживает звук, как бы она ни спешила. Спросите у Брамса – он это знает» (III: 247).
[Закрыть], нет, постой –
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –
Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.
Из австрийских композиторов для Мандельштама был еще важен Глюк, чья опера «Орфей и Эвридика» стала фоном для мандельштамовского стихотворения 1920 года:
Представление оперы Рихарда Вагнера «Валькирия» в Мариинском театре отразилось в ироническом стихотворении Мандельштама 1914 года:
Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.
Это стихотворение представляет собой чуть замаскированный выпад Мандельштама-акмеиста против злоупотреблявшего «большими темами и отвлеченными понятиями» (II: 291) русского символизма. Образ занавеса во второй его строке, вероятно, отсылает разбирающегося читателя к следующему фрагменту статьи Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии»: «Катастрофа символизма совершалась в тишине – хотя при поднятом занавесе. Ослепительные “венки сонетов” засыпали сцену. Одна за другой кончали самоубийством мечты о мифе, трагедии, о великом эпосе, о великой в просторе своей лирике»[244]244
Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. С. 71.
[Закрыть]. Напомним, что едва ли не самыми увлеченными пропагандистами Вагнера в России были именно символисты. Достаточно будет указать на «разбавленные вагнеровскими аллегориями»[245]245
Гюнтер И. Жизнь на восточном ветру (из книги) // Наше наследие. 1990. № 6. С. 62.
[Закрыть] стихи Андрея Белого из книги «Золото в лазури»:
«Швырну расплавленные гири я
С туманных башен…»
Вот мчится в пламени валькирия,
Ей бой не страшен…
или на стихотворение Александра Блока «Валькирия (на мотив из Вагнера)»[246]246
О символистах и Вагнере подробнее см., например: Гозенпуд А.А. Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990.
[Закрыть].
Также в стихах, прозе и письмах Мандельштама упоминается «легкая и воинственная музыка» из оперы Бизе «Кармен» (II: 254); «рассудочная музыка» Дебюсси (II: 591); «славянские танцы № 1 и № 8» Дворжака, в которых поэта привлекли «бетховен<ская> обработка народных тем, богатство ключей, умное веселье и щедрость» (IV: 199); «Палестины песнь», от которой «нисходит благодать» (образ из стихотворения «В хрустальном омуте какая крутизна…»); и, наконец, Чайковский, к чьей музыке отношение Мандельштама с годами слегка менялось. В «Шуме времени» рассказывается о детском мандельштамовском восприятии произведений композитора: «Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желанье Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди <дачного забора> и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра» (II: 364). Но в набросках к несохранившемуся стихотворению 1937 года поэт дал творчеству композитора такую характеристику: «Чайковского боюсь – он Моцарт на бобах…»
Из мандельштамовской некрологической статьи «Пушкин и Скрябин» (1914), тоже сохранившейся только в отрывках, становится понятным, что скрябинская музыка привлекала Мандельштама не в последнюю очередь своей удивительной цельностью, которой, как мы помним, поэт-акмеист был одержим: «Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии: гармоническая архитектоника звучного мгновения, великолепная архитектоника в полуночном разрезе звучности и почти аскетическое пренебрежение к формам» (I: 205).
18 ноября 1915 года Мандельштам вместе с Каблуковым был на концерте дирижера С.А. Кусевицкого, посвященном памяти Скрябина. 30 декабря поэт принес Каблукову в подарок второе издание «Камня», выпущенное акмеистическим «Гипербореем» (на обложке этого издания был проставлен 1916 год). «<П>о внешности оно не очень удачно: жидкая и дряблая бумага типа плохого “верже”, невыдержанный шрифт, более чем достаточно опечаток, иногда явно безобразных», – с огорчением записал в своем дневнике Каблуков[247]247
О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 251.
[Закрыть].
На второй «Камень» в столичной и провинциальной прессе появилось около двадцати рецензий, в основном сдержанно-одобрительных. Своей благожелательностью выделялись отклики Гумилева, Волошина и молодого критика Габриэля Гершенкройна. Своею резкой недоброжелательностью – рецензия пушкиниста-скандалиста Николая Лернера. «У г. Мандельштама есть дарование, но рядовое, незначительное, и принесенный им на алтарь русской музы тяжелый, плохо обтесанный и тусклый “Камень” скоро затеряется в груде таких же усердных, но бедных приношений»[248]248
Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 229.
[Закрыть]. Двадцать лет спустя, даря С.Б. Рудакову второе издание «Камня», Мандельштам снабдил его следующим инскриптом: «Эта книжка доставила большое огорчение моей покойной матери, прочитавшей в “Речи” рецензию Н.О. Лернера»[249]249
О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 184.
[Закрыть] (справедливости ради, необходимо напомнить, что в пореволюционные годы Лернер оценивал творчество Мандельштама – особенно его прозу – куда доброжелательнее).
Многие рецензенты писали о поэзии автора «Камня» как о наиболее характерном явлении акмеизма, хотя акмеизм к этому времени уже изрядно выдохся.
16 апреля 1914 года, на следующий день после очередной встречи с Николаем Гумилевым, Сергей Городецкий отправил ему пространное послание, содержащее обвинения в «уклоне от акмеизма»[250]250
Цит. по: Неизвестные письма Н.С. Гумилева. С. 70.
[Закрыть], который Гумилев якобы не считает школой. В ответном письме Гумилев с обидой утверждал: «<Р>ешать о моем уходе из акмеизма или из Цеха поэтов могу лишь я сам, и твоя инициатива в этом деле была бы только предательской <…>. Я всегда был с тобой откровенен и, поверь, не стану цепляться за наш союз, если ему суждено кончиться»[251]251
Там же.
[Закрыть]. Впоследствии отношения между двумя вождями акмеизма были до некоторой степени восстановлены. «В 1915 году произошла попытка примирения, и мы были у Городецких на какой-то новой квартире (около мечети) и даже ночевали у них, – вспоминает Ахматова, – но, очевидно, трещинка была слишком глубокой, и возвращение к прежнему было невозможно»[252]252
Ахматова А. Автобиографическая проза. С. 7.
[Закрыть].
Впрочем, Мандельштам успел поссориться с Городецким еще раньше. 21 октября 1913 года на квартире Николая Бруни состоялось заседание «Цеха», на котором автор «Камня» был временно избран синдиком объединения (вместо отсутствовавшего Городецкого). «Вдруг является Городецкий. Пошла перепалка, во время которой М<андельшта>м и Г<ородецкий> наговорили друг другу массу дерзостей и расстались врагами» (Из письма М. Долинова – к Б. Садовскому)[253]253
Цит. по: Тименчик Р.Д. О трудах и днях Ахматовой // Новое литературное обозрение. № 29. (1998). С. 421.
[Закрыть]. Как нам еще предстоит убедиться, ссора Мандельштама с Городецким не стала роковой для отношений двух поэтов. Однако домашняя и уютная обстановка акмеистического дружеского кружка, столь ценимая недолгим синдиком объединения, непоправимо потускнела. Из воспоминаний Ахматовой: «Мандельштам довольно усердно посещал собрания Цеха, но в зиму 1913–14 (после разгрома акмеизма) мы стали тяготиться Цехом и даже дали Городецкому и Гумилеву составленное Осипом и мною прошение о закрытии Цеха. Городецкий наложил резолюцию: “Всех повесить, а Ахматову заточить…”»[254]254
Ахматова А. Автобиографическая проза. С. 7.
[Закрыть]
Из тех рецензий на «Камень», где об акмеизме не говорится ни слова, особого внимания заслуживает отклик на книгу Мандельштама, написанный Максимилианом Волошиным: «<П>ередо мной два сборника стихов, Софии Парнок и О. Мандельштама, вышедшие в этом году, волнующие по-разному, но одним и тем же волнением. Волнением голоса, в который хочется вслушаться, который хочется остановить, но он скользит, как время между пальцев <…>. Рядом с гибким и разработанным женским контральто, хорошо знающим свою силу и умеющим ею пользоваться, юношеский бас О. Мандельштама может показаться неуклюжим и отрочески ломающимся. Но какое богатство оттенков, какой диапазон уже теперь намечены в этом голосе, который будет еще более гибким и мощным»[255]255
Волошин М. Голоса поэтов // Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 545–547.
[Закрыть].
Обожавший игровую стихию Волошин не случайно совместил свой отзыв о «Камне» с откликом на книгу Парнок «Стихотворения»: именно Мандельштаму в первых числах 1916 года было суждено вытеснить Софию Парнок из сердца и стихов Марины Цветаевой. Шутки на эту тему процветали в кругу Волошина. Из коктебельских воспоминаний Елизаветы Тараховской: «О. Мандельштам очень любил стихи Марины Цветаевой и не любил стихов моей сестры Софьи Парнок. Однажды мы разыграли его: прочитав стихи моей сестры Софии Парнок, выдали их за стихи Марины Цветаевой. Он неистово стал расхваливать стихи моей сестры. Когда розыгрыш был раскрыт, он долго на всех нас злился»[256]256
Тараховская Е. Осип Эмильевич Мандельштам // «Сохрани мою речь…». Вып. 2. М., 1993. С. 24.
[Закрыть].
С сестрами Анастасией и Мариной Цветаевыми Мандельштам познакомился еще летом 1915 года в Коктебеле, в гостеприимном доме Волошина (сам хозяин об эту пору проживал в Париже). Особой теплоты между ними тогда не возникло.
В начале января 1916 года Марина Цветаева и Мандельштам вновь встретились в Петрограде, и эта встреча послужила прологом к первой разделенной – пусть и ненадолго – мандельштамовской любви. Вскоре Цветаевой будет вручено второе издание «Камня» с такой дарственной надписью: «Марине Цветаевой – камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург, 10 янв. 1916»[257]257
Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 280.
[Закрыть]. А 20 января Мандельштам впервые в жизни посетил вторую столицу. «<Н>е договорив со мной в Петербурге, приехал договаривать в Москву» (Из письма Цветаевой к М.А. Кузмину)[258]258
Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М., 1995. С. 210.
[Закрыть].
В стихах Мандельштама и Цветаевой этого периода темы любви и Москвы причудливо наплывают друг на друга, дополняя одна другую. «– Что “Марина” – когда Москва?! “Марина” – когда Весна?! О, Вы меня действительно не любите!»[259]259
Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 574.
[Закрыть] Этот относящийся к весне 1916 года свой упрек Мандельштаму вспоминала Цветаева семь лет спустя в письме к А. Бахраху. Ей хотелось, чтобы Мандельштам любил всю Весну, Москву, весь мир в ней одной, в Марине. И в кратком союзе, и в стихотворном диалоге двух поэтов Цветаевой досталась роль «ведущей», а Мандельштаму – роль «ведомого». Ассоциации и мотивы из московских стихов Цветаевой, обращенных к Мандельштаму, варьировались и усложнялись в стихотворениях Мандельштама, обращенных к Цветаевой:
Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке – все сорок сороков,
И реющих над ними голубков.
И Спасские – с цветами – ворота,
Где шапка православного снята.
М. Цветаева. «Из рук моих – нерукотворный град…»
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Эти и подобные им стихи Мандельштама Цветаева позднее назовет «холодными великолепиями о Москве»[261]261
Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. М., 2004. С. 108.
[Закрыть].
До июня 1916 года Мандельштам посещал Москву столь регулярно, что это дало повод М.Р. Сегаловой пошутить в письме к Сергию Каблукову (хлопотавшему о месте для поэта в одном из московских банков): «Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то не возьмет ли он место и там, и здесь? Или он уже служит на Николаевской железной дороге? Не человек, а самолет»[262]262
О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 255.
[Закрыть]. Между прочим, в Москве Мандельштам посетил перебравшегося туда Вячеслава Иванова, который «признал» (выражение Каблукова) новые мандельштамовские стихи[263]263
Там же. С. 252.
[Закрыть].
Сверхцеломудренного Каблукова настроения, овладевшие поэтом, глубоко расстроили. «Какая-то женщина явно вошла в его жизнь, – записывает он в своем дневнике. – Религия и эротика сочетаются в его душе какою-то связью, мне представляющейся кощунственной. Эту связь признал и он сам, говорил, что пол особенно опасен ему, как ушедшему из еврейства, что он сам знает, что находится на опасном пути, что положение его ужасно, но сил сойти с этого пути не имеет и даже не может заставить себя перестать сочинять стихи во время этого эротического безумия»[264]264
Там же. С. 256.
[Закрыть]. Вряд ли Каблукову понравился «кощунственный» цветаевский подарок Мандельштаму – кольцо, «серебряное, с печатью – Адам и Ева под древом добра и зла» (описание из записной книжки самой поэтессы)[265]265
Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: в 2 т. Т. 2. М., 2001. С. 90.
[Закрыть].
19 мая Цветаева отправила Елизавете Эфрон письмо, ясно свидетельствовавшее о том, что ее чувства к Мандельштаму отпылали. «Конечно, он хороший, я его люблю, – писала она, – но он страшно слаб и себялюбив, это и трогательно, и расхолаживает. Я убеждена, что он еще не сложившийся душою человек, и надеюсь, что когда-нибудь – через счастливую ли, несчастную ли любовь – научится любить не во имя свое, а во имя того, кого любит. Ко мне у него, конечно, не любовь, это – попытка любить, может быть и жажда»[266]266
Цит. по: Лубянникова Е.И. Осип Мандельштам в Александрове // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. М., 2001. С. 356.
[Закрыть].
Тем не менее в первых числах июня 1916 года Мандельштам приехал погостить к Цветаевой в подмосковный Александров. О развернувшихся здесь событиях поэтесса пятнадцать лет спустя «с материнским юмором» (собственная цветаевская автохарактеристика из письма к С. Андрониковой)[267]267
Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 7. С. 139.
[Закрыть] поведала в мемуарном очерке «История одного посвящения»: «Отъезд <Мандельштама в Коктебель> произошел неожиданно если не для меня с моим четырехмесячным опытом – с февраля по июнь – мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал»[268]268
Цветаева М. История одного посвящения // Осип Мандельштам и его время. С. 93.
[Закрыть].
С юмором, но отнюдь не «материнским», Цветаева изобразила обстоятельства визита Мандельштама в Александровскую слободу в письме ко все той же Елизавете Эфрон от 12 июня 1916 года: «<О>н умолял позволить ему приехать тотчас же и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На следующее утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять – был чудесный ясный день, – он, конечно, не пошел – лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно, и я решительно повела его на кладбище <…>. День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером – впрочем, ночью, около полуночи, – он как-то приумолк, лег на оленьи шкуры и стал неприятен <…>. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный»[269]269
Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 90–92.
[Закрыть].
Эхо визита в Александров звучит в последнем из обращенных к Цветаевой стихотворении Мандельштама:
Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
……………………………………
…………………………………….
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться – значит быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой,
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок[270]270
Подробнее об этом стихотворении см.: Vitins I. Mandelstam’s Farewell to Marina Tsvetaeva: «Ne veria voskresenia chudu» // Slavic Review. 1989. Vol. 48. P. 266–280.
[Закрыть].
(Отметим в скобках, что в финальной строфе этого стихотворения обнаруживается синтаксическая двусмысленность из тех, что огорчали Сергия Платоновича Каблукова: читателю остается только гадать, кого «не отрываясь целовала» «монашенка» – изображение Спаса или самого поэта?)
О внутреннем состоянии Мандельштама, расстававшегося с Цветаевой, выразительно свидетельствует еще одна деталь из письма поэтессы к Елизавете Эфрон: «Кроме того, <он> страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку»[271]271
Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 92.
[Закрыть].
Вместе с братьями Осипом и Александром Мандельштамами в коктебельском доме Максимилиана Волошина летом 1916 года проживали еще не написавший своих лучших стихов Владислав Ходасевич, художница Юлия Оболенская, пианистка и композитор Ю.Ф. Львова, чьей дочери Ольге Ваксель спустя несколько лет предстояло стать героиней мандельштамовской любовной лирики… Если верить Ходасевичу, местное общество отнеслось к Мандельштаму без большой приязни. «Мандельштам. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посмешище всекоктебельское», – 18 июля писал Ходасевич Б.А. Диатроптову[272]272
Цит. по: Купченко В.П. Осип Мандельштам в Киммерии. С. 191.
[Закрыть]. Следует, впрочем, учитывать то обстоятельство, что и всегда-то не слишком доброжелательный Ходасевич в данном случае мог быть раздосадован собственным неуспехом на поэтическом вечере, который состоялся 18 июля в Феодосии. Из письма Ю. Оболенской к М. Нахман: «Ходасевичу и <актеру> Массалитинову, на бис читавшему Пушкина, <из публики> кричали: “довольно этих Мандельштамов”»[273]273
Осип Мандельштам в Крыму летом 1916 года. Неизвестное письмо Юлии Оболенской // Русская мысль. Париж, 1996. 25 апреля – 1 мая. С. 13.
[Закрыть].
В двадцатых числах июля Осип и Александр Мандельштамы получили телеграмму от отца с сообщением о тяжелейшем инсульте, который случился у Флоры Осиповны. 26 июля, не приходя в сознание, мать поэта скончалась в петербургской Петропавловской больнице. Старшие сыновья успели только на похороны. Заупокойная служба совершилась в Доме для отпевания умерших еврейского Преображенского кладбища. Описание этой службы находим в таинственном мандельштамовском стихотворении, в основу которого легли впечатления от погребения матери:
Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло!
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее –
Баю-баюшки-баю –
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.
И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян[274]274
Подробнее об этом стихотворении см., например: Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 26–27.
[Закрыть].
«Со смертью матери начался распад семьи Мандельштамов, – свидетельствовал младший брат поэта, Евгений. – Каждый из нас по-своему пережил это тяжелое горе. Мы сразу ощутили пустоту и неустроенность. Мучила мысль о нашей вине перед матерью за ее раннюю смерть, о нашем эгоизме и недостаточном внимании. Смерть матери оставила свой след на душевном складе всех сыновей. Особенно сильно поразила она наиболее реактивного из нас – Осипа <…>. Чем старше становился Осип, тем острее ощущал он свою вину перед мамой. Со временем Осип до конца понял, чем ей обязан, что она сделала для него»[275]275
Мандельштам Е. Воспоминания. С. 141.
[Закрыть]. Полукомический и трогательный штрих из мемуаров Нины Бальмонт-Бруни: «<О>ни с братьями страшно любили свою мать, и когда нуждались в деньгах, то посылали друг другу телеграмму: “Именем покойной матери, пришли сто” или “Прошу сто”. И Осип Эмильевич говорил: “Никогда не было отказов, но зато мы этим и не злоупотребляли”»[276]276
Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 74.
[Закрыть].
Новый 1917 год Мандельштам встретил у Каблукова, успев пережить еще одну влюбленность – в грузинскую княжну Саломею Николаевну Андроникашвили (Андроникову) (1888–1982). «Нервная, очень подвижная, она все делала красиво: красиво курила, красиво садилась с ногами в большое кресло, красиво брала чашку с чаем, и даже в ее манере слегка сутулиться и наклонять вперед голову, когда она разговаривала стоя, было что-то милое и женственное» (из рассказа В. Карачаровой «Ученик чародея», прототипом героини которого, как установил Р.Д. Тименчик, послужила Андроникова)[277]277
См.: Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О.Э. Мандельштама // Stanford Slavic Studies. Vol. 12. [1997]. С. 11.
[Закрыть]. Мандельштам посвятил Андрониковой несколько стихотворений, в том числе прославленную «Соломинку» (1916):
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, – что может быть печальней, –
На веки чуткие спустился потолок,
Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей[278]278
Подробнее об этом стихотворении см.: Гаспаров М.Л. «Соломинка» Мандельштама // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 185–197.
[Закрыть].
5
Февральская революция застала поэта в Петрограде. Десять лет спустя в повести «Египетская марка» (1927) он пренебрежительно обзовет автомобили Временного правительства «шалыми» (II: 473), само правительство – «лимонадным» (II: 473), а государство – уснувшим, «как окунь» (II: 478). Но это, без сомнения, ретроспективная оценка. Первоначально Мандельштам встретил февраль 1917 года с воодушевлением. Е.А. Тоддес совершенно справедливо отметил, что о тогдашних настроениях поэта красноречиво свидетельствует принятое им весной 1917 года решение опубликовать свое недавно созданное стихотворение «Дворцовая площадь»[279]279
См.: Тоддес Е.А. Поэтическая идеология. С. 35.
[Закрыть]. Стихотворение это завершается зловещей эмблемой черно-желтого императорского штандарта:
Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится –
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла!
Четырьмя годами раньше Мандельштам написал загадочное восьмистишие о той же Дворцовой площади, в третьей строке которого карикатура на Павла I была совмещена с шаржем на Александра I, а в четвертой Александр I и Александр II через общее имя были объединены в целостный образ императора, замученного зловещим Зверем из Апокалипсиса (употребленная в шестой строке формула «на камне и крови» должна была напомнить читателю о храме, сооруженном на месте смертельного ранения Александра II):
Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.
Курантов бой и тени государей…
Россия, ты – на камне и крови —
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови![280]280
Подробнее об этом стихотворении см.: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 496–504.
[Закрыть]
Как тут не вспомнить о мандельштамовской характеристике Огюста Барбье, который, согласно автору «Камня», умел «одной строкой, одним метким выражением определить всю сущность крупного исторического явления»? (II: 305)
И все-таки до октября 1917 года Мандельштам ощущал себя поэтом лирическим, порой историософским, но не поэтом-гражданином. В конце мая 1917 года он, не отступая от уже сложившейся традиции, покинул столицу и уехал в Крым. Много позднее, в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (1931), мандельштамовский отъезд из Петрограда был мотивирован так:
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя![281]281
Подробнее об этом стихотворении см., например: Бродский И.А. «С миром державным я был лишь ребячески связан…» // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 9–17.
[Закрыть]
Среди тех, кто окружал Мандельштама в Крыму летом и осенью 1917 года в Алуште, красавиц было предостаточно. Это и Анна Михайловна Зельманова, и Саломея Николаевна Андроникова, и поэтесса Анна Дмитриевна Радлова, чьи стихи Михаил Кузмин хвалил, а Мандельштам пародировал («Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана», – сочла нужным указать в своих «Листках из дневника» ненавидевшая Радлову Ахматова)[282]282
Ахматова А. Листки из дневника. С. 128.
[Закрыть]. 3 августа, в день именин Андрониковой, компанией поэтов и филологов была разыграна шуточная пьеса «Кофейня разбитых сердец», сложенная при участии Мандельштама. Он сам выведен в пьесе под именем поэта дона Хозе Тиж д’Аманда – перевод на французский фамилии Mandelstamm. В пьесе этот персонаж изъясняется строками из чуть переиначенных мандельштамовских стихотворений. Интересно, что никому из компании, включая Зельманову и Андроникову, по-видимому, не были известны стихи целомудренно-сдержанного Мандельштама о любви. Неслучайно в уста Тиж д’Аманда был вложен такой монолог, обыгрывающий заглавие первой мандельштамовской книги:
Любовной лирики я никогда не знал.
В огнеупорной каменной строфе
О сердце не упоминал.
Также обратим внимание на то обстоятельство, что сцены с участием Тиж д’Аманда содержат своеобразный травестийный комментарий к будущим мандельштамовским строкам о смущеньи, надсаде и горе, принятом им от «европеянок нежных». Из восьми реплик, обращенных к несчастному поэту главной героиней «Кофейни» – Суламифью (Саломеей Андрониковой), – четыре звучат не слишком ласково: «Чушь»; «Вздор. / Ступайте-ка влюбиться, / Да повздыхать, да потомиться, / Тогда пожалуйте в кафе»; «Куда ты лезешь? Ишь, какой проворный! / Проваливай»; «Как эта мысль вам в голову пришла?»
Спустя несколько дней после именин Саломеи Андрониковой Мандельштам пришел в гости на еще одну алуштинскую дачу, где поселился художник Сергей Юрьевич Судейкин со своей красавицей-женой Верой Артуровной (по детскому прозвищу Бяка). Этот визит описан в дневнике Судейкиной: «Белый двухэтажный дом с белыми колоннами, окруженный виноградниками, кипарисами и ароматами полей <…>. Здесь мы будем сельскими затворниками, будем работать и днем дремать в тишине сельских гор. Так и было. Рай земной. И вдруг появился Осип Мандельштам <…>. Как рады мы были ему <…>. Мы повели его на виноградники – “ничего другого не можем Вам показать. Да и угостить можем только чаем и медом. Хлеба нет”. Но разговор был оживленный, не политический, а об искусстве, о литературе, о живописи. Остроумный, веселый, очаровательный собеседник. Мы наслаждались его визитом»[283]283
Цит. по: Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О.Э. Мандельштама. С. 19. Менее романтический вариант: «<О>н ходил взад и вперед возле буфета – не для того, чтобы согреться, а затем, чтобы принюхаться, нет ли там чего съестного» (цит. по: Тименчик Р.Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. M.; Toronto, 2005. С. 542).
[Закрыть]. Сознательно или бессознательно, Вера Артуровна воспроизвела в своем рассказе ситуацию знаменитой «Тавриды» Константина Батюшкова:
Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
<…>
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод,
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Мандельштам, для которого Батюшков был поэтом, с чьей биографии он во многом «делал» собственную жизнь, изобразил свой визит к Судейкиным, воспользовавшись топонимом «Таврида» как заветным паролем:
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.
<…>
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы[284]284
Подробнее об этом стихотворении см., например: Аверинцев С.С. «Золотистого меда струя из бутылки текла…» // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 9—17.
[Закрыть].
В начале октября в Феодосии Мандельштам мимолетно пересекся с сестрами Цветаевыми. Реплика Марины, обращенная к Анастасии и ее спутникам: «Пожалуйста, не оставляйте нас вдвоем»[285]285
Цит. по: Купченко В.П. Осип Мандельштам в Киммерии. С. 193.
[Закрыть].
В Петроград Мандельштам возвратился 11 октября 1917 года, то есть к самой кульминации «событий мятежных», которые отозвались в сердце поэта болью и страхом. Из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года: «Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в “Воле народа” стихотворении “Керенский”. В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую КЕРЕНСКОГО, называя его птенцом Петра. А ЛЕНИНА называю временщиком»[286]286
Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 88–89.
[Закрыть].
Сделав поправку на специфику процитированного документа, примем к сведению содержащуюся в нем информацию. Тем более что в стихотворении «Когда октябрьский нам готовил временщик…» (которое в протоколе допроса фигурирует под заглавием «Керенский»), Мандельштам дал весьма недвусмысленную оценку действиям обеих противоборствующих сторон:
– Керенского распять, – потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала, –
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало!
А в другом послеоктябрьском стихотворении, обращенном к Анне Ахматовой, Мандельштам горестно сокрушался, не забывая при этом обыгрывать название эсеровской газеты, в которой это стихотворение было помещено:
Вместе с Ахматовой в конце 1917 – начале 1918 года Мандельштам участвовал в концертах Политического Красного Креста, выручка от которых предназначалась для заключенных в Петропавловской крепости членов Временного правительства. «Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом, – писала Ахматова. – Душа его была полна всем, что совершилось. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово народ не случайно фигурирует в его стихах.
Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917–18 годах, когда я жила на Выборгской у Срезневских»[288]288
Ахматова А. Листки из дневника. С. 131.
[Закрыть].
Частые встречи Мандельштама и Ахматовой разрешились неожиданным кризисом. Из ахматовских мемуаров: «После некоторого колебания решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что может дать людям материал для превратного толкования наших отношений. После этого, примерно в марте <1918 года> Мандельштам исчез <…>. Он неожиданно очень грозно обиделся на меня[289]289
Там же.
[Закрыть]». В дневнике Павла Лукницкого изложена куда более жесткая версия всего происшедшего: «Было время, когда О. Мандельштам сильно ухаживал за нею. <А.А.>: “Он был мне физически неприятен, я не могла, например, когда он целовал мне руку”. Одно время О. М. часто ездил с ней на извозчиках. А. А. сказала, что нужно меньше ездить во избежание сплетен. “Если б всякому другому сказать такую фразу, он бы ясно понял, что не нравится женщине… Ведь если человек хоть немного нравится, он не посчитается ни с какими разговорами, а Мандельштам поверил мне прямо, что это так и есть…”»[290]290
Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. С. 115.
[Закрыть].
Объективности ради напомним, что во «Второй книге» Надежды Яковлевны, не бывшей, впрочем, непосредственной свидетельницей обострения отношений между двумя поэтами, все акценты расставлены совершенно по-иному: «Мандельштам называл это “ахматовскими фокусами” и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены <…>. Я понимаю обиду Мандельштама, когда <…> Ахматова вдруг упростила отношения в стиле “мальчика очень жаль” и профилактически отстранила его»[291]291
Мандельштам Н. Вторая книга. С. 256.
[Закрыть].
В апреле 1918 года Мандельштам устроился делопроизводителем и заведующим Бюро печати в Центральную комиссию по разгрузке и эвакуации Петрограда. Советская служба вряд ли стала для него только вынужденным компромиссом с новыми властями, оправданным необходимостью добывать средства для своего существования. «Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям», – показал Мандельштам на допросе в 1934 году[292]292
Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 89.
[Закрыть]. Формула «делаю поворот» находит многозначительное соответствие в программном мандельштамовском стихотворении «Прославим, братья, сумерки свободы…», написанном в мае 1918 года (исследователи до сих пор спорят, о каких сумерках идет речь в этом стихотворении – вечерних или утренних):









































