Текст книги "Донос без срока давности"
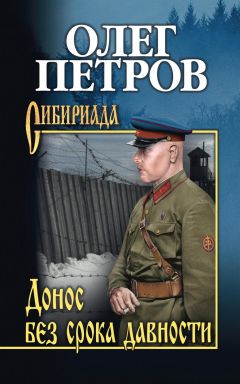
Автор книги: Олег Петров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Припомнил и авантюру, проделанную оперуполномоченным ОМЗ Лукиным, соседом по кабинету, разбитным малым, падким на скабрёзные анекдоты и дармовую выпивку. Скисшим вернулся Лукин с тройки – не прошли дела. Но горевал недолго. Ночью сам написал протоколы допросов вымышленных свидетелей, подписал левой рукой, и на следующий день дела через тройку прошли, шестерых арестованных осудили.
– Учись, пока я жив, – лопаясь от самодовольства, хвастался Лукин, совершенно не опасаясь возможных последствий своей болтовни.
Да… Прав Кочев – учителя в Чите хорошие…
– Иди-ка ты, Фёдор, поспи. Утро вечера мудренее, – встал из-за стола Кочев. – А демагогию всю свою – брось. Не то время и не то место. Давай отдыхай. С утра – ударный труд: продолжим дела компоновать. Ещё столько надо перелопатить, а времени твои читинские начальнички нам отпустили в обрез…
С утра Фёдора зазвал к себе Кожев:
– Вот тебе тюремное дело Михайлова. Какие мысли?
Пролистав дело, Фёдор пожал плечами:
– А что тут? Кроме халатности и недочётов при выдаче паспортов…
– Ты вот что… – нетерпеливо прервал начальник оперчасти. – Допроси насчёт Михайлова кое-кого из зэков. Сизикова, Таркова… – Кожев заглянул в бумаги на столе. – Горячева, Чулкевича, Чубарева. Эта пятёрка тебя просветит…
«Это – конечно, – подумал Фёдор, – ещё бы и Шкрябкова назвал! Полный списочек “помощничков” оперчасти!» Но возражать не стал.
– Тут, в моём кабинете, и работай с ними, а мне надо по неотложным… – сказал Кожев и вышел. Уже из коридора послышалось его указание дежурному направить к нему в кабинет, к «читинскому следователю», всю эту перечисленную «гвардию».
Потратив почти час времени, ничего нового Фёдор не услышал. Все пятеро бубнили как заученное: Михайлов – враг народа, среди заключённых ведёт антисоветские разговоры, троцкистские анекдоты рассказывает…
– Господи, как это всё надоело… – Вызванный на допрос после уголовной пятёрки Михайлов, худой и старый, с землистым цветом морщинистого лица, равнодушно смотрел за окно. Не поворачивая лица на Фёдора, глухо сказал: – У меня язва желудка, мне всё равно умирать… Но виновным себя не признаю… Вам-то я, доходяга, зачем? Для количества?.. Здесь, в лагере, и без меня хватает людей, которые любые показания дадут с целью своего благополучия. Хотя… Какое уж благополучие после этого… Здесь каждый сам за себя. Что наговорил – за то и получи… Да и я… Хоть землю жри, что невиновен, а кому до этого дело?
Повернулся к Фёдору и пронзительно упёрся взглядом.
– Молодой ты парень, гражданин следователь, многого, видимо, ещё не понял. А понять постарайся, пока самого не перемололи. Нынче это – запросто. Ты думаешь, меня за огрехи в работе паспортного ведомства забрали? – кивнул Михайлов на лежащее перед Фёдором «Дело». – Да нет, как соучастник злодеев-троцкистов прохожу. Никогда не слышал, что такое соучастие через сочувствие? Нет? Диковинная формулировочка? А ничего в ней диковинного нет. Ляпнул в одной компании, мол, не слишком ли много у нас троцкистов обнаружилось среди самого обыкновенного, простого народа… Посочувствовал, так сказать. Вот и заполучил соучастие… Ну а теперь, как понимаю, решили из одиночки-пособника покрупнее рыбину соорудить? Хоть поделитесь, какова наша контрреволюционная банда по численности, да подскажите пару-другую фамилий. Про кого мне с кровью выплёвывать, когда Кочев с Завьяловым в кулаки возьмут?
В кабинет вальяжно вошёл Кочев. «Помяни чёрта, и он явится!» – мелькнуло в голове у Фёдора.
– Ну что, даёт показания? Сознался?
– Да нет, вины за собой…
– Если будешь так допрашивать, – Кочев презрительно окинул взглядом сидящего за столом Фёдора, сгорбившегося на табуретке и втянувшего при появлении Кочева голову в плечи Михайлова, – он тебе никогда не даст показаний.
Кочев взял свободную табуретку и поставил посредине кабинета.
– Встать, Михайлов!
Тот медленно поднялся, ещё больше сгорбившись и втянув голову. Кочев взял вторую табуретку и поставил её на первую.
– Залезай, Михайлов!
Тот неуклюже взгромоздился наверх.
– А теперь мы делаем так! – Кочев со всей силы пнул по нижней табуретке. С грохотом Михайлов обрушился на пол, громко застонал.
– Больно? А так? – Кочев схватил стоявшую у стенного шкафа увесистую палку и, кхекая, ударил дёргавшегося на полу Михайлова по пояснице.
– Не, ты, бля, погляди! Обоссался, говнюк! – И замахнулся снова.
– Стой! – выскочил из-за стола Фёдор. – Стой, дурак! Видишь?
Фёдор ткнул пальцем: по штанам Михайлова расплывалось бурое пятно. – Кровь!
– Лопнуло у этого дохляка чево-то внутри, – сморщился Кочев.
– Кочев, ты здесь? – В кабинет просунулась голова лагерного коменданта Ахметова. – Чего вызывал?
– А? – Опер перевёл глаза на коменданта. – Да-да, звал. Ахметов, ты это… Пойди ко мне в кабинет, там Дворников сидит с делом Елина… Такая упёртая тварь этот Елин. Я его до крови мешком с песком отмутузил – ни в какую, говнюк, признанку не подписывает! Ты это… подмахни за него.
– В смысле?
– Безо всякого смысла, Ахметов! Подпиши фамилией Елин[20]. И это… Чукавину сюда из санчасти, скажи, я вызываю.
Комендант скрылся за дверью. Кочев с усмешкой посмотрел на Фёдора:
– Чё ты так взбледнул? Аль крови боишься? Херня! Щас врачиха придёт, выпишет заключение, что заключённый Михайлов жив-здоров и упал по собственной глупости и неуклюжести. В лазарете недельку отлежится – будет как новенький. Да и посговорчивее, конечно же, будет.
– Вы что тут, совсем сдурели? Вторые сутки у вас и одно только вижу: лупцуете без продыху! – вырвалось у Фёдора.
– Это ты правильно подметил – без продыху, – безразлично кивнул Кочев, толкая носком сапога лежащего Михайлова. – То ли дышит, то ли нет, не пойму… Без продыху… А вот такая у нас тяжёлая работёнка по выкорчёвыванию вражин. И белыми ручками она не делается… Впрочем, балакали мы с тобой уже на эту тему, чево одно по одному пережёвывать. Иди-ка ты лучшее пообедай. Иль сызнова аппетиту нету? Так и в ящик можешь сыграть. От истощения. Или переживаний, а? – Кочев недобрым взглядом просверлил Фёдора. – Какой-то ты неправильный, Макаренко… Ладно, пойди покушай. Девки в столовой нынче биточками потчуют – язык проглотишь! И это, замечу, очень кстати будет… – В голосе Кочева Фёдор услышал уже не издёвку – угрозу.
На крыльце штаба Фёдор нос к носу столкнулся со Шкрябковым.
– Наше вам, гражданин начальник! Как мои гаврики – помогли по Михайлову?
– Под копирку поют твои гаврики! – зло отрезал Фёдор. – Плохо инструктируешь, гражданин инспектор! Бедновата у тебя и твоих гавриков фантазия…
Шкрябков внезапно вплотную придвинулся к Фёдору и прошипел:
– Что, задумал перепроверять? Смотри, а то тебе покажут перепроверку… – И тут же юркнул в распахнутые двери штаба.
После обеда, вкус которого Фёдор и не понял, полностью погрузившись в самые мрачные мысли, возвращаться в штаб не хотелось. Побрёл вдоль по улочке, криво заворачивающей куда-то вниз, и вскоре оказался на берегу речушки, даже правильнее сказать, ручья. Беззвучно, но довольно быстро струилась прозрачная вода, колыхающая молодые прибрежные травинки; у песчаного дна, усеянного мелкими камешками, шустро сновали мелкие гольяшки. На отмели купались в песке два воробья, а дальше прохаживалась не то ворона, не то галка, что-то успешно добывая из песка – жучков-паучков или червячков, шут её знает… И эта картина незаметно успокоила Фёдора, упорядочила суматоху в голове, уняла дрожь в пальцах. Ясно и спокойно подумалось: никакого задания Матюхина он не выполнит, потому что без Кожева, Кочева, Шкрябкова и остальной местной камарильи… Фёдор усмехнулся всплывшему откуда-то из глубины сознания словечку, смысл которого до конца не понимал, но догадывался, что это что-то сродни банде или шайке. Так вот, без этой банды-камарильи командировочное задание выполнить невозможно, а с ними – невозможно тем более.
…Солнце покраснело и на треть погрузилось за горизонт, когда Фёдор очнулся от своих невесёлых раздумий. Да и не столь их много было, раздумий, больше тупо смотрел на струящуюся воду и перебирал в памяти картинки всякого разного – из детства, из каких-то дружеских застолий, смешного гусарства перед девушками на танцплощадке в парке, первого знакомства с бритвенным станком, собирающим пушок со щёк…
Нехотя поднялся и поплёлся в надвигающихся сумерках в штаб, чувствуя какую-то неимоверную усталость и пустоту в груди. В штабе было гулко и пустынно, разве что из комнаты дежурного высунулась чья-то голова и тут же исчезла. Фёдор прошёл в заежку, машинально разделся и лег. Полумрак медленно надвигался из углов. Теперь совершенно ни о чём не думалось. И Фёдор незаметно уснул.
Поутру обуяла яростная решимость. Есть не хотелось, но заставил себя бодрым шагом пройти до столовой. Съел яишню с жареной колбасой, выпил две кружки крепко заваренного чаю с молоком. И так же бодро вернулся в штаб. Сразу прошёл в кабинет, где Шкрябков и его подручные царапали новые «показания». При появлении Макаренко оборвали разговоры, уткнулись в бумаги, как будто и не заметили вошедшего.
– А ну-ка, встать! – громко приказал Фёдор. – Забыли, кто такие?! Шелупонь уголовная!
Подошёл к злобно зыркающему исподлобья Шкрябкову, схватил пук лежащих перед ним листков.
– Так-с… Чего мы тут сочиняем? Ага, заключённый Кеслер… Латыш. Злостный отказчик от работы, антисоветчик и польский шпион. Молодец Шкрябков! А теперь посмотрим дело. – Фёдор взял раскрытую папку, лежавшую тут же. – Ой-ёй-ёй! Какая незадача. Кеслер, оказывается, никакой не латыш, а хохол, бывший красноармеец. А это что тут за бумага? Ну надо же! Премирован как ударник за постоянное выполнение ежедневной нормы выработки на сто двадцать процентов! Нет, не молодец ты, Шкрябков, а слепошарая скотина, которая букв не различает и нагло искажает перед органами сведения о заключённых. Вредительством занимаешься, Шкрябков? – Фёдор помахал перед носом застывшего столбом «инспектора» зажатыми в кулаке листками, окинул свирепым взглядом всю братию и вышел, оставив за спиной гробовую тишину. Без стука распахнул дверь кочевского кабинета. Но он был пуст. «Что и хорошо, – подумал с облегчением – видеть рожу опера-садиста не было никакого желания. – И очень даже хорошо!» Огляделся: в кабинете тщательно убрали, от вчерашних кровавых пятен на полу не осталось и следа. Только на столе у Кочева ничего не изменилось – так же завален бумагами и папками дел заключённых. «Что и хорошо», – повторил про себя Фёдор и принялся перебирать бумаги. Некоторые из них, удовлетворённо хмыкая, откладывал в стопку, к тем, что забрал у Шкрябкова.
– Трудишься? – в дверях возник Завьялов. – Здоровеньки булы!
– И тебе не хворать. – Фёдор инстинктивно придавил локтем отобранную стопку. – А где народ?
– В лазарет перекочевали, чтобы в кабинетах не грязнить, – ухмыльнулся Завьялов. – Да и зэк какой-то хлипкий пошёл. Слово за слово – и уже примочки требуются. А ты что за бумажки перебираешь? Шкрябкова перепугал. Чего там у него забрал?
– Ишь, как он шустро! – покачал головой Фёдор.
– А как же… Проявил озабоченность. А ты что, врагов народа защищаешь, контрреволюцию спасаешь?
– Не так громко, не на тройке.
– Надо будет – и на тройке окажешься, – навис над столом Завьялов. – Попридержи, хлопче, усердие, может и боком выйти…
– Угрожаешь?
– Что ты! – в притворном испуге прижал ладони к груди Завьялов. – Да как можно! Суровому проверяющему из областной столицы! Трепещу!
Он захохотал, направился к двери, на пороге обернулся и направил на Фёдора сложенную пистолетом пятерню. – Кх-х!
Ещё немного порывшись в кочевских бумагах, Фёдор забрал отобранную стопку, прошёл в заежку и сложил документы в свой портфель. Запер дверь, положил ключ в карман и отправился на обед, а после решил навестить наконец начальника лагпункта Керчетова. Хотелось понять, а как он оценивает кулачное усердие оперов. Увы, Керчетова не оказалось ни в штабе, ни на квартире. Зато за бараком, где он проживал, слышался весёлый гомон, и Фёдор, любопытствуя, устремился туда. Увидел немудрёный стадиончик, где в самом разгаре шла футбольная баталия. И, увлёкшись, Фёдор завис среди прочих болельщиков на добротно сколоченном ярусе деревянных скамеек. После снова зашёл домой к начальнику лагпункта, но опять безрезультатно.
Подумав, Фёдор направился в санчасть. Весь день отгонял от себя эту мысль, но не удержался: не давало покоя состояние Михайлова, да и Елина тоже. Свербило какое-то чувство виноватости, ведь всё на его, Фёдора, глазах происходило. В санчасти встретили настороженно. Впрочем, Фёдору было на это наплевать. Удостоверившись, что оба более-менее в порядке, обошёл другие палаты-камеры, сопровождаемый угрюмо молчащей медсестрой. Расспрашивать ни о чём не стал – картина и так была красноречивой: собственно больных практически не было, зато избитых и покалеченных хватало.
На ужин Фёдор не пошёл. Что-то давило и тревожило, но вот что? С этими чувствами вернулся в заежку, сунул было ключ в замочную скважину, но дверь оказалась не заперта. С порога Фёдор кинулся к своему портфелю – собранных бумаг в нём не было! И тут же перед глазами встал ухмыляющийся Завьялов с пятернёй-пистолетиком: «Кх-х!..»
До полуночи Фёдор просидел на кровати, чутко прислушиваясь ко всем звукам, а потом осторожно растворил окно, вылез наружу и ушёл в ночь…
Он пройдёт сорок километров, выйдет к ближайшей от Букачачи железнодорожной станции и уедет в Читу. Обо всём доложит своему начальнику Матюхину. Тот прикажет молчать. Но через несколько дней в Чите появятся Кочев и Завьялов и станут открыто угрожать Макаренко. Тогда он добьётся приёма у начальника УНКВД.
Откровения Фёдора для Хорхорина новостью не стали. Ещё в марте подсиживающий Матюхина Балашов преподнёс начальнику управления справочку: «Конфиденциально доношу, что в ОМЗ поступают сведения о грубейших нарушениях норм УПК при проведении следствия в Букачачинской КМР. Расследованием установлено: при допросах обвиняемых применялись избиения арестованных, допускались подделки подписей арестованных, полная фальсификация протоколов допроса обвиняемых и свидетелей…» Другими словами, ситуация Хорхорину была известна, зарвавшихся сотрудников даже предупредили, но, судя по рассказу Макаренко, «букачачинские ребята» предупреждениям из Читы не вняли.
– Самое тщательное расследование! Вывернуть шкуры наизнанку! – приказал Хорхорин особоуполномоченному Перскому. – Если из-за этих идиотов зона встанет на дыбы – нам такого Москва не простит! Не могут срать, не хрен мучить жопу! Меры физического воздействия никто не отменял, но партия предостерегает, чтобы только в крайнем случае, а здесь что? Бесстыдно и открыто попираются элементарные нормы соцзаконности! В общем, так: потянут на трибунал – значит, в трибунал! А то, ты смотри, прыщи лагерные, а как распоясались! Вот на примере этих дураков и других поучим, чтоб не расслаблялись и не вываливали напоказ свою ретивость…
– Макаренко в бригаду включать?
– Перский… – поморщился начальник управления. – На хрена он тебе сдался? Сними с него допрос, да и пошёл он… От таких правдоискателей тоже надо избавляться. Подберите ему формулировочку на увольнение. Что-то типа: не выполнил служебное задание, самовольно покинул место командировки… Ну да что мне тебя учить.
Перский «снял допрос» с Фёдора Макаренко. Так «снял», что после допроса Фёдор решил: посадят! «Ну ты и открыл дело! – орал на него особоуполномоченный. – И что, думаешь, сам чистенький? Да ты дезертир самый настоящий! Чекистскую форму носишь, а чего же смалодушничал? Чего сбежал? А может, всё по-другому было? Мне вот Матюхин доложил, что жаловались ему по телефону из Букачачи на тебя: пьянствует, болтается неизвестно где, вместо службы на стадионе околачивается, внештатников запугивает… Всё проверю, Макаренко! Если подтвердится – под трибунал пойдёшь!..»
В самых расстроенных чувствах вернулся в тот день Фёдор домой. Попросил у сестры нитки, иголку, ножницы. Заперся в своей комнатёнке, распорол брюки и зашил в гачу небольшой узкий ножик: «Если посадят – покончу жизнь самоубийством». А наутро, как в лихоманке, затрясся. Сестра вызвала неотложку, и Фёдора увезли в больницу.
Через несколько дней он выйдет на службу и будет огорошен известием, что уволен из органов внутренних дел по болезни.
После месячных мытарств в поисках работы сможет устроиться директором по АХЧ, а проще говоря, завхозом в читинскую городскую больницу.
Глава шестая. Перский, июль 1938 года
…ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, что физическое воздействие допускается, как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, – следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. Опыт показывает, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа… Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата, притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников? ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП требует от секретарей обкомов, райкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались настоящим объяснением.
Из шифрограммы секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам УНКВД (№ 26/ш от 10.01.1939 г.)
– Вот что, Кусмарцев, обвинение тебе предъявлено, так что давай не юли, а подумай хорошенько и чистосердечно выкладывай, кто, где, когда и при каких обстоятельствах завербовал тебя в контрреволюционную организацию, кого ты знаешь участников этой организации.
– Да вы что тут, совсем?! Перский! Ты же меня знаешь…
– Зачитываю снова: «Гражданин Кусмарцев Григорий Павлович, пробравшись в органы НКВД, систематически занимался контрреволюционной антисоветской деятельностью, в связи с чем подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности по статьям пятьдесят восемь-один, пункт “а”, и сто девяносто три-семнадцать, пункт “б”, УК РСФСР». Что непонятного?
Да уж какие тут непонятки. Когда через две ночи на третью Григория опять подняли из одиночки в кабинет Перского, он уже не испытывал даже намёка на ожидание чуда: а вот сейчас в кабинете с высоким потолком, украшенном купеческой лепниной с претензией на итальянское барокко или какое-то там французское рококо, восторжествует справедливость. Объявят, что он, Григорий Кусмарцев, делу партии и соввласти – самый преданный боец. И слова соответствующие скажут, и возьмут на короткий чембур местную управленческую сволоту… Возьмут… А кто возьмёт? Да пока с луны ли, с Москвы ли такая фигура свалится… Не было бы поздно… Таких примеров!.. В душе – прямо физически ощущал это – росло тупое безразличие.
Две бессонные ночи, дневные раздумья, перемежаемые короткими провалами в забытьё, неумолимо убеждали: в историю он влип пресквернейшую. Ему ли не известно, что такое выписанный ордер, – начинает раскручиваться жёрнов, который уже не остановить. И даже сам товарищ Сталин теперь этого мгновенно сделать не может – долго надо тормозить махину: успеет перемолоть или крепко искалечить. Да и будут ли её тормозить из-за какого-то лейтенанта Кусмарцева, когда вокруг всё кишмя кишит от самой настоящей контры.
Иногда в эти два дня нарастающее безразличие прорывалось бешеной злобой. Григорий выплёскивал на серые стены поток бессвязной брани. Материл себя – за то, что оказался по собственной пьяной болтовне и браваде здесь; клял сосунков-политруков – за то, что оказались скоры на ногу и быстры на язык… Но больше всего бесило иное: отныне его судьба, его жизнь – в руках… бывших собутыльников. Да только происходящее – не пьяный кураж или драка самцов. Такое бывало… Но ныне… Ныне же между ним и тем же Поповым легла чёрная пропасть. Не перескочить, не обойти. Слюнявый Попов, в лошадиную глотку которого водка, казалось, не лилась, а прыгала… Попов, эта гнида, которой в базарный день цена – полушка за дюжину… Попов, который… Значится, этот гадёныш есть доблестный боец партии и органов, а он, Кусмарцев, с пацанов бивший белую и прочую контру, – контра и фашист?! Он, который в мае восемнадцатого прибавил себе два года, чтобы приняли в отряд Красной гвардии…
Выматерившись, Григорий успокаивался. Нет, не может быть, чтобы он, чекист с двадцатилетним стажем, не дождался праведного часа. И ответят эти гады за всё!.. И тут же Григория вновь топила волна отупляющего безразличия. Какой праведный час? Всё ближе неумолимые жернова, скрежещут жадно, уже касаясь кожи и обдавая его, Григория, смрадом крови, гнили и могильного тлена…
– …Пять дней тебе на дачу объяснений, – продолжал Перский. – Надеюсь, понимаешь, что запираться бессмысленно.
– Ловко склепали… Контру, стало быть, выявили? – Григорий с ненавистью глянул на Перского. – Это вас тут всех надо привлекать по статье! Дай бумагу, прокурору буду писать! Имею право! Твой Попов мне десятого – ордер в нос, а ордерок-то девятым числом выписан. На-ка-ну-не! Таким образом, я провёл в камере без санкции прокурора и наркома восемнадцать дней! Восемнадцать дней, Перский! И держали вы меня вместе с каким-то антисоветским сбродом! В чекистской форме держали!..
– Да, неважно выглядишь, Григорий Палыч, – засмеялся Перский. – Пообтрепался, зарос… Так и вши заведутся!
– Ага, помялся малость! – зло вырвалось у Григория. – Говорил же, чтобы штатский костюм выдали…
– Выдадут тебе… – кивнул Перский со зловещинкой в голосе. – И костюм, и бушлат, как бы вот только не деревянный.
– Не пугай. А что положено – выдайте! – с вызовом продолжал Григорий. – Контре вон и то рыльно-мыльные принадлежности положены, а мне? Ни мыла, ни полотенца! Про зубной порошок и бритву уж молчу!
Вид и впрямь жутковатый. Густая, торчащая во все стороны, почти месячная щетина, больше уже напоминающая бороду, скрыла ввалившиеся щеки, но ещё больше оттеняла такие же, ввалившиеся, воспалённые от «двухсотки», слепящей камеру круглые сутки, глаза. Гимнастёрка и бриджи – как корова жевала, только основательной стиркой и глажкой можно в божеский вид привести. Про исподнее и вовсе нет разговору – подолом нижней рубахи четыре недели утирался.
Григорий попробовал принять вид независимый, гордый, мол, знай наших, – пожалеть крупно придётся. Уставился исподлобья на кресты оконной рамы, всей кожей ощущая цепкий, ощупывающий взгляд Перского.
Перский молчал. Разглядывал арестанта и молчал. Как это ещё, удивительно, вначале откликнулся. Но Кусмарцев видел, как играют желваки, как пляшут злые огоньки в глазах особоуполномоченного. И гонор, нелепый и бесполезный в этом кабинете, у Григория тоже пошёл на убыль, расхотелось качать права, выплёскивать загодя ночами не раз мысленно проговорённую тираду.
Глаза выцепили этикетку лежавшей на столе, у левой руки хозяина кабинета, папиросной коробки. Мучительно хотелось курить, но Григорий отвлёк себя: «Ишь, в большие начальники метит, на товарища Сталина походить хочет… “Герцеговину Флор” потягивает, засранец…»
Перский уловил взгляд арестованного, откинулся на спинку кресла, громыхнул, чуть склонившись набок, нижним правым ящиком стола и бросил Григорию через стол полпачки «звёздочек», а следом – спичечный коробок:
– Кури, Кусмарцев.
«Дистанцию, сволота, уже определил!» – Не скрываясь, Григорий криво усмехнулся, но закурил с жадностью. И сразу почувствовал, как закружилась голова.
– В общем, Кусмарцев, повторю, пять деньков тебе на всё про всё. Чистосердечное признание, естественно, зачтётся…
– В чём мне признаваться, в чём?! – не выдержал Григорий, остервенело ткнув брызнувший искрами окурок в пепельницу. – Что ты, как попугай, заладил: признавайся, признавайся! Ну, болтнул выпимши в вагоне чепуху ерундовую, а вы меня уже в завербованные! Кем? Халдеем вагон-ресторана?..
– А ну-ка, закрой пасть свою вонючую… – Багровея, Перский медленно поднимался из-за стола. – Тварь фашистская… Проститутка троцкистская!
– Это ты всё, сука, о себе! – Григорий тоже встал со стула, припечатав в адрес Перского пару выражений покрепче.
И тут же в глазах вспыхнуло – стоявшие у дверей конвоиры подскочили: один ударил под колени, другой – по голове. Кусмарцев рухнул на пол. В бок впечатался удар сапогом, а дальше они посыпались градом – под рёбра, в голову! Молча, лишь сопя от усердия, конвоиры месили поджавшего колени к подбородку Григория, безуспешно пытающегося прикрыть голову руками.
Но за руки цепко схватили. Больно выворачивая их на излом, мордовороты вздёрнули арестованного на ноги.
– Всё ты расскажешь, всё подпишешь, – приблизив багровую харю, прошипел Перский. – И ещё своих сообщников назовёшь охренительную кучу. Или надеешься героем-одиночкой проканать? Так не бывает, не бывает…
Перский ещё что-то шипел, но понял, что Кусмарцев вряд ли его слышит. Скривил усмешку и плюнул Григорию в лицо. Зло хохотнув, вернулся за стол, сгоняя большими пальцами обеих рук складки гимнастёрки под ремнём назад. Вальяжно откинулся в кресле.
– Что ты – контра, сомнений у нас нет. Вовремя тебя разоблачили, падлу. – Согнутым пальцем демонстративно и торжествующе постучал по желтоватой обложке «Дела». – Многое про тебя вылезло. Даже бывший начсектора Южный на тебя показания дал. Короче, хватит, чтобы хлопнуть. А жить-то небось хочется, а, Кусмарцев? Тогда колись до жопы! Выкладывай всё самолично! Кто тебя, говнюка, завербовал? Кого из членов каэрорганизации имеешь на связи? Кого, сволочь, сам вербовал? Какие задачи как шпион выполнял… Запираться не советую – самолично выстеклю все зубы!
Григорий сплюнул кровавый сгусток – прилетело-таки по зубам! – на вощёный до блеска пол.
– Совсем охренели… Слушай, Перский, ты же не идиот! Ни в каких контрреволюционных организациях я не состоял! Ополоумели, что ли?! Какая каэрдеятельность? Водку я пил с тобою, а не партию предавал! У меня ни сомнений, ни колебаний в линии партии…
– Не трожь партию, гнида!
– Гнида?! Ах ты, крыса кабинетная! Да я всю жизнь!.. Я на фронтах!..
– Заткнись! «На фронтах»! – передразнил, щурясь Перский. Цинично осклабился: – Был там, сбоку…
Он приподнял своё упитанное тело над столом, опираясь на прямые руки.
– Маскировался, искусно маскировался ты, сука вражеская, всё время. Контрреволюционер с семнадцатого года, фашист и шпион – вот ты кто! И лучше подумай, как от свинцовой примочки тыкву свою гнилую вместе с грязной задницей спасти. Чистосердечненько!
– А хрен тебе этого дождаться! Чтобы я на себя тебе в угоду наговаривал! Я был и остаюсь честным человеком, не пример тебе, жополизу!
– Не надо! Отставить! – рыкнул Перский на замахнувшегося конвоира.
Подскочил к Григорию.
– Посмотрим на этого стойкого борца. В угол его, сюда! Стоять, сука! По стойке смирно стоять!
Перский вернулся к столу, надавил кнопку под столешницей.
Через минуту в кабинете появился хорошо знакомый Григорию оперуполномоченный Лысов.
– Значица, так, Лысов. Держи «на стойке», задавай вопросы, вот список.
Лысов тут же уселся за приставной стол, задымил папиросой. Перский выставил конвоиров за дверь.
– Молчать будет – кулаком, Лысов, не маши. Стоит смирненько у стенки, вот и пусть стоит. А мне пора в путь-дорогу…
Дорога известная – в Букачачу, чёрт её подери!
В Чернышевске, скептически глянув на потрёпанную эмку райотделения, решил не растрясать внутренности на ухабах, загрузился с троицей своей бригады в «передачу».
На букачачинском перроне, не отвечая на молодцеватые приветствия встречающих, оглядел вытянувшихся во фрунт местных оперов. Морды знакомые – Кожев, Кочев, Завьялов. Ишь, глазки-то бегают… Чует кошка, чьё мясо съела! Поди, телефонные провода раскалили, выведывая, с чем бригада из управления пожаловала. А хрен вам в сумку! Даже этот стукачок Балашов из тюремного отдела не в курсях. И его, и своих оперов Перский пока в суть задания не посвятил – обычное-де, ознакомление с обстановкой на месте. Осмотримся, понюхаем, чем тут пахнет, а потом и дадим хлопчикам конкретную установку…
Но местные оперские морды вытянулись, когда отмёл щирое обеденное хлебосольство, рыкнув на начальника оперчасти, привычно потянувшего из облупленного несгораемого шкафа «казёнку»:
– Это ты тут что в рабочее время устраиваешь? Пьянствуете на службе?! Марш по рабочим местам!
Допив чай, распорядился:
– Балашов, займись оперскими подручными из числа зэков. Выверни, чего они там накропали и по каким делам. Чернобай, на тебе опрос Завьялова и Дворникова. И этого вохровца, любителя револьверной пальбы. Чуксин, ты займись Кожевым – прошуруди всю документацию отделения, а потом допроси Кочева и его бумаги перелопать. Всё подозрительное – изъять, а с этой публики глаз не спускать. Я чуть позже, Чуксин, к тебе присоединюсь, а пока с начальником лагпункта побеседую.
Вызванного Керчетова, жалкого, перепуганного, выдержал у порога, обшаривая брезгливым, презрительным взглядом.
– Ну, садись… Или как тут у вас – присаживайся? Рассказывай, Керчетов, как до жизни такой докатился, как тут у тебя опера в костоломов превратились. Ты здесь начальник или вошь на гребешке?
Уже по такому зачину начальник лагпункта моментально сообразил, что от него надобно шишке из Читы. Поднял на Перского скорбный взгляд:
– Неоднократно пытался самоуправное безобразие пресечь. Однажды возвращался с работы, – а живу я в бараке рядом со штабом, – часа три ночи было… Окна в оперчасти не занавешены, увидел, как там арестованных в кабинете Завьялова бьют. Решил вмешаться… А Завьялов меня по матушке послал. В другой раз тоже пытался это дело остановить, а мне Кочев говорит, мол, не лезь, посевная началась…
– Посевная?
– Ну это он в смысле, что массовые аресты, дел на тройку надо представить много… И ещё мне пригрозил: «Если надо, и тебя подведём под такое дело, завертишься, как белка в колесе».
– Вольготно они с тобой…
– Так на меня, товарищ Перский, в то время в оперчасти было заведено дело… за выпивку. Они его даже в трибунал передали, но там дело прекратили…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































