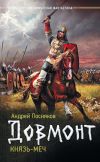Текст книги "Ладога"
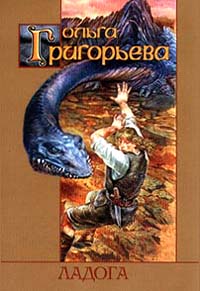
Автор книги: Ольга Григорьева
Жанр: Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
СЛАВЕН
Голос у нашей Сновидицы – что охотничий рог, коим по весне оленьих маток призывают. Уж если заголосит она – все печище на ноги поднимется и сбежится слушать, о чем орет старуха. На что отец мой удал да смел был, а услышал средь ночи ее вопли – вскочил, заозирался испуганно. Редко Сновидица о добром вещала, чаще беды да неудачи предрекала. А в эту ночь и вовсе спятила.
– Вставайте, люди добрые! – кликала. – Вставайте и внимайте Княжьей воле! Вставайте для радости!
Вставайте для печали! Сам Князь избранных укажет! Угольным крестом отметит!
Полуголые да перепуганные люди повыскакивали из домов, ринулись на свет костра. Лица у всех помятые, исполошные – средь ночи подняла старуха да и не случалось еще такого, чтобы сам Князь Ладожский к болотному люду обращался! Вести из далекой Ладоги бывали, конечно, и указы Княжьи ведунья частенько выкликала, а жили все же своим умом да по своей совести. Ладога далека, не пойдешь к тамошним боярам суд вершить, вот и шагали, чуть что, к моему отцу, кланялись ему в ноги:
– Рассуди, Старейшина. Реши дело миром.
Отец и судил, как умел – твердо да сурово. В наших краях иного суда не признают – не выживешь в Приболотье без строгого закона. Отец в печище нашем – и правда, и доля, и единственная надежа в беде. Даже Сновидица его почитала, говорила мне, когда еще мальчишкой был:
– Светла голова у твоего батюшки, правдиво сердце, учись, пока не повели боги в дальний путь да имя не сменили.
Я ее понять не мог. Боги… Путь… Имя… Глупость какая-то… Нравилось мне имя Славен, коим нарек меня ученый муж, Хитрец, и менять его я не собирался. Для чужих, правда, иногда иное имя сказывал, чтоб не навредили ненароком. Истинное имя – словно брешь в щите – всякого уязвимым делает. Вот только незнакомцы в Приболотье редко появлялись, да и те из дальних болотных печищ.
Я Сновидицу слушал, а сам мечтал удрать поскорее от грязной полуслепой старухи в густой лесок, что примостился по краю печища, заманивал разными диковинками. А она удерживала:
– Учись – сгодится наука в долгой жизни… Надоедала аж до колоты в боках! Может, потому и не любил я ее… И голос ее громкий не любил…
А нынче несся он по печищу, сзывал народ, тревожил отца. Испокон веков повелось поперед всего люда отцу моему вести доставлять. Он покой да мир в Приболотье берег, он и решал, надо ли остальным Сновидицын бред слушать. Потому и встревожился не на шутку, заслышав ее вопли.
– Почему она не пришла ко мне? Почему не пришла? – повторял, торопливо натягивая красную срачицу, что в сундуке на праздничный день хранилась. Он спешил, а я и того более – хотелось раньше всех новость узнать, отца опередить.
Полуодетым вылетел на крыльцо, уставился, пытаясь различить в бликах пламени знакомые лица. Только все одно – не разобрал. Огонь слепил, да и люди не стояли на месте – переминались, переговаривались тревожно…
Отец не задержался, вышел следом – чинный, степенный, как обычно, и не поверишь, что только миг назад кидался из угла в угол, путался в длинной рубахе. Я залюбовался, на него глядя, и людской гомон стих; лишь Сновидица тряпичным комом крутилась возле костра, бормотала что-то бестолковое.
– Говори, – приказал ей отец.
Умел он приказывать – остановилась ведунья, выглянула из-под скрывающих безобразное лицо тряпок, засмеялась пискляво:
– Не спеши, Старейший! Не по нраву тебе придутся мои слова. За то не меня – Князя вини…
Отец кивнул, даже улыбнулся слегка, но пальцы побелели, мертвой хваткой сжали деревянные перила.
– Твоя воля! – Сновидица вскликнула, заметались отголоски в дальней темноте, зашевелились, пойманные тайными духами. – Слушайте, люди! Могуча дружина Князя Меслава! Славные в ней хоробры! Немногие удостоены чести Князю да родной земле служить, а сей ночью честь эта на наш род ляжет! Достойнейших избрал Князь! Ждет Ладога избранных! Зовут их дороги, богами указанные! Слава мудрому Князю, отметившему сынов бедного нашего рода…
Она все восхваляла Меслава, а у меня от предчувствия сердце зашлось: неужто судьба добрая выпала – в Княжьей дружине воем быть? Пусть хоть молодшим, – время пройдет, вырасту, стану именитым хоробром, о коем баенники песни будут складывать и по городищам носить. Силен я, здоров, да и годами не малолетка сопливый – неужели всю жизнь мне в болоте сидеть? Нет, не для того я на свет рожден, чтоб тихо да мирно состариться, а потом помереть в безвестности, оставив за собой детишек выводок!
Уставился я на костлявый Сновидицын палец во все глаза, ждал, вот-вот устремится он ко мне, нарисует на лбу угольком черный крест; да только проходила старуха мимо и меня словно не замечала. Тут-то и вспомянул свое неуважение к Сновидице. Пришло запоздалое раскаяние. А с ним вместе и страх – не выберет меня ведунья! Наперекор Князю пойдет, а не выберет! Припомнит, как удирал от ее нудных наставлений, как при встрече замечать не желал…
Сновидица шла по кругу, шарила бельмами по застывшим лицам, а потом словно озарилась изнутри, выбросила вперед руку, начертала легким движением два креста. Один – на великане Медведе, а другой – на Лисе, возле него притулившемся. Братья долго думать не стали – переглянулись меж собой, кивнули друг дружке и шагнули в круг. Значит, одобрили Княжий выбор, согласились… Они еще и шагу не сделали, а уж заохало, застонало все печище. Не часто вспоминал о нас Меслав, а выбор сделал – лучше некуда! Таких ловких охотников и следопытов, почитай, во всем Приболотье не сыщешь. Тяжело без них будет зимовать. Во всем хороши были братья. Огромный Медведь всей детворе – услада. Руки у него золотые и сердце доброе, незлобивое. А Лис хоть и язва приличная, да любое веселье без него как-то не ладилось. Прошлой осенью уходили братья в Трясину, за змеей Скоропеей, так опустело без них печище, осиротело. Зато какой праздник был, когда вернулись!
Грудной женский голос прорвался сквозь вой толпы, ножом полоснул по сердцу:
– Не пущу! Миленький, не слушай ты ее, ведьму старую. Врет она, сердцем чую. Не ходи ты в Ладогу!
Росянка из толпы вырвалась, белой птицей упала Медведю на грудь, забилась в слезах:
– Не ходи! Я за тебя замуж пойду, как ты хотел, дом справим, детей заведем. Все для тебя сделаю, только не ходи к Меславу!
Пышные рыжие волосы, выбились из-под платка, опутали Медведя, белые пальцы сомкнулись на шее. Вот тебе и неприступная красавица – каменное сердце! На все Приболотье славилась девка спесивым нравом. А еще красотой дивной. Может, потому и не переводились у нее воздыхатели… Ради Росянкиной прихоти многие от жизни отказывались, не то что от Княжьего приглашения. Неужто Медведь от этакой девки отступится?
Толпа стихла, ожидая.
Охотник опустил руки, понурился. Лис вылез вперед, заслонил собой брата:
– Не позорься, девка! Эк повисла – не отодрать. Мужик за великой честью идет, не всякого Князь к себе призывает…
– Да что ты о чести знаешь, чума болотная?! – Росянка разомкнула объятия, угрожающе выставив скрюченные пальцы, прыгнула к Лису. Медведь ловко обхватил ее тонкую талию, пробурчал веско:
– Дело решенное. Быть мне воем.
Девка сразу и сникла, осела, тихо всхлипывая, у его ног – так и осталась там маленьким, жалким комочком. У Медведя щеки дергались, а не двигался, не поднимал ее – стоял, точно истукан каменный…
Я на них загляделся, про все забыл, потому и не услышал тяжелого отцовского всхлипа.
– Ты! – Коснулся моей щеки сухой палец, нарисовал долгожданный крест. Сновидица уж на что глуха, а вздох отца расслышала, ухмыльнулась. – Воля богов, Старейшина, воля Князя.
Отец печально заглянул мне в глаза. Не замечал я раньше в них такой усталой тяжести.
– Что скажешь, сын?
Что я мог сказать? Клокотала во мне безудержная радость, рвалась наружу, будто на крыльях ветра – Стрибожьего внука. Как сдержать ее?
Не заставили меня задуматься печальные отцовские глаза, не остановили взоры родичей.
– Я ухожу!
Сновидица расхохоталась, точно ворона закаркала. Отец помутнел лицом, хрипло выдавил:
– Будь по-твоему, – и, обрывая смех Сновидицы, велел: – Дальше!
Вскружила мне голову удача – и думать ни о чем не мог, кроме как о битвах да славных подвигах. Не сразу понял, с чего завыли вдруг все девки хором, заголосили, будто по покойнику. А присмотревшись, узрел угольную отметину на щеке Бегуна. Избранный…
Мимо него ни одна девка не проходила, да и те заглядывались, что давно уж девичий венец на высокую кику сменили. Чего особенного находили они в его голубых, точно рассветное небо, глазах, в широкой его доверчивой улыбке? Почему не могли удержаться, чтоб не провести ласково по светлым льняным волосам? Может, манил данный ему богами чудный голос да идущий изнутри добрый свет?
Родителей Бегуна и всю его семью пять лет тому покосил болотный мор. Сироту, певуна голосистого, даже нежить болотная жалела, вот и повадился он по соседним печищам вести разносить. Судьба его не баловала, зато люди привечали. Его сноровкой да умением многие жизни спасены были, многие печища у Хозяйки Болотной отвоеваны. В Малой Ладожке его до сей поры, будто боярина, привечали, а ведь уже три года как отстояли село… Бегун тогда всю ночь по болоту бежал, спешил упредить о топляках, что на Ладожку напали. Успел… Наши, его вести выслушав, вооружились кто чем мог да помчались на выручку. Топляков загнали обратно в болото, а печище от нежити очистили. В то время Бегуна мало кто знал, а теперь, пожалуй, нет в Приболотье человека, с коим ему не довелось бы встретиться. Все ему чем-то обязаны, везде ему рады. Язык у певуна подвешен славно, умеет знакомцев заводить и говорит, будто бы с писаного читает, даром что неграмотный. Умен да хорош, – чего еще девкам надо! Вот и воют-убиваются…
Сновидица легко подтолкнула его к костру. Он улыбнулся, проскользнул невесомой тенью, пристроился рядом с братьями. Стояли они, словно влитые, плечом к плечу, лишь я – на отшибе, под отцовской защитой. Стыдно стало, шагнул вперед, в светлый круг, и показалось, будто на ровной пустоши голышом очутился – негде скрыться от испытующих глаз, некуда спрятаться… Отец почуял мой страх, придержал за руку:
– Слушайте, родичи! К Ладоге путь далек да неведом. Ставлю я сына моего, Славена, избранниками Княжьими верховодить да прошу на то согласия вашего.
Толпа загудела, зашепталась на разные голоса. Выступил вперед Хитрец, склонился, затряс короткой бороденкой:
– Будь по-твоему, Старейшина.
И покосился на меня как-то странно, будто не обрадовало его мое избрание. Даже обидно стало – сам ведь сказывал о мужах доблестных да о битвах великих. Сам твердил, что воев, лучше словен, на всем свете не сыщешь. Учил: «Сопутствует счастье лишь сильным да смелым, а с иными не по пути ему…» Как в наших болотах сильным да смелым станешь? В лучшем разе – охотником удачливым. А охотник вою не чета…
– Тебе, сын, ватагу в Ладогу вести, тебе за жизни их ответ перед Ладожским Князем держать. – Отец смотрел строго, а губы кривились, словно заплакать хотел да не мог – разучился за долгие годы, без слез проведенные. – А челяди сей кланяться тебе, как мне кланялись.
Значит, быть мне для избранных Старейшиной… Зашлось сердце – и лестно и боязно. С одним только Бегуном как совладать? Разве укажешь ему: это – делай, то – не делай. Ветру разве укажешь?
Едва о том подумал – Бегун поклонился в пояс, заверил меня:
– Был ты для меня кровным родичем, станешь – старшим братом.
Отлегло от души. После такой клятвы я от певуна всего могу требовать – не ослушается. А охотники и без клятв слово Старейшины почитают. Медведь уже и рот открыл – повторить Бегуном сказанное, да я его остановил:
– Не надо.
Он не упрямился, отступил:
– Как пожелаешь…
Люди разомкнулись, давая ему место, лишь один не отошел. Темный, зловещий. Потянуло по поляне холодом, повеяло неведомым… Сновидица завыла волчицей, рухнула темной тени в ноги, еле коснулась ее груди крестообразной отметиной:
– Сыночек, сыночек…
Толпа еще дальше попятилась, загудела взволнованно:
– Нельзя Чужака брать… Не доведет он до добра… Меня злость обуяла. Неужто и Чужака выбрал Князь? На что ему чахлый Сновидицын заморыш? Как можно его с нами, лучшими да сильнейшими, равнять?!
Старуха вскинулась, завращала страшно бельмами:
– Воля Князя! Воля богов! Отец махнул рукой:
– Слышу. Пусть идет с ватагой. Но сперва сыну моему поклонится…
Чужак вышел на свет. Согнутый, жалкий… На плечах охабень рваный, в руке палка резная. Поговаривали наши бабы, будто он без палки и ходить не может – валится, а лицо под капюшоном прячет оттого, что на него смотреть невозможно – так уродлив. Он, и верно, лица никогда не открывал. Даже сейчас, у костра стоя, в охабень с головой закутался да забормотал неразборчиво…
Бубнил-бунил, а после кивнул мне, будто пообещал что-то, и пошел в темноту. Сновидица забыла о нас, за сыном вдогон бросилась, но как за тенью угонишься?
Я в Чужакову клятву не поверил, да и никто не поверил. Не наш он, не болотницкий. От кого только его ведунья прижила? Мать-покойница сказывала, будто когда-то уходила из села Сновидица. Год тогда выдался плохой: зверье дохнуть стало, топляки зашевелились, людей голод и мор одолели. С горя да сдуру обвинили ведунью. Она, мол, беды наслала. Обвинили да из печища-то и выгнали. Долго ее не было. Где жила, с кем – неведомо, а без нее еще хуже стало. Бабы уродцев рожать начали, мужики в Трясине гибнуть. Спохватились наши, послали разыскивать Сновидицу, Далеко гонцы не ушли, на тропе к печищу ее встретили. Сама возвращалась да в тряпицах ребенка несла. Вышли люди ее встречать, повиниться хотели, да только поднял глуздырь голову, сползла с него шкура, в коею укутан был, и раздумали наши бабы каяться. Моя мать там тоже была. В глаза дитю глянула и охолодела вся.
Искрились у него глаза провалами черными бездонными, а посередке разноцветными искрами яркие ободки полыхали. И ладно бы глаза, так ведь были у него еще и волосы – длинные, седые, будто у старика. Зашептались бабы: «Чужак… Чужак…» Так к нему это прозвище и прилипло. А в лицо ему с тех пор никто не заглядывал, даже ребятишки, до страшных тайн падкие. Да и он людей сторонился, все больше по болотам бродил, словно дух болотный, бессловесный. Умен ли, глуп ли – не разберешь. От такого спутника добра ждать не приходится… Бедой от него пахнет, предательством. Да только не ладно мне против Княжьей воли идти…
Большая радость малые заботы быстро стирает, и едва погас костер на поляне, забыл я о Чужаке. Лишь легкая досада осталась…
А поутру старики начали на путь гадать. Водили белого коня через копья, в землю воткнутые, смотрели – какой ногой переступит, когда в дорогу собираться? Я на то таинство из щели дверной поглядывал, моля богов указать срок пораньше, – уж очень хотелось быстрее из надоевшего печища вырваться, мир поглядеть, себя показать… Боги снизошли – указали на тот же день. Собирались недолго – взяли мяса сушеного да воды чистой на пару дней, а всего более оружием обвешались. Каждый своим – себе привычным… Я рогатину взял и отцовский нож, длинный, с рунами – о нем еще мальчишкой мечтал. Бегун – топорик легкий и лук со стрелами, а охотники, помимо ножей да топоров, шишковатые палицы прихватили. У Лиса еще кистень оказался. Лишь Чужак безоружным пошел. Такому, как он, оружие ни к чему – ему, верно, и топора-то не поднять, только и может, что палкой своей по земле постукивать.
Уж три дня, как мы в пути, а он все стучит. Тюк-тюк, тюк-тюк… Мерно так, словно с ума свести хочет… И зачем только взял я его – шел бы оборвыш сам по себе, небось, привык без людей обходиться… Только теперь чего печалиться? Коли взял парня в ватагу – так за него отвечаю перед Князем и перед своей совестью. Ладно, хоть Хитрец идти с нами вызвался. У него ума – палата, и коли учудит чего сынок Сновидицын – старик выручит. Его советами даже отец не брезговал. Говаривал:
– Слушай его, сынок. Редкому человеку такая светлая голова дадена.
Отец его с нами отпускать не хотел, да разве Хитрец меня оставил бы? Хоть с отцова разрешения, хоть без него, а ушел бы. Он меня все еще мальчишкой несмышленым считал, опекал, будто наседка заботливая… Мне его забота уж поперек горла стояла, а все-таки приятно было его частое дыхание у своего плеча слышать да знать наверняка, что хоть один из ватажников моих без всяких клятв и обещаний за меня жизнь готов положить. К тому же никто дороги в Ладогу не ведал, а Хитрец хоть руны о ней читал…
– Хитрец, что ты о Чужаке знаешь?
Он вскинул по-птичьи голову, огладил меня добрыми глазами:
– То же, что и все. Сновидица его от безвестного отца зачала. Лицо у него безобразное, душа скрытная – никто от него слова доброго не слышал.
– А кто-нибудь с ним разговаривал?
– Что ты, Славен! – всполошился старик. – Он не зря богами проклят, уродством наказан. Кого боги прокляли, с теми и людям не следует знаться.
– Да ладно тебе, ладно… Другое хочу спросить. Ты обещал: к вечеру до Болотняка доберемся. Вечер уж близок, а его не видать. И от Бегуна известий нет. Может, сбились мы иль руны твои лгут?
– Руны старинные, не мной черчены, может где и ошибаются, а Болотняк – вот он, гляди.
Я проследил за его рукой. Верно. Поднимался перед нами пологим склоном Болотняк, красовался непривычно высокими, гладкими деревьями. Чужими…
Зашевелилось в груди что-то, заныло и метнулось вдруг птицей исполошной вон из тела, на внезапный отчаянный крик отзываясь. Дрогнул Болотняк, затрепетал в страхе пред злом неведомым, заметался тенями зловещими, шорохами незнакомыми. Взбудоражил его человеческий крик, пробудил ото сна.
– Бегун!
Я одним прыжком через низкие кусты перемахнул, под кроны чужих деревьев бросился, да и охотники мешкать не стали – ринулись вверх по склону к родичу, в беду попавшему…
БЕГУН
Так далеко от дома мне еще не доводилось забираться. Хотя без хвастовства могу сказать, походил я по чужим местам поболее наших именитых охотников. Поди все болото до Мертвой Гати прочесал. Каждый куст, каждая топь мне старые знакомцы. Нечисть болотная и та со мной в приятелях ходит. Я не против – им в топях скучно и мне в дороге одиноко, чего ж не познакомиться?
Здешние места совсем иные, здесь и без попутчиков не заскучаешь. Земля под ногами твердая, сухая, трава высокая, светлая, птицы не по-нашему тренькают. Красотища вокруг…
Вон пенек-топляк на тропу покрасоваться выполз, путь мне заступил. Наши топляки в такие одежки лишь к праздникам весенним наряжаются, а этот в червень месяц расфрантился. Шапку нацепил зеленую, кафтан коричневый, в белесых разводах, даже корни гладкой холеной кожицей поблескивают. Сразу видно – не приходилось ему болотную жижу хлебать да изголодавшимися кореньями живность топить. Жаль, недосуг мне словом с ним перекинуться. Покуда наши не подошли, многое нужно успеть. Интересно, где они сейчас? Плетутся, небось, нога за ногу, красотами местными любуются. Что же за доля у меня такая – всегда бегать?! В селе посылали с поручениями всевозможными, думал, в походе все изменится, и вот тебе, пожалуйста, опять беги впереди всех, дорогу разведывай, верный путь зарубками помечай. Славен, хитрая бестия, весь в отца, напрямую ко мне не обратился, лишь намекнул на привале, мол, нужно бы одному впереди идти, дорога новая, неизвестная, мало ли что… Лис с Медведем спать тогда укладывались, а как его слова услышали, вмиг возле Славена очутились, добровольцы этакие! Им, дурням, дай волю, так они вместо Болотняка Приграничного к Скоропее в логово заведут. Охотники – они и есть охотники, зверя за версту чуют, а дорога им ни к чему. Славен, похоже, о том вспомнил, засмеялся, покачал головой отрицательно и на меня покосился. Я и без того понял – мне идти. Хитрец стар и хил слишком, а Чужак куда завести может – одним богам ведомо. А то и вовсе смоется. Один я остаюсь… На этом и порешили.
Утром я пораньше встал, еще птицы голоса не подали, барахлишко свое увязал, подкрепился слегка и уже шагать собрался, глядь, – а Чужака-то, нет! Вещи его по земле разложены, нож из мертвого пня торчит, посох неразлучный из-под шкуры выглядывает, а самого нигде не видать.
Тут меня такой интерес разобрал, аж внутри все поежилось! Пригнулся я и тихонечко к котомке его подобрался.
Только рукой веревку тронул, как меня хвать кто-то сзади за руку! Перепугался я не на шутку. Подумалось сразу: наши проснулись, решили – я за воровство взялся. Попробуй объясни им, что любопытство меня одолело. Как оправдываться стану?
Сзади тишина полнейшая, ни шороха, ни звука, лишь рука меня не отпускает. Пальцы на ней длинные, цепкие, будто щупальца топляка…
Наконец собрался я с духом, повернулся – и чуть в штаны не наложил. Стоял за мной Чужак, капюшон скинул… Смотрели на меня глаза удлиненные, чуть к вискам растянутые, посередке бездна темно-синяя, вокруг разноцветные ободки переливаются, а за ними голубизной белки посверкивают. Как я в них глянул, засияли всполохами ободки, умножились, и потянуло меня прямо внутрь, в страшную темноту. Даже вскрикнуть не успел…
Очнулся возле дерева. Сидел, к нему спиной привалившись, а в душе легкость такая, что о Чужаке и вспоминать не хотел. Поднялся, подхватил свой мешок и помчался от Чужака подальше. Несся, пока ногу на коряжке не подвернул. От боли образумился, выругался крепко и начал дорогу уже с умом выбирать. А на сердце все же неладно было…
Никогда я трусом не был, с рогатиной на топляков ходил, да не таких, как этот, ненашенский, – столеток выворачивал. Не один, правда, но ведь не боялся же! А иной топляк пострашнее Скоропеи будет. Хлестнет по телу длинным щупальцем, яду впрыснет в рану, и не жилец уж ты на белом свете. Мужиков наших многих топляки потравили, в болото затянули… Только я лучше в одиночку на топляка пойду, чем еще хоть раз Чужаку в глаза загляну… Не мудрено, что он под капюшоном прячется с эдаким-то взглядом! Люди говорят: в глазах, как в зеркале, душа человеческая отражается. Ежели по Чужаку судить, то вовсе не человеческая у него душа… Никто про отца его и слыхом не слыхивал, а ведьма на всякое способна – полюбилась с каким духом болотным, вот и уродила не то человека, не то зверя, не то нежить неведомую.
Мне даже жаль его иногда бывало. С детства один маялся. Мать ему во всем и опора и защита была, а какая из Сновидицы защита? То спит сутками, не добудишься, то по болоту шляется, травы собирает, то зелья варит, то лечит, то заговаривает, то по соседним деревням бродит – у подобных себе опыту набирается. Сына она любила, только мало одной любви для воспитания. Вот он и вырос одинокий да неприкаянный.
Одному плохо на свете жить, страшно… Это я по себе знал. Мать перед смертью все причитала:
– Иди, сынок, к людям. Среди них добрых больше… Помогут… Коли ты к ним с добром, так и к тебе не со злом… Коли спиной к чужому горю не встанешь – сам в беде спины не увидишь.
Мне сперва казалось – бредит мать, а потом, как она сказала, так все и обернулось. Я людей люблю, и они меня тоже. Мне на людях и сытно, и тепло, и радостно. Один я бы уже давно от хандры спятил. Наши меня всегда на праздники зовут, просят: «Приди, Бегун, спой». А почему не спеть, если от песен моих кому-то легче жить станет? И мне с песней сподручнее – она и душу очищает, и сердце греет.
Размышлял я, размышлял, да не заметил, как до Болотняка добрался. Про зарубки, что оставлять обещался, совсем забыл. Ничего, недалече здесь, опасностей никаких на пути не встретилось, – по слабым следам доберутся…
Собрал я костерок небольшой на скорую руку, сел рядышком, а мысли не отступали, роились в голове многоголосым гудением. Как-то меня Чужак встретит? Деревья зашумели, и послышалось мне в их шелесте: «Не волнуйся, не беспокойся, ничего плохого не случится…» Эх, великаны лесные, вашим бы словам правдой выйти!
Ветер принес туманный холод. Влажный, густой, дурманящий… Голова от долгого пути отяжелела, полезли в нее глупости всякие, строки из песен, давно позабытых:
Спать под нежной лаской ночи,
покрывалом темным неба…
Видел я это покрывало у Чужака в глазах, чуть навек не заснул… И сейчас спать не время…
С трудом отогнал одолевающую дрему, разлепил сонные глаза и шарахнулся в ужасе, пытаясь вспотевшими руками хоть какое-нибудь оружие нащупать. Пальцы не слушались, скребли мох да траву. Под чужим звериным взглядом деревенело тело, превращалось в корягу молчаливую. Много я кабанов повидал, но такого вепря, что в двух шагах предо мной замер, – ни разу не доводилось. На черной морде зверя полыхали, будто уголья, маленькие злобные глазки, изогнутые клыки высовывались из-под слюнявой щетинистой губы, короткие толстые ноги яростно рыли землю…
И откуда он взялся здесь такой? Зачем на огонь вышел?
Вепрь хрюкнул коротко, пустил изо рта струйку тягучей слюны, недовольно повел мощной шеей.
Даже если смогу нож нашарить – не одолею его… Коли есть средь вепрей цари, то, должно быть, этот – самый главный и самый грозный… Вышиной – лося не меньше, а уж черен как!
Под моей неловкой ладонью хрустнула ветка, и почти тут же пальцы коснулись костяной рукояти. Нож!
Вепрь услышал хруст, вздернул морду, ринулся. Меня неведомой силой толкнуло в сторону, шею ожгло горячее дыхание зверя, на щеку брызнуло вонючей слюной. Острое копыто ткнуло в бок, разрывая одежду. Лес завертелся перед глазами, небо поменялось с землей, а затем вновь очутилось на прежнем месте.
Ошалело мотая головой, я отыскал глазами зверя. Вовремя. Он уже легко развернулся и, взбесившись из-за своей случайной промашки, несся на меня, пуская из раздутых ноздрей пенные облака пара. Комья земли брызгали из-под копыт, кровожадные глазки, казалось, вонзались в душу, заставляя ее сжиматься в жалкий дрожащий комок.
Спину опалило жаром. Костер! Я перекатился под защиту пламени, но вепрь будто не заметил огня. Черное щетинистое тело, разметав угли, промчалось прямо через костер… Этого не могло быть! Дикий зверь должен бояться огня! Или… Это не зверь?! – Помогите!!!
Я закричал и не услышал своего крика. Он метался где-то глубоко внутри и, казалось, не может вырваться наружу, хотя губы лопались от напряжения.
Вепрь неумолимо разворачивал могучее тело, недовольно хрюкал. Видать, раньше ему попадались менее верткие враги. Но и меня он упускать не собирался. Тем более что от борьбы я уже отказался. Понял: не зверь предо мной – нежить лесная… Что толку биться с обменем иль лямбоем? Они не клыками и ножами сильны – знанием могучим, чародейством…
Внезапная серая тень скользнула перед длинной мордой зверя. Драный охабень развернулся, на мгновение скрыв от меня приближающийся звериный лик смерти, резной посох мягко скользнул по покрытой пеной страшной морде. Чужак?! От неожиданности я выронил нож, заморгал, силясь рассмотреть хоть что-нибудь сквозь пелену страха. Тень опрокинулась на зверя, слилась с ним в одно расплывчатое пятно и пропала… А взамен нее возник разгоряченный от быстрого бега Славен, озабоченно вгляделся в мое лицо: – Что случилось? Чего кричал?! Кабы сам я мог понять…
Запыхавшиеся охотники с треском вымахнули из зарослей, зашарили исполошными глазами по поляне. У Медведя в руке грозно сверкал острым лезвием тяжелый топор. Небось, им-то в два счета любого зверя, да и не зверя, осилить можно. Жаль только, никто, кроме самого Медведя, рубить им не может – силенок не хватает.
За спинами братьев неловко вылез из кустов Хитрец, а чуть поодаль, ковыляя и тяжело опираясь на посох, выбрался Чужак. И как только привиделось мне, будто мог он, заморыш этакий, кабана злобного одолеть?! А может, и кабан привиделся? Уж не заснул ли я ненароком, не заорал ли в кошмарном сне?
Стыд залил щеки, пополз по шее за ворот рубахи… Это ж надо так опозориться – из-за сна пустого всех родичей на помощь созвать!
Я огляделся, отыскивая себе оправдание. На глаза попалась взрыхленная копытом зверя земля… Значит, вепрь все-таки был? Или это Славен ногой землю сковырнул, моего объяснения дожидаясь? «Ладно, – решил я, – ему правду скажу, а перед остальными позориться не стану!»
Как надумал, так и сделал. Поднялся с земли, утер ладони вспотевшие, отвел Славена в сторонку и поведал негромко обо всем. И так похоже на сказку получилось, что сам в свои слова не поверил. А Славен тем более. Выслушал меня, усмехнулся криво и приказал на ночевку располагаться.
Чужаку не понравилось что-то, к костру не пошел, а остальных точно канатом к огню потянуло. К тому же темнеть стало. С темнотой вместе грусть накатила, обдала сердце холодом. Не доводилось мне еще так грустить, до стона душевного, хоть далеко от родного печища не раз хаживал…
– Спой, Бегун. – Хитрец не вынес молчаливой тоски, попросил жалобно, словно перед смертью. У меня и самого душа взахлеб плакала. Кто знает, что ждет впереди? Вернемся ли когда, увидим ли избы родные? Чем встретит нас Ладога?
От вопросов этих лопнула преграда меж языком и сердцем, вылились слезы словами, грустными, тягучими, будто смоляные капли:
Мне по девкам не гулять, не гулять.
Мне не сеять, не пахать, не пахать.
Да детишек не растить, не растить.
Да и дома не сложить, не сложить.
От родимой-то земли, от земли,
Меня ноги унесли, увели.
Мне в далекой стороне нынче жить
Да по милой стороне мне тужить.
Мне обратного пути не видать,
Мне в дружине горевать, воевать.
После песни моей тишина наступила такая, что дыхнуть боязно, и вдруг у самого уха – голос! Сильный, густой, незнакомый: «Не грусти о неведомом, Бегун. Может, и не придется тебе в дружине служить…» Я оглянулся – никого. Только Славен головой покачал:
– Эх, Бегун, Бегун. Никак у тебя без нытья не получается. Любишь ты слезу пустить… Давай-ка укладывайся лучше и не печалься о том, чего не знаешь…
Вот, вот, и голос, что мне померещился, так говорил. Оно и верно, утро вечера мудренее. А все-таки неспокойно…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?