Текст книги "Лев Бакст, портрет художника в образе еврея"
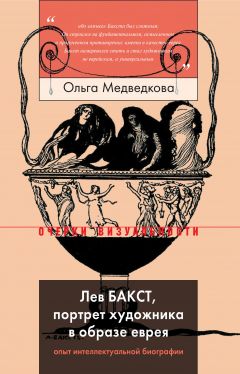
Автор книги: Ольга Медведкова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Заметим, что несколько лет спустя, в 1915 году, Пастернак использовал «линию Апеллеса» как название для своего рассказа о поэте Генрихе Гейне. Эпиграфом к рассказу послужил тот же античный анекдот, с той лишь разницей, что Пастернак заменил Протогена более знаменитым Зевксисом, героем других анекдотов Плиния: «Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества».
В рассказе Пастернака поэтическое состязание между Генрихом Гейне и итальянским поэтом Эмилио Релинквимини (придуманное лицо, в фамилии которого звучит «реликвия имени»), превращающееся затем в состязание любовников, развернуто вокруг антитезы «сущность – имя». Релинквимини оставляет Гейне в качестве «апеллесовой черты» каплю своей крови. Гейне же пишет в ответ ему свою «апеллесову строфу», стихотворение о смене человеком в момент любовного экстаза своего имени на вроде бы то же, но ставшее как бы другим; вслед за тем любовная история влечет за собой прозрение Гейне и «смену» его имени Генрих на то же, но звучащее по-итальянски – Энрико. Гейне был одним из самых знаменитых в культуре того времени «крещеных евреев», размышлявших о еврейской эмансипации. Проблема имени недаром оказалась в рассказе Пастернака связанной с проблемой расы, крови, рода, наследственности, унаследования: «Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне… Апеллесова удостоверения личности»[122]122
Т.В. Цивьян, «Еще об именах в повести Бориса Пастернака „Апеллесова черта“», Т.М. Николаева (ред.), Семантика имени, № 2, Москва, 2010. С. 84–92.
[Закрыть]. Бакст вряд ли читал этот рассказ: в момент его опубликования он жил в Париже и звался уже не Лейбом, не Львом, а Леоном. Без отчества.
Но вернемся к роли анекдота, унаследованного Вазари от Плиния и структурирующего у него биографии художников. Почему так важны для Вазари эти неслучайные случаи? Художник у него – существо духовное. Его произведения являются не столько результатом дела его рук, сколько продуктом всей его личности, которая складывается в борьбе человеческой природы с судьбой или, иначе говоря, в борьбе характера с обстоятельствами. Такие столкновения личности с тем, что гуманисты называли фортуной, собственно, и выражались в «случаях», которые при пересказах превращались в «анекдоты». Именно в качестве людей, наделенных особыми духовными качествами и благодаря этому способных противостоять фортуне, художники – наравне, с одной стороны, с императорами и полководцами, биографии которых лепились по модели Плутарха, и, с другой стороны, со святыми, деяния которых писались с апостолов, получали у Вазари право не только на каталог их работ, но и на подлинное жизнеописание, наполненное случаями-анекдотами, своего рода «деяниями», а в некоторых случаях и афоризмами (facta et dicta). Все это Вазари объяснял во введении к первому изданию своего труда, за что его, кстати, критиковал его друг Боргини[123]123
Patricia Lee Rubin, Giorgio Vasari, Art and History, New Haven, Yale University Press, 1995. Р. 192.
[Закрыть], утверждавший, что о художнике как о человеке рассказывать не надо, а надо только о его произведениях[124]124
Так часто и по сей день пишут книги о художниках.
[Закрыть].
Со времен Вазари и особенно с эпохи романтизма биографии европейских художников, написанные их единомышленниками, учениками, друзьями, часто продиктованные ими самими, составлялись по этой Вазариевой схеме, то есть как, с одной стороны, история борьбы личности с дурными обстоятельствами, а с другой – как серия запоминающихся анекдотов и афоризмов. Вот, например, как начинается биография Делакруа, написанная Теофилем Готье: «Теперь, когда спокойствие воцарилось вокруг его великого имени – одного из тех имен, которые потомство никогда не забудет, – мы не в силах вообразить себе, посреди какого шума, в какой страстной пыли битвы он жил»[125]125
Théophile Gauthier, «Eugène Delacroix», Le Moniteur, 18 novembre 1864, цит. по: Ecrivains et artistes romantiques, Paris, Plon, 1933. Р. 228.
[Закрыть]. В биографию романтического гения вдобавок к непременному анекдоту о призвании и обязательном сначала непризнании его таланта публикой, заказчиками, жюри добавлялся рассказ об успехе, приходящем издалека, из другого города, из другой страны, из другого контекста: у Делакруа, в связи с его страстью к поэзии и литературе, таким актом первопризнания стало мнение самого Гёте о его рисунках к Фаусту.
В другой своей статье, посвященной Энгру, Готье так писал о жанре художественной биографии: «Жизнь художника теперь сосредоточилась в его произведениях, особенно сегодня, когда цивилизация своим развитием смягчила удары судьбы и почти свела на нет историю личности. Биографии большинства великих художников прошлого содержат в себе легенду, роман или по меньшей мере историю; биографии же знаменитых художников и скульпторов нашего времени можно свести к нескольким линиям… Но если события занимают в них меньше места, больше места занимают идеи и характеры; произведения занимают место случайностей, которых не хватает»[126]126
Théophile Gauthier, «Ingres», L’Artiste, 1857, цит. по: Ecrivains et artistes romantiques, указ. соч. С. 216.
[Закрыть].
Бакст, перепридумывая свою жизнь, ничего, стало быть, не изобретал, пользовался сложившимся методом, но не как бессознательный постромантик, а как творческий наследник, возвращающийся к эпохе Возрождения. Само слово «Возрождение» Бакст использовал в своих текстах постоянно. Это понятие было для него идеальным образом, инструментом и аргументом в его критике упадка современного искусства. За словом этим стояла, как правило, Италия XIII–XV веков, то есть та, о которой шла речь в Жизнеописаниях Вазари. В своей программной статье 1909 года Бакст обращался к этой книге многократно, описывая, например, работы в мастерской Гирландайо и противопоставляя их, с одной стороны, академическому обучению, а с другой – современным модным парижским «ателье»[127]127
Лев Бакст, Пути классицизма в искусстве, указ. соч. С. 75–76.
[Закрыть]. Рассказ о Джотто, чрезвычайно близкий к тексту Вазари, заканчивался прямой цитатой: «Из чего папа и куртизаны поняли, насколько Джотто превосходит всех художников своей эпохи». Следующая за этим фраза в тексте Вазари, которую Бакст опустил, звучала так: «Отсюда пошла поговорка: Ты круглый, как О Джотто». Забавным образом эта тосканская прибаутка напоминает нам рассказ Сологуба об учителе Лосеве именно как об учителе каллиграфии, говорившем своим ученикам: «Так как вы уже не маленькие, то напишем букву О». Именно О, а не какую-нибудь иную букву! Ведь за ее идеальным абрисом стояла целая страница в истории искусства и науки эпохи Возрождения. Вдохновленный Вазариевым видением художника – как ближайшего к Творцу природы Мастера, рисовальщика, равного ей в самом акте очерчивания границ вещей, «воскресителя» рисунка, а значит, и самой природы, ее смысла, как героя, достойного высочайших похвал и исключительного места в социальной иерархии, – Лосев, а через него сам Вазари заразил Бакста священной страстью к искусству. Именно так повествует об этом Левинсон: «Профессия художника внезапно представилась Левушке как самое высокое предназначение с ореолом героизма. Предавшись этой романтической мечте, он немедленно захотел покинуть гимназию. И настаивал на этом с такой убежденностью, что его родители в отчаянии решились наконец посоветоваться со скульптором Марком Антокольским, другом семьи и высшим авторитетом в делах искусства»[128]128
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. С. 26.
[Закрыть].
Дальше у Левинсона следует история признания, воспроизводящая, как мы уже сказали, подобные ситуации в биографиях бесчисленных художников. Как писал Теофиль Готье: «Обычно биографии художников начинаются с рассказа о препятствиях, которые семья воздвигает против их призвания. Отец, который мечтает о нотариусе, о враче, об адвокате, сжигает стихи, рвет рисунки и прячет кисти»[129]129
Théophile Gauthier, «Ingres», L’Artiste, 1857, цит по: Ecrivains et artistes romantiques, указ. соч. Р. 220.
[Закрыть].
Антокольский
Остановимся здесь снова ненадолго. Не странно ли: сначала Левинсон говорит со слов Бакста, что его родители были совершенно нехудожественны, что в доме ничто не свидетельствовало об увлечении искусством и даже в целом красотой – потому отец и запретил было Левушке рисовать, – и в то же самое время вдруг оказывается, что родители дружили с самим Антокольским.
«В Париже, где он жил, – пишет Левинсон, – мало кто помнит покойного Антокольского; да и в России сегодня к нему мало интереса, несмотря на то что его многочисленные произведения наполняют московские и еще более петроградские музеи: как ненадежна художественная слава! Ибо он познал всю полноту славы. Он был в России скульптором века, того XIX века, который потерял самое элементарное представление о пластической форме. Антокольский разделял концепцию узкого натурализма, поставленного на службу гуманных социальных идей, задавленную идолом Репина, концепцию, реализованную художниками знаменитой „Ассоциации передвижных выставок“. К тому же Стасов, воинствующий, многословный критик, тот самый, что написал для Мусоргского чудовищно запутанное либретто „Хованщины“, повернул Антокольского к русской истории. Антокольский и стал ее иллюстратором и историческим портретистом в бронзе и в мраморе. Он исполнил Ивана Грозного, летописца Нестора, Петра Великого, казака Ермака, покорителя Сибири. Владея острым психологическим даром, он изваял героев и мучеников свободной мысли: умирающего Сократа, Спинозу и Христа, задуманного в духе Штрауса и Ренана; эти монументальные куклы, глубоко тронувшие его современников, не подают более признаков жизни. Но остается моральная личность Антокольского. Она была чиста. Неслучайно этот молодой еврей, бедный и решительный, не особенно умея и писать-то по-русски, стал кумиром и оракулом поколений. Сегодня мы прекрасно видим, что он пошел по неверному пути. Но он в него верил. Его художественные принципы были непоколебимы, бескорыстны, абсолютны: он был фанатиком. И что является большой редкостью, этот фанатик был воплощенной добротой. И хотя он очень настаивал на всевозможных лишениях и горестях судьбы художника, но не отказался посмотреть рисунки Льва. Под нажимом ребенка отец послал несколько рисунков в Париж, и – после тревожного ожидания – пришел положительный ответ, решительный, пьянящий. Маэстро нашел рисунки вполне удовлетворительными и советовал поступать в Академию художеств, при том условии, чтобы продолжать одновременно и школьное образование. Вчерашний непослушный и посредственный ученик, Лев, стало быть, будет художником, существом избранным и легендарным! Ему было в то время шестнадцать»[130]130
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. С. 31.
[Закрыть].
Этот «анекдот об Антокольском» повторят вслед за Левинсоном все биографы Бакста наряду с историей о «французском дедушке»; анекдот вполне в духе Вазари, о том, как гений прошлого признаёт в ребенке гения будущего. Но соответствует ли этот рассказ действительности? В своих воспоминаниях Бенуа намекал на то, что Бакст отчасти скопировал его, Бенуа, «театральное призвание» в рассказах о своем детском увлечении театром[131]131
«…в своих воспоминаниях, появившихся в каком-то парижском журнале в 1920-х годах, Бакст многое приврал (вроде того, что его малюткой нянчила на руках сама Аделина Патти)…» (Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 614).
[Закрыть]. В самом деле, в книге Левинсона история Бакста о его детских театральных играх слишком близко напоминает рассказы Бенуа. Возможно, конечно, что родители Бакста во времена его раннего детства, а значит, их благополучия, основанного на доходах деда, действительно пользовались дорогим абонементом в Итальянскую оперу[132]132
Такой абонемент мог быть пожизненным и передаваться по наследству; в таком случае он мог быть унаследован родителями Бакста от Пинкуса Розенберга.
[Закрыть] – хотя это плохо вяжется с утверждением об их безвкусии; возможно и то, что старший брат Левушки «пересказывал младшему спектакли по возвращении домой» (снова эта «дантова» достоверная деталь!), но рассказ о самодельном театре слишком уж напоминает Бенуа, этого подлинного «наследника»[133]133
Мы заимствуем понятие héritiers у французского социолога Бурдье: Pierre Bourdieux, Jean-Claude Passerons, Les Héritiers, les étudiants et la culture, Paris, Les Editions de Minuit, 1964.
[Закрыть], семья которого была теснейшим образом связана с театром, и слишком целенаправленно, логически «подготавливает» последующее участие Бакста в театральных постановках в Петербурге и в Русских сезонах в Париже. Что, напротив того, кажется вероятным, так это увлечение Бакста игрой в доктора, о котором повествует Левинсон. Доктором был при этом, конечно, сам Левушка, а пациентками – его сестры. «Однажды, приготовив лекарство из разведенной в воде зеленой краски, он до того переусердствовал в натурализме, что проглотил его. Черт его дернул. С трудом его откачали, отпаивая молоком»[134]134
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. P. 23.
[Закрыть]. Эта деталь кажется поистине невыдуманной и вполне вяжется с образом чувствительного, восприимчивого ребенка (хотя отчасти и таковой является романтическим, а затем и декадентским стереотипом), способного поверить своему собственному вымыслу.
Что же касается эпизода с Антокольским, то мне кажется, что Бакст присвоил себе случай из биографии Серова, одного из его ближайших и любимейших друзей, которого он чтил «точно брата»[135]135
«Завтра приедет Серов – это меня так радует, точно брат приезжает» (Письмо Бакста Л.П. Гриценко от 6 января 1903 г., МДО, 2, с. 39).
[Закрыть]. В отличие от Бакста Серов, как и Бенуа (и как, заметим вскользь, все будущие участники Мира искусства), родился в семье высококультурной. Отец его был знаменитым композитором, дружившим с Рихардом Вагнером, знавшим весь художественный Петербург. Мать же, Валентина Семеновна Серова (1846–1924), бывшая гораздо моложе мужа, была не только музыкантом, пианисткой и композитором, но еще и страстной поборницей женских прав, защитницей униженных и оскорбленных, как тогда говорили – нигилисткой. Как мы уже видели, она происходила из рода переехавших в Россию и принявших христианство гамбургских евреев[136]136
Ее родителями были Семен Карлович Бергман и Августина Карловна Гудзон.
[Закрыть], немецкий язык был ей родным, в Европе она себя чувствовала как дома и именно там после ранней смерти мужа воспитывала сына, прекрасно владевшего впоследствии и языками, и «чувством Европы». «Исключительной, огромной просвещенностью в деле искусства обладал весь тот круг, где Серову посчастливилось с детства вращаться. И то значение, которое имел для искусства его отец, и та среда, где жила его мать, – все способствовало выработке в нем безупречного вкуса. ‹…› Да, пребывание с самого детства в просвещенной среде – незаменимый ресурс для дальнейшей деятельности юноши…»[137]137
Илья Репин, «Валентин Александрович Серов (материалы для биографии)», Валентин Серов, Воспоминания близких, Москва, 2018. С. 251–252.
[Закрыть] – писал после смерти Серова Илья Репин.
Мать Серова дружила не только с музыкантами, но и с художниками, включая Антокольского, который дал первый положительный отзыв о рисунках ее одаренного сына, и Репина, которого ей представил именно Антокольский и который стал впоследствии первым учителем юного художника. А потому совершенно естественно было Валентине Семеновне, жившей тогда с девятилетним Тошей[138]138
Тоша, Антоша – детское прозвище Серова, оставшееся на всю жизнь.
[Закрыть] в Мюнхене, обратиться к Антокольскому за советом. Вот как рассказывала об этом она сама: «Что он (сын) обнаруживал выдающееся дарование, в этом меня окончательно убедил Антокольский, которому я послала его рисуночек (клетка со львом). Я ужасно боялась преувеличить свое увлечение его даровитостью, не желая делать из него маменькиного сынка – „вундеркинда“, этого я страшилась больше всего. Отзыв Антокольского был таков, что я немедленно принялась разыскивать учителя солидного, обстоятельного»[139]139
Валентина Серова, «Как рос мой сын», Валентин Серов, Воспоминания близких, указ. соч. С. 45.
[Закрыть]. И еще: «Давно Антокольский звал хоть слегка ознакомиться с Римом. ‹…› В Риме я показала Антокольскому Тошины рисунки; он очень серьезно отнесся к его дарованию и посоветовал несколько оживить его учение, предоставив его руководству талантливого русского художника»[140]140
Там же. С. 61–62.
[Закрыть]. Этим художником и стал Репин, к которому мать и сын отправились в Париж.
Интересно, что в своих воспоминаниях Серова ни словом не упоминает ни о своем, наверняка ничего для нее не значившем, лютеранстве, ни о еврейском происхождении Антокольского, хотя это происхождение, несомненно, в ее дружбе со скульптором, да и в целом в жизни ее и сына, определенную роль играло. В целом «еврейство» здесь было именно вопросом «круга», родственного и дружеского. Так привязан был Тоша к семейству своей тети, педагога и издателя Аделаиды Семеновны, урожденной Бергман (1844–1933), бывшей замужем за педиатром и основателем первого в России детского сада, евреем Яковом Мироновичем Симоновичем (1840–1883). На воспитаннице этой семьи Валентин Серов впоследствии женился. В своих заметках Серов и я в Греции Бакст писал, как раздражало его, когда вдруг Серов как бы ненароком затягивал какое-нибудь литургическое греческое песнопение[141]141
Серов, однако, как мы увидим позднее, православным был лишь формально.
[Закрыть]. Бакст – как и все их окружение – не только знал о еврейских корнях Серова, но и, вполне возможно, обсуждал с другом этот вопрос. Наверняка знал Бакст и историю о посылке рисунков Антокольскому, из которой сам чрезвычайно скромный Серов никогда никакого «анекдота» не сотворил. Любопытно, что, по воспоминаниям Валентины Семеновны, убежденная в таланте сына, она послала Антокольскому Тошины рисунки как бы на всякий случай, чтобы их не переоценить. Тогда как отец Бакста якобы посылает рисунки сына Антокольскому, еврейство которого специально подчеркивается Левинсоном, не веря в его талант, в надежде его от карьеры художника оградить.
Академия художеств
Шестая классическая гимназия, в которой учился Левушка и которую он, по свидетельству Левинсона, помимо уроков рисования, совершенно не любил, была привилегированным учебным заведением. Расположенная на площади Чернышева (ныне Ломоносова), на берегу Фонтанки, недалеко от Невского, эта школа была основана в 1862 году. В ней преподавали знаменитые латинисты и эллинисты, такие как Игнатий Коссович (1811–1878), автор одного из лучших греко-русских словарей, и Лев Георгиевский (1860–1917), один из редакторов словаря классических древностей. Целый ряд крупных ученых, врачей, юристов и государственных чиновников вышли из этой школы. В течение всей своей жизни Бакст прекрасно писал по-русски и по-французски, был страстным читателем, или, по выражению Бенуа, «очень начитанным собеседником»[142]142
Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 615.
[Закрыть], любителем и знатоком классической, в особенности греческой, литературы. Рассуждая о греческой мифологии и философии, о Гомере и Платоне, он свободно вставлял греческие слова. Но в разговорах с Левинсоном и в своем очерке Серов и я в Греции он вспоминал только о «монотонной и угнетающей жизни русского школьника, подъеме с зажженным светом в течение долгих зимних месяцев, возвращении с ранцем за спиной, о мелких интригах гнетущей дисциплины, о черной скуке официального образования». Ни слова о чтении в классе Гомера – позднее любимого писателя. Кроме всего прочего, до аттестата зрелости в этой гимназии Бакст, по всей вероятности, не доучился. Вот что пишет об этом Левинсон: «Леон держал экзамен [в Академию], но не сдал его. Прежде чем сделать новую попытку, он в течение года занимался рисунком с гипсов и, проникнув в тайны этой академической дисциплины, был принят. Еще в течение года он сочетал свое первоначальное художественное образование со школьным; но вскоре покинул гимназию и, после довольно вялых попыток продолжать общее образование, его окончательно забросил. Признаемся без горечи: Бакст не получил аттестата зрелости. В тот день, когда он, по гранитной набережной, облаченный в свою новую зеленую форму, впервые подошел к Академии и, прошагав под надзором двух фиванских сфинксов, охраняющих святилище, решился наконец войти в нее, его удивлению, его гордому восторгу не было границ. А тем временем за грандиозным фасадом храма Императорская Академия являла собой в 1890 году заведение весьма странное»[143]143
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. P. 32. Курсив мой.
[Закрыть].
Чрезвычайно образованный Левинсон неслучайно, конечно, «родиной» петербургских египетских сфинксов эпохи Аменхотепа III называет греческий город Фивы, то есть тот город, царем которого был Эдип, освободивший, как известно, Фивы именно от сфинкса. Весь эпизод с юным Бакстом, переступающим порог Академии художеств, приобретает благодаря этому символический характер. Подлинные же факты остаются в тени, они весьма расплывчаты. Заметим лишь снова странную схожесть между этими фактами и биографией Серова. Тоша также учился «неохотно, без интереса, без внутреннего удовлетворения»[144]144
Валентина Серова, «Как рос мой сын», указ. соч. С. 100.
[Закрыть]. Без всякого удовольствия долбил он латынь в ожидании своих 16 лет, необходимых для поступления в Академию. Но еще не достигнув этого возраста, Серов поступил в Академию вольнослушателем и тогда же поселился один в Петербурге. Было это в 1880 году. В 1882 году, сдав необходимые экзамены, Серов был переведен из вольнослушателей в «академисты». Дарование же Бакста – как мы помним по анекдоту с портретом Жуковского – было открыто в 1883 году (столетие поэта), то есть когда ему было не 12 указанных Левинсоном, а все 17 лет. В прижизненной статье о Баксте в ЕЭБЭ Сыркин указывал, что Бакст поступил в Академию художеств только в 1886 году, то есть в возрасте 20 лет, и пробыл в ней три с половиной года.
А что по этому поводу говорят архивы? 12 марта 1883 года в Императорскую Академию художеств от потомственного почетного гражданина Льва Самойловича Розенберга было подано прошение следующего содержания: «Желая поступить в число вольнослушателей по живописи Императорской Академии Художеств, покорнейше прошу правление ИАХ допустить меня к приемному экзамену. При сем представляю метрическое свидетельство, свидетельство о приписке к призывному участку и засвидетельствованные копии с оных»[145]145
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 137–138. Л. 1. Орфография и пунктуация здесь и далее современные.
[Закрыть]. К этому прошению и была приложена приведенная нами в первой главе копия со свидетельства о рождении, а также копия свидетельства о приписке к призывному участку следующего содержания: «Потомственный почетный гражданин Лев Израилевич Розенберг, родившийся 27 апреля 1866 года, приписан по отбыванию воинской повинности к общему призывному участку г. С.-Петербурга. Вероисповедания Иудейского. Обучается в 6-й С.-Петербургской классической гимназии. Вышеозначенный Лев Израилевич Розенберг подлежит исполнению воинской повинности в 1887 году и заявил намерение отбыть таковую на правах вольноопределяющегося в порядке, установленном 171-196 статьями Устава о воинской повинности. Выдано С.-Петербургским городским по воинской повинности присутствием 27 июня 1882 года, за № 52»[146]146
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 137–138. Л. 4.
[Закрыть]. На этом акте чиновник сделал детальную приписку, объясняя Льву Розенбергу, каким образом должен он будет действовать, если действительно пожелает отбывать военную повинность на положении вольноопределяющегося, а именно: «одного заявления о намерении поступить на службу вольноопределяющимся недостаточно для того, чтобы воспользоваться теми льготами, которые допускаются при этом способе исполнения воинской повинности; для этого необходимо не только заявление о таковом намерении, но и действительное поступление на службу до дня открытия первого заседания воинского присутствия по призыву к жребию сверстников, то есть не позже 31 октября того года, в котором исполняется им 21 год от роду (то есть до 31 октября 1887 г. – О.М.). Не выполнившие сего условия, то есть если о поступлении на службу вольноопределяющимися уведомления к упомянутому сроку в Городское присутствие не поступит, лишаются права на поступление на службу вольноопределяющимися, вносятся в общий призывной список подлежащих жребию и обязаны в дни, которые будут назначены по расписанию, явиться к вынутию жребия и к медицинскому осмотру; неявившиеся же считаются в числе лиц, умышленно укрывающихся от исполнения воинской повинности, и подвергаются взысканию по 214 статье устава. Из заявивших желание поступать вольноопределяющимися могут по 54 статье устава оставаться только те, которые находятся еще в учебных заведениях, и эти последние обязаны поступить на службу в течение четырех месяцев со дня окончания курса или оставления заведения»[147]147
Там же. Л. 5.
[Закрыть].
К службе в армии Левушка, по сильной близорукости, оказался впоследствии негоден. В момент же подачи этого заявления, в марте 1883 года, ему было 16 лет, а в апреле исполнилось 17. Тогда-то он и сдавал вступительные экзамены; а посещать Академию в качестве вольнослушателя начал с августа 1883 года.
Следующее прошение было подано им в академическую канцелярию 2 июля 1887 года; оно гласило: «Так как я уволен из числа вольнослушателей Академии Художеств, то посему имею честь просить Правление возвратить мне документы. Потомственный почетный гражданин Лев Самойлович Розенберг». На этом документе шестью днями позже было приписано: «подлинные документы все получил»[148]148
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 137–138. Л. 6.
[Закрыть]. Двумя годами позднее, 27 октября 1889 года, Лев – то Самойлович, то Израилевич – снова обращался в канцелярию Академии с просьбой выдать свидетельство в том, что он «выступил из натурного класса Академии Художеств в 86/87 академическом учебном году. Свидетельство это предназначается для представления в Императорское Общество Поощрения художеств. Потомственный почетный гражданин Лев Израилевич Розенберг». На этом прошении мы находим адрес, по которому художник в тот момент проживал: «Вознесенский проспект, дом 57, квартира 22»[149]149
Там же. Л. 7.
[Закрыть]. Просимое свидетельство было выдано: «Дано сие из исх[одящих] б[умаг] вольнослушающему оной Лейбу-Хаиму Розенбергу, вследствие просьбы его, для предоставления в общество Поощрения художеств в том, что он, Розенберг, с августа 1883 по февраль 1887 года состоял в числе вольнослушающих Академии и находился в натурном классе, определением Совета, 27 февраля 1887 года состоявшимся, исключен из списка вольнослушающих за непосещение классов. Свидетельство сие не может Розенбергу служить видом на жительство, в чем КИсАХ свидетельствует с приложением печати. Санкт-Петербург, ноября 7 дня 1889»[150]150
Там же. Л. 8.
[Закрыть].
Итак, Бакст поступил в Академию художеств вольнослушателем в натурный класс в возрасте 17 лет и проучился в ней до февраля 1887 года, то есть в общей сложности три с небольшим года, до своих 20 лет. «Академистом» он не стал и никакого диплома не получил: ни о среднем, ни о высшем образовании. Отчислен был за непосещение. В 1899 году он вдруг, объясняя свое отчисление болезнью глаз, просил вновь принять его в число вольнослушателей: «В январе 1887 года вследствие быстро прогрессировавшей глазной болезни я принужден был прекратить, по предписанию врача, посещение классов Императорской Академии Художеств. Определением совета, состоявшегося 27 февраля 1887 года, я был поэтому исключен из списков вольнослушающих натурного класса, ныне же здоровье мое настолько удовлетворительно, что я покорнейше прошу Правление Императорской Академии Художеств вновь зачислить меня в списки вольнослушающих оной (санитарное свидетельство получил, Лев Розенберг). Считаю нужным присовокупить, что к призыву 1887 года я явился и Воинским Присутствием зачислен в ополчение, вследствие глазной болезни. Прилагаю свидетельство пользовавшего меня врача, потомственный почетный гражданин Лев Израилевич Розенберг»[151]151
Там же. Л. 9.
[Закрыть].
Разрешения вновь поступить в Академию 33-летний Бакст, однако, не получил. Судя по приведенным документам, посещал он в годы учения натурный класс, который, как правило, предшествовал поступлению в мастерскую какого-либо профессора, куда из натурного класса переводили специальным актом. В биографии Бакста Левинсон ругал Академию художеств за отсталость и рутину. Профессором Бакста он называл Павла Чистякова, но этому у нас нет никаких подтверждений. Чистяков был, напротив, профессором Серова, а Бакста он, как свидетельствовал Левинсон, отнюдь «не поощрял к продолжению занятий; он видел в Баксте зачатки скульптора, и когда ученик пытался с ним говорить о живописи, неизменно переводил разговор на скульптуру. Его коллега Вениг[152]152
Карл Богданович, 1830–1908.
[Закрыть] был более проницательным и, хоть и осуждая некоторую живость и спонтанность цвета, за которую Бакст был прозван „новоявленным Рубенсом“, не был к нему враждебен. Это одно обнадеживало, ибо невозможно было рассчитывать на более близкие отношения, на единство идей и чувств между чиновниками, социальной иерархией и учениками, которые были пока их подчиненными. Гораздо важнее были его связи с товарищами, особенно с поколением тех, кто заканчивал учебу. Его художественные наклонности изолировали его и в гимназии, и в отцовском доме; здесь же он оказался в окружении молодых людей, вдохновленных тем самым искусством, которое казалось таким подозрительным интеллигенции прошлого. Бакст встретил в Академии Нестерова, который должен был вослед Васнецову и одновременно с Врубелем сделать попытку возродить икону, попытка эта была, кстати, безуспешной, и результатом ее стала сентиментальная и фальшивая стилизация. Это увлечение национальным прошлым в искусстве шло у некоторых учеников рука об руку с довольной сильной враждебностью к инородцам; к тому же антисемитизм официально поддерживался и разжигался, поскольку он канализировал ту справедливую ненависть, которую все более вызывала единоличная власть. Бакст, чувствительный и разборчивый, не мог от этого не страдать. Тем сильнее привязался он к Серову, бывшему на несколько лет его старше, который заканчивал уже академический курс в надежде на золотую медаль по живописи. Будущий портретист, сын знаменитого музыканта, из всего творчества которого парижане знают только отрывки из „Юдифи“, он уже завоевал в глазах своих товарищей ту интеллектуальную и моральную репутацию, которая вытекала из его несколько суровой прямоты и усердия; и в самом деле, вскоре стал он во главу своего поколения. Этот уже сложившийся, строгий и мало склонный к излияниям человек проникся нежностью к нашему „рыжику“. Они садились рядом в мастерской, вечера напролет болтали за чаем в бедном студенческом жилище Серова. Это было чудесное время. Оно продлилось всего восемнадцать месяцев»[153]153
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. P. 33–34.
[Закрыть].
Заметим, что в этом рассказе Левинсона, пишущего, со всей очевидностью, со слов Бакста, нет ни слова о «еврейском учителе» Аскназии, на котором – без каких-либо ссылок на источники – настаивают буквально все биографы Бакста[154]154
Голынец С.В., Лев Самойлович Бакст. Живопись, графика, театр, указ. соч. С. 24.
[Закрыть]. Исаак Львович Аскназий (1856–1902) в Академии даже толком не преподавал. Начиная с 1880 года, будучи пенсионером Академии художеств, жил он за границей, а вернувшись в 1885 году в Россию и получив звание академика, поселился в Петербурге и работал главным образом по частным заказам. Как писал о нем Илья Гинцбург в ЕЭБЭ[155]155
ЕЭБЭ, т. 3, стлб. 293–295.
[Закрыть], главные композиции Аскназия были посвящены еврейской тематике в ее историческом или современном аспекте, а сам он был правоверным евреем, соблюдавшим все обряды, что внушало к нему уважение как евреев, так и христиан. Как мы убедимся в дальнейшем, этой модели еврейского художника Бакст никогда не следовал. Среди же товарищей Бакста по Академии главным был, несомненно, Серов. Он был старше Бакста всего на год, но обгонял его на три класса. Начало их дружбы установить нетрудно: за 18 месяцев до ухода Серова из Академии. Может быть, именно после этого ухода весной 1886-го и дальнейшего переезда Серова в Москву в сентябре того же года (переезда, связанного, кстати, с уклонением от армии) Бакст и забросил постепенно учебу в Академии.
Очень интересно для нас в этом рассказе Левинсона и упоминание о распространенном в Академии художеств антисемитизме и о том, что «тем сильнее» страдавший от этого Бакст привязался к Серову. Друзья, несомненно, обсуждали свое отношение к антисемитизму и к подчеркнуто религиозному поведению. Ведь писал же Серов своей невесте Ольге Трубниковой весной 1885 года, то есть в период тесной дружбы с Бакстом: «Здесь, у Мамонтовых, много молятся и постятся, т. е. Елизавета Григорьевна и дети с нею. Не понимаю я этого, я не осуждаю, не имею права осуждать религиозность и Елизавету Гр. потому, что слишком уважаю ее – я только не понимаю всех этих обрядов. Я таким всегда дураком стою в церкви (в русской в особенности, не переношу дьячков и т. д.), совестно становится. Не умею молиться, да и невозможно, когда о боге нет абсолютно никакого представления»[156]156
http://valentinserov.ru/perepiska85/; см. также письма Серова Остроухову от 15 августа 1887 г. из Абрамцева и от 4 февраля 1889 г. из Санкт-Петербурга.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































