Текст книги "Лев Бакст, портрет художника в образе еврея"
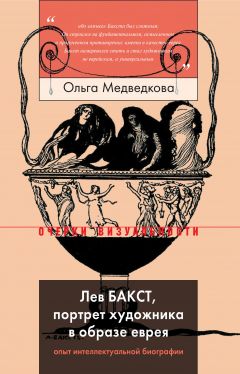
Автор книги: Ольга Медведкова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Еврейский стиль
А что же это был за стиль, в котором Бакст собирался исполнить свою картину об Иуде? Мы можем об этом только догадываться, поскольку, как уже сказали, Бакст свои ранние работы уничтожил. Из эскизов, зарисовок и нескольких картин, созданных около 1890 года и сохранившихся[195]195
Для иллюстраций отсылаю читателя к недавно вышедшему труду: С.В. Голынец, Лев Самойлович Бакст. Графика. Живопись. Театр, указ. соч.
[Закрыть], представление о его стилевом выборе получить непросто. Пластический язык художника этого времени являлся сборным, синтетическим, состоящим из разнородных элементов, бывших тогда в ходу: высококачественного академического рисунка, импрессионистической палитры, реалистической композиции. Сама эта неопределенность свидетельствовала о поиске. Интересное рассуждение о «еврейском стиле» мы находим в Воспоминаниях Бенуа: «Левушка Бакст был первый еврей, с которым я близко сошелся, и некоторое время он считался единственным евреем в нашем кружке, так как А.П. Нурок, примкнувший к нам в конце 1892 года, решительно отрицал свое иудейское происхождение, всячески стараясь выдать себя за англичанина, благо его отец был автором известного учебника английского языка»[196]196
Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 610.
[Закрыть]. Заметим вскользь, что в 1899 году Бакст исполнил виртуозный портрет Нурока, послуживший прототипом для литографии; в нем он специально, как нам кажется, заострил еврейские черты лица своего друга, доведя их до некоторой даже карикатурности, что в целом ему отнюдь не было свойственно. В портрете Левитана, например, созданном в том же 1899 году, Бакст развил великолепный образ восточной – не столько семитской, сколько индоевропейской, какой-то цыганской – наружности. Не было ли такое заострение черт Нурока своего рода напоминанием модели о его «неизбежных» корнях? Но послушаем дальше Бенуа:
«Нурок, впрочем, был крещеный еврей, тогда как Розенберг-Бакст остался (до самой своей женитьбы на православной) верен религии отцов, отзываясь о ней с глубоким пиететом и даже с оттенком какого-то „патриотизма“. Послушать его (Бакста), так самые видные деятели науки и искусства, политики в прошлом были все евреями. Он не только (вполне по праву) гордился Спинозой, Дизраэли, Гейне, Мендельсоном, Мейербером, но заверял, что все художники, философы, государственные деятели были евреями, раз они носили библейские имена Якова, Исаака, Соломона, Самуила, Иосифа и т. д. (однако почему-то он не включал в эту категорию и всех Иванов, которые, однако, тоже носили библейское имя Иоанна)».
Бенуа ставил слово «патриотизм» в кавычки. Видимо, для него Бакст-еврей не мог быть назван просто патриотом, поскольку не имел своего отечества (патрис). «Какой-то» патриотизм Бакста для Бенуа являлся патриотизмом особого рода: неестественным, основанным не на данности, а на конструировании «отечества» при помощи культурно-исторического собирания. Бакст строил свой Израиль из памяти о деятелях науки, искусства и политики еврейского происхождения. Таковыми могли быть как иудеи, так и крещеные евреи, даже не в первом поколении. Все перечисленные Бенуа столпы Левушкиного «патриотизма» – философ Спиноза, политический деятель Дизраэли, поэт Гейне, композитор Феликс Мендельсон (наверняка он, а не его дедушка, создатель идеи Хаскалы – еврейского просвещения, Моисей Мендельсон) и композитор Мейербер – были евреями крещеными. Очевидно, что «еврейство» для Бакста, как, впрочем, и для Бенуа – писавшего об «иудейском происхождении» Нурока, – было понятием не точным, а расплывчатым. И чем оно было расплывчатее, тем легче Левушке было собирать свое воображаемое отечество, свою Атлантиду, ибо такое понятие позволяло приобщить к ее пантеону лиц «как бы» и «почти» еврейской национальности. При этом большое значение, видимо, имело для Бакста имя. Невероятно наивной казалась Бенуа эта попытка прочтения библейских имен как еврейских.
Важнейшую роль играли в подобном процессе «национального строительства» представители искусства. Вот как вспоминал об этом Бенуа: «На этом основании (библейского имени. – О.М.) Левушка в евреев произвел и всех трех Рейздалей, и Исаака ван Остаде и т. д., да и в принадлежности к еврейству Рембрандта он не сомневался на том основании, что великий мастер жил в еврейском квартале Амстердама, и что среди позировавших ему людей было много иудеев. Одного из таких „раввинов“ Рембрандта Левушка в те времена как раз копировал в Эрмитаже и не уставал любоваться не только красотой живописи, но и величественностью осанки этого старца»[197]197
Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч., т. 2. С. 655.
[Закрыть]. Идет ли речь о «Портрете старика в красном» или также о «Портрете старухи» (копия с этой картины висела в парижской квартире Бакста[198]198
Она отчетливо видна на фотографии Бакста, сделанной в его квартире на бульваре Мальзерб в 1920 г. Петром Шумовым (Национальная библиотека Франции).
[Закрыть]), но это свидетельство для нас одно из важнейших. Так же как свои имя-отчество-фамилию[199]199
Речь идет о смене, точнее, переводе данного ему при рождении имени Лейб на греко-латинское имя Лев, а отчества Израилевич на Самуиловича, затем Семеновича, а потом снова на Самуиловича.
[Закрыть], Левушка создавал историю еврейского искусства или, точнее будет сказать, еврейскую историю искусства, по тому же собирательному принципу. Приобщение к этой истории голландской живописи XVII века расширяло ее символическую территорию. Еврейским стилем мог стать и стиль живописи Рембрандта, бывший одновременно одним из высочайших проявлений европейского искусства. Бакст был не единственным художником еврейского происхождения, обратившимся к Рембрандту и голландской школе[200]200
Mirjam Alexander-Knotter, Jasper Hillegers, Edward van Voolen, The Jewish Rembrandt: the myth unravelled, with an afterword by Gary Schwartz, 2008; см. также: Григорий Казовский, Художники Витебска: Иегуда Пэн и его ученики, Москва, 1992; Hillel Kazovsky, «Jewish Artists in Russia at the Turn of the Century: Issues of National Self-Identification in Art», Jewish Art, 21/22 (1995/1996). P. 20–39.
[Закрыть]. Таким живописцем был, например, Мауриций Готтлиб (1856–1879).[201]201
В целом о проблемах еврейского искусства в XIX в. см.: Susan Tumarkin Goodman (ed.), The Emergence of Jewish Artists in Nineteenth-Century Europe, N.Y., Marrell Publishers, 2003; Richerd I. Cohen, Jewish Icons. Art and Society in Modern Europe, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1998. О Готтлибе см.: Ezra Mendelsohn, Painting a people: Maurycy Gottlieb and Jewish art, Brandeis University Press, Waltham, Mass.; published by University Press of New England, Hanover, 2002; Larry Silver, «Maurycy Gottlieb as Early Jewish Artist», in Catherine M. Soussloff (dir.), Jewish identity and art history, University of California Press, Berkeley, 1999, p. 87–107.
[Закрыть] В серии своих автопортретов, особенно в одном из них, в котором он предстает в роли Агасфера, а также в некоторых библейских композициях Готтлиб откровенно стилизовал свое искусство под Рембрандта. Близкие черты можно отметить и в творчестве Самуэля Хирзенберга (1865–1908). Не познакомься Бакст с Бенуа и членами его кружка, он мог бы стать другим Готтлибом или другим Хирзенбергом.
Глава 3
Успех как неудачное начало
Целое десятилетие между отчислением из Академии художеств (февраль 1887) и созданием Мира искусства (1898) описано как Александром Бенуа, так и Бакстом, со слов которого писал Левинсон, чрезвычайно запутанно. Сравнивая здесь версии Бенуа и Бакста/Левинсона, мы будем стремиться не столько к выстраиванию подлинной хронологии (она в основных чертах – хотя и с неточностями – восстановлена), сколько снова к пониманию самого процесса создания Бакстом своего жизнеописания как текста, места в нем его происхождения и связанных с ним проблем призвания, признания и успеха. Ибо наша биография Бакста является одновременно размышлением о жанре биографии, то есть о том, как именно «жизнь пишется» – прежде всего самой этой жизнью, современниками, а затем уже потомками, наследниками.
Версия Бенуа
По воспоминаниям Бенуа, знакомство его с «художником-еврейчиком» Левушкой Розенбергом произошло в мастерской его брата, знаменитого акварелиста Альберта Николаевича Бенуа (1852–1936), в марте 1890 года. Бакст находился там в качестве друга невесты Альберта, Марии Шпак (1870–1891). Бенуа рассказывал, что Лев в то время учился еще в Академии художеств, тратил на занятия там много времени и средств и что одновременно он был «принят как сын»[202]202
Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 609.
[Закрыть] в семействе Канаевых, воспитавших и сироту Марию Шпак. Мы знаем уже, однако, что Бакст покинул Академию в феврале 1887 года.
Материальное состояние Бакста было тогда, по свидетельству Бенуа, плачевным: «Оставшись без средств после внезапной кончины отца[203]203
Знакомство с Александром Бенуа (март 1990 г.) совпало со смертью отца.
[Закрыть] – человека зажиточного (биржевого деятеля[204]204
Вот откуда появился, по всей видимости, образ отца – «биржевого деятеля» в книге Ирины Пружан, который так не понравился внучатым племянницам.
[Закрыть]), успевшего дать детям приличное начальное воспитание, Левушка должен был сам изыскивать средства, чтоб не только зарабатывать себе на жизнь, но и содержать мать, бабушку, двух сестер и еще совсем юного брата»[205]205
Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 609.
[Закрыть]. Как мы видим, ни слова перед новым знакомцем о богатом деде-парижанине; «зажиточным» был только что скончавшийся отец, ничего после себя детям не оставивший.
Познакомившись с Левушкой Розенбергом у брата, Бенуа ввел его в кружок своих друзей, причем не как художника, а скорее как интересного собеседника, прошедшего экзамен на «ум, остроумие и образованность».
«Вообще же и я, и друзья первое время скорее ценили в Левушке приятного, очень начитанного собеседника, нежели художника, а о том, чтоб он мог сделаться когда-нибудь знаменитым, нам никак не могло бы прийти в голову»[206]206
Там же. С. 615.
[Закрыть]. Художественный вкус Бакста предстояло еще развивать, поскольку он тогда увлекался «разными модными художниками», главным образом поздними романтиками и академистами. Не имея средств к существованию, зарабатывал он при этом на жизнь иллюстрациями, заказы на которые поставлял ему уже упомянутый Александр Николаевич Канаев (1844–1907), писатель и педагог, владелец мастерской учебных пособий и игр, с которым Бенуа также быстро подружился, ибо вокруг дома Канаевых сложилась чрезвычайно культурная среда. У Александра Николаевича и Александры Алексеевны Канаевых (последнюю Бакст особенно ценил) молодые люди могли, в частности, пользоваться хорошей библиотекой, в которой их главным образом интересовали книги по современному французскому искусству. Книги принадлежали не самим Канаевым, а снимавшей у них две комнаты Марии Николаевне Тимофеевой, вдове главного приказчика в знаменитом французском книжном магазине Фердинанда Беллизара (позднее Меллье)[207]207
Фердинанд Михайлович Беллизар (Bellizard) умер в Петербурге 28 августа 1863 г.; был издателем Revue Etrangère и Journal de St. Pétersbourg.
[Закрыть], расположенном в доме Голландской церкви на Невском; при магазине была, кстати, и художественная галерея. В доме Канаевых молодые люди познакомились и с певцом и оперным режиссером Геннадием Петровичем Кондратьевым (1834–1905), который предоставил им доступ за кулисы Мариинского театра: факт, во многом определивший их дальнейшее театральное призвание.
Позднее Левушка начал блистать в области акварельной техники, которой он выучился у Альберта, стал постоянным участником акварельных пятниц последнего, устраиваемых сначала у него дома, затем в помещении журнала Зодчий и, наконец, в самой Академии художеств. Пятницы эти вскоре стали модными в петербургских светских кругах и сыграли решительную роль в карьере Бакста: именно благодаря им он стал приобретать известность. На одной из таких пятниц Бакст познакомился с Дмитрием Александровичем Бенкендорфом (1845–1910), известным под именем Мита. Это была, писал Бенуа, «персона очень заметная, как в петербургском монде, так и в парижском и лондонском»[208]208
Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 619.
[Закрыть]. Будучи личностью с довольно темной репутацией, якобы даже причастным к смерти жены, Мита был тем не менее всюду – не считая лишь двора Александра III, его недолюбливавшего, – «принят и обласкан», в особенности при дворе малом, у президента Академии художеств великого князя Владимира Александровича (1847–1909), третьего сына Александра III, и его жены Марии Павловны, которые «души в нем не чаяли». Эстет-коллекционер, беззастенчивый сплетник, сомнительного вкуса острослов, шармёр, напоминавший «тихо мурлыкающего кота», любитель пола, «не считающегося прекрасным» (впрочем, петербургское общество уже начало тогда с этим «пороком» смиряться), он был воплощением цинизма, но при этом, писал Бенуа, каждая встреча с ним была «лакомством». Мита считал себя художником и даже прославился в обществе акварельными копиями со знаменитых картин, изготавливаемыми им с фотографий, а также портретами смазливых матросов. И те и другие ему удавалось, благодаря связям, неплохо продавать. Техника у Миты была, между тем, весьма слабая, так что ему нужны были помощники. Убедившись в блестящем даровании Бакста, он пригласил последнего давать ему уроки, под предлогом которых попросту засаживал его «поправлять» свои работы. Мита Бенкендорф описан у Бенуа как демон, соблазнивший юного Левушку призрачным светским успехом: «Бакст хоть тогда и голодал буквально, не сразу согласился (предложение барона показалось ему несколько предосудительным), но побывав у Миты в его изящной и уютной квартире, покушав у него за завтраком вкусных вещей, приготовленных французским поваром, и выпив разных вин высоких марок, главное же, подпав под очарование беседы с остроумным хозяином и его ласкательных, кошачьих манер, Левушка сдался»[209]209
Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 621.
[Закрыть]. Далее все произошло как в сказке. Продав Мите душу, юный Левушка превратился в светского Льва: обзавелся деньгами, переехал на новую квартиру, изменил, пользуясь советами Миты, туалет и манеры и, главное, завел многочисленные знакомства. Именно Бенкендорф определил Бакста на место преподавателя рисования при детях великого князя Владимира Александровича с летней казенной квартирой в Царском Селе.
В своем написанном к концу жизни романе Жестокая первая любовь Бакст вывел Миту под именем Эренфельда, персонажем, очень близким к тому, что фигурировал в воспоминаниях Бенуа. Круглый, душистый, напомаженный болтун-сплетник, рассказывающий «с напускной забавной наивностью меткие и смешные истории», он эксплуатировал талант своего «учителя», одновременно просвещая его в отношении театра и Двора[210]210
МДО, 1. С. 212–213.
[Закрыть].
Следующим этапом в этом «триумфальном восхождении» стал роман Левушки с французской актрисой Марсель Жоссе, выведенной в том же романе под именем Люсьен Маркаде. Родившаяся в 1855 году (и бывшая, стало быть, на 11 лет старше Бакста), она в течение года – с сентября 1892-го до августа 1893-го – служила во французской трупе Михайловского театра. В этот период она с Левушкой и встретилась. Что мы знаем об этой женщине?[211]211
Документальными свидетельствами о Марсель Жоссе (Marcelle Josset) почему-то до сих пор никто не заинтересовался.
[Закрыть] В начале своей театральной парижской карьеры Марсель играла в Буфф де Пари (1887), а с 1890 года в театре, основанном знаменитой актрисой Вирджинией Дежазе (1798–1875), покровительницей драматурга Викторьена Сарду, известной «королевой водевиля» и самой остроумной гризеткой Парижа, словечки и анекдоты которой могли бы составить целый сборник. Непосредственно перед своим приездом в Петербург Марсель, воплощавшая тот же тип парижской актрисы эпохи расцвета бульварного театра, играла в Театре у Сен-Мартенских ворот, то есть там, где тогда же играла и Сара Бернар (1844–1923). Именно там в 1897 году впервые был поставлен Сирано де Бержерак Эдмона Ростана. Газета Галуа за 2 августа 1892 года писала, что мадмуазель Жоссе играла «очень просто и очень трогательно» и что вообще она является крайне талантливой актрисой труппы вышеозначенного театра, где особенно отличается в роли Марьяны Вотье в драме Адольфа Филиппа Дэннери и Эжена Кормона Две сироты[212]212
Le Gaulois, 2 août 1892. Р. 3.
[Закрыть]. Действие этой популярной бульварной мелодрамы – изображавшей трагическую судьбу двух сестер-провинциалок в Париже – происходило незадолго до Французской революции. В конце пьесы ее героиня Марьяна, жертвуя собой, подменяла одну из сирот, незаслуженно обвиненную и приговоренную к ссылке в Луизиану. В прессе Марсель Жоссе в этой роли хвалили за наличие как драматического, так и комического таланта. Но в особенности стала она известной благодаря способности с редким остроумием интерпретировать рискованные, гривуазные ситуации[213]213
Le Cris de Paris, 12 avril 1914. До конца 1910-х годов Марсель играла разнообразный репертуар в многочисленных парижских труппах, в Одеоне, Комеди Франсез, гастролировала в Японии, Турции, ездила со спектаклями по провинции. Создала она позднее и свою собственную труппу, администратором которой был знаменитый Теодор де Глазер. Труппа, видимо, была создана в 1897 г. См. о гастролях этой труппы в Константинополе: Le Monde artistes, 23 janvier 1898.
[Закрыть].
В художественно-юмористическом журнале Стрекоза за 10 января 1893 года мы находим ее погрудный портрет: гордо посаженная кудрявая головка, живое, средиземноморского типа вытянутое лицо с крупными чертами и большими глазами: мы знаем, что Марсель была по происхождению испанкой. В ней нет и тени кокетства, но зато чувствуется весьма задорный темперамент. В полный рост, с веером в руке позирует она на фотографии из Петербургского музея театрального и музыкального искусства[214]214
МДО, 1, без пагинации.
[Закрыть] (илл. 4) и на многочисленных надписанных поклонникам фотографиях, которые до сих пор попадаются у букинистов[215]215
Совершенно на нее не похож, как нам кажется, приписываемый Баксту портрет неизвестной дамы, хранящийся в Государственном художественном музее Югры (г. Ханты-Мансийск), предположительно идентифицируемый как портрет Марсель Жоссе; но зато очень похожа акварель «Кармен» 1892 г. (ГТГ).
[Закрыть]. В Стрекозе Марсель названа «симпатичным дарованием». А вот как писал о ней Бакст: некрасивая, mais pire que belle[216]216
более чем красивая (франц.).
[Закрыть], квинтэссенция Парижа, вся нерв, вся ум и смех[217]217
МДО, 1. С. 175.
[Закрыть], остроумная бесстыдница[218]218
Там же. С. 182.
[Закрыть]. В момент встречи с Бакстом она была официальной любовницей князя Александра Ивановича Урусова (1843–1900) и воплощала в Петербурге бель-эпок раскованную, эмансипированную парижанку-содержанку.
Версия Левинсона
В книге Левинсона, представляющей версию Бакста, хронология еще более запутанна. Этому периоду в жизни своего героя Левинсон посвятил главу, названную им «Неудачное начало». Глава открывается обретением Левушкой «свободы» от Академии художеств, а заканчивается знакомством в Александром Бенуа. Между этими двумя событиями располагаются история дружбы с художником-карикатуристом, учеником Репина Шпаком; знакомство с Альбертом Бенуа; работа в качестве учителя рисования при дворе великого князя Владимира Александровича; жизнь в Париже и тамошняя дружба, превратившаяся в некоторый род ученичества, с финским художником Адольфом Альбертом Эдельфельтом; официальный заказ на картину «Въезд адмирала Авелана в Париж»; и, наконец, возвращение в Петербург. Ни слова о Канаеве, ни слова о Бенкендорфе. Ни слова о французской актрисе. При этом отношения со Шпаком и с Эдельфельтом идеализированы, описаны как «серьезные»: это преданные своему делу подвижники, страстно и незаинтересованно служащие искусству. Шпаку, о котором Бенуа не упоминал вовсе, посвящена, например, целая страница: «Отягощенный свободой, он [Лев] нашел себе то, чего ему более всего недоставало: друга. ‹…› Он руководил Бакстом в его поиске мотива, подбадривал его в непосредственном наблюдении за природными явлениями, научил его уважению к „профессии“»[219]219
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. Р. 40.
[Закрыть]. Эдельфельт (1854–1905) описан как выдающийся человек, «которому было дано подготовить в своей стране взлет национального искусства, просветив его французским влиянием»[220]220
Там же. Р. 42.
[Закрыть].
О Викторе Сильвестровиче Шпаке, родившемся в 1847 году, имеется статья в Биографическом словаре Половцова. По ней мы узнаем, что этот во всех отношениях достойный уважения, но весьма скромный рисовальщик скончался 12 сентября 1884 года[221]221
Русский биографический словарь А.А. Половцова, т. 23, 1911. С. 374.
[Закрыть], то есть тогда, когда 18-летний Левушка едва только начал посещать вольнослушателем Академию. Дружить с ним по выходе из Академии Левушка, стало быть, никак не мог. Он с ним встречался, возможно, в семье Канаевых: уже упоминавшаяся художница Мария Шпак, невеста Альберта Бенуа, была его дочерью, воспитывавшейся в семье Канаевых после его преждевременной смерти. Виктор Шпак иллюстрировал книги, изданные Канаевым, переводы и адаптации западноевропейской детской литературы[222]222
См., например, адаптированный им рассказ, повествующий о шотландском натуралисте Томасе Эдварде (1814–1886): Сэмюэль Смайлс (1812–1904), Замечательный работник: жизнь башмачника-натуралиста, с портретом Г. Эдварда, оригинальные рисунки рисовал В.С. Шпак. склад издания в С.-Петербургской мастерской учебных пособий и игр, Троицкий переулок, 1885.
[Закрыть], учебники и всевозможные развивающие пособия[223]223
См., например: Дитя-художник, склад издания в С.-Петербургской мастерской учебных пособий и игр, 1892.
[Закрыть] и пьесы. Канаев же издал альбом репродукций с рисунков Шпака, а также – в коллекции «На память молодым художникам» – его биографию с фотографическим портретом, на котором мы видим скромно, даже бедно одетого и строго держащегося бородатого человека, явного разночинца, служение которого искусству не принесло ему «развращающей» славы[224]224
А.Н. Канаев, Очерк жизни Виктора Сильвестровича Шпака, СПб., «Владимирская» тип. Л. Мордуховской, 1891.
[Закрыть]. Позднее, в 1889 году, Канаев издал свою адаптацию Короля Лира, иллюстрированную Львом Розенбергом[225]225
Король Лир, или Неблагодарность детей, рассказал по Шекспиру А.Н. Канаев, с 10-тью рисунками Льва Розенберга, СПб., тип. дома призрения малолетних бедных, 1889. На иллюстрациях фигурирует подпись «Лев Розенберг».
[Закрыть]. На картинке под названием «Лир и шут» легендарный британский король изображен в одеянии и с чертами внешности хасидского раввина.
Кроме всего прочего, Шпак был еще и журналистом, карикатуристом, работавшим в Ниве, Стрекозе, Развлечении, Сыне Отечества. Не брезговал он для заработка даже торговыми этикетками. Техника его как рисовальщика была далекой от виртуозности, а жизнь отнюдь не блестящей, но честной. Именно такого рода художника вывел Бакст в своем романе Жестокая первая любовь под именем Кандин (имя, напоминающее французское слово candide, «простодушный», вынесенное Вольтером в название своего знаменитого романа). Кандин – карикатурист и иллюстратор, как Шпак и как сам Бакст, много работавший тогда для журналов Петербургская жизнь и Художник. Кандин много пьет, грязно одевается, водится с проститутками и живет, тяжело больной одновременно и сифилисом, и чахоткой (!), в атмосфере «госпитальной достоевщины»[226]226
МДО, 1. С. 186.
[Закрыть]. Его страшная смерть в романе толкает героя в гущу юной, успешной жизни.
Но вернемся к Канаеву, дружившему со многими деятелями русской культуры. Именно у Канаевых в 1886 году Левушка встретился однажды с Чеховым – своим литературным кумиром. Позднее, в 1910-м, он опубликовал в Одесских новостях[227]227
В номере за 17 января; цит. по: Ирина Пружан, Лев Самойлович Бакст, Москва, Искусство, 1975. С. 10–11.
[Закрыть] свое воспоминание об этой встрече, и рассказал о том, как он, заикаясь и краснея, разыграл наизусть перед любимым писателем один из его недавно опубликованных Пестрых рассказов, очаровавших Левушку «свежестью мотивов и брызгами оригинального юмора, перемешанного с трогательными страницами чеховской поэзии». Это определение стиля Чехова могло бы послужить и для определения стиля самого Бакста, его писем и прозы, образных, остроумных, заразительных.
Несмотря на присутствие у Канаевых Чехова или уже упомянутого Кондратьева, этого потомственного дворянина, «артиста», учившегося пению в Италии (художественность натуры которого, впрочем, по воспоминаниям Шуры Бенуа, сказывалась главным образом в болтливости и эротомании), в целом атмосфера запоздалых чаепитий в этом доме охарактеризована Бенуа как «интеллигентская». Именно так была, как мы помним, описана у Левинсона и атмосфера в нехудожественном доме родителей Бакста. Обстановка, хотя и без неряшливости, сводилась к необходимому. Сам хозяин дома был Шуре малосимпатичен и морально – своими непрерывными нравоучениями, – и физически: «неприятно было глядеть на его зоб и на его жидкую, нечесаную бороденку»[228]228
Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч. С. 611.
[Закрыть]. Канаев ходил с одышкой, говорил нудно, с раздражением, неинтересно и плаксиво: «Будучи профессиональным педагогом, он усвоил себе привычку во все вкладывать нечто поучительное и назидательное, и это нас раздражало»[229]229
Там же. С. 613.
[Закрыть]. Комментируя позднее это свое воспоминание, Бенуа приписал, что ненавидел он и магазин-мастерскую учебных пособий и игр с его духом скуки, не игры, но наигранного наставления, вошедшим в моду под влиянием «фребелевских увлечений», то есть под влиянием трудов немецкого педагога-протестанта Фридриха Фребеля (1782–1852), создателя дошкольного «развивающего» воспитания. Близкой по духу к Канаевской была, несомненно, семья педагогов Симоновичей, воспитавшей, как мы помним, Серова, о котором Бакст иначе как о своем моральном эталоне никогда не отзывался[230]230
Письмо Бакста к Гриценко от 6 января 1903 г., МДО, 2. С. 39.
[Закрыть].
Однако даже если отбросить фактическую сторону дела, роль Канаевых, Шпака и Эдельфельта в выстраивании жизнеописания Бакста, кажется, совершенно ясна: это интеллигенция, разночинцы, представители «серьезного» отношения к жизни и искусству, не склонные соблазняться легким, фальшивым успехом, предпочитающие скромное существование продажной салонной славе. Это люди, воплощающие служение, подвижники: «Эдельфельт, – писал Левинсон, – не был ни создателем новых ценностей, ни предтечей; он остался верен осторожной манере Бастьен-Лепажа, но это был художник выносливый и умелый… Привычка работы на пленэре, изучение того, как свет организует объемы, которое Бакст предпринял со своим новым другом, невероятно помогли ему в реализации той огромной задачи, которая встала вскоре перед его юной энергичной натурой»[231]231
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. Р. 42.
[Закрыть].
Сам Бакст в своих письмах Шуре Бенуа, отправленных из Парижа 1890-х годов, так описывал своего друга: «Большая умница Эдельфельд, человек, который массу читал, всем интересуется и хорошо судит об искусстве. ‹…› Мне нравится простота Эдельфельда, его скромное сомнение в своих силах и внимательная вдумчивость в непустые замечания и мысли собеседника»[232]232
Письмо А. Бенуа из Парижа от 20 июля 189(3)5 года, МДО, 2. С. 12. Бакст пишет фамилию художника «Эдельфельд».
[Закрыть]. В книге Декоративное искусство Льва Бакста, опубликованной в Париже в 1913 году, Арсен Александр писал – опять же, несомненно, со слов Бакста, – что последний был «учеником» Эдельфельта.
По контрасту дружба с Альбертом Бенуа, должность придворного учителя рисования и официальный заказ, исполненный позднее в Париже, – все это описано Левинсоном как первый крупный успех Левушки, но успех дурной, неправильный, поверхностный. Этот светский успех был началом «неудачным». Именно в качестве поверхностно-светского художника с легким успехом у аристократов и дам описан Левинсоном Альберт Бенуа: «…красавец, галантный и разговорчивый, он владел кистью с великолепной легкостью; у него была естественная техника, как у неаполитанского лаццарони естественное бельканто. Но если, при известном вкусе и действительном умении, продукция его оставалась весьма незначительной, успех его перед публикой был абсолютным. Этот успех „маэстро“, избалованного аристократическим и женским окружением, который вознес его единогласно на место президента молодого общества акварелистов, ослепил юного Бакста, заглушил в нем на некоторое время едкую гордость искателя, стимулировал другие желания. Диковатый юноша, дразнивший Академию, пламенно захотел успеха. И он добился его, немедленного, блестящего, губительного. Вскоре он забросил пейзаж и увлекся светским портретом. Двор заинтересовался молодым человеком, великий князь Владимир приблизил его к себе и назначил его учителем своих детей. Вкусив яблока, он написал Еву. И поскольку он отдался всем этим женственным безделицам с неутолимой страстью, с которой он делает все, за что берется, то он и пошел ко дну»[233]233
André Levinson, L’Histoire de Léon Bakst, op. cit. Р. 41–42.
[Закрыть]. Не было рядом Шпака, не было старого друга Серова, переехавшего жить в Москву, чтобы отвратить Левушку от этого безумия. Строгое, тяжелое обвинение выдвигал себе Бакст в разговорах с Левинсоном: «Когда я расспрашивал его об этом периоде жизни, от которого осталось мало свидетельств, маэстро отвечал мне многословно и даже с настойчивостью. Ему нравилось исповедоваться; у меня создавалось впечатление, что он смаковал свое унижение. Не мнилась ли ему в этом своем скатывании в пропасть какая-то любовь к приключениям, какая-то щедрость в растрачивании себя, в посвящении себя без остатка Богу ли, дьяволу ли, качества, которые, право, ему свойственны до сих пор. Или же вспоминал он о тех хорошеньких женских ручках, тонких, но цепких, которые ему обрезали когти и завили гриву?»[234]234
Там же. Р. 42.
[Закрыть]
Что-то очень важное хотел Бакст рассказать Левинсону, дать ему понять. На чем же он настаивал? Какую правду о себе хотел передать потомкам? Главное, мне кажется, заключалось в том, что, если Левинсон в своей «истории» Бакста намеревался написать, как мы помним, историю его успеха, это должна была быть история успеха подлинного, заслуженного, а не поверхностного. Бакст был человеком, родившимся в 1866 году и воспитанным как интеллигент-разночинец. Искусство для него навсегда осталось «служением». Он восставал против образа выскочки, продавшего душу успешного художника, занятого безделицами, декоративным, прикладным, «женским» рукоделием – театральной декорацией, модой, орнаментом для тканей. Эту защиту себя от обвинения в успешности и несерьезности своего искусства, в аристократичности манер, дендизме образа жизни и светскости поведения, он вел всю жизнь. И снять это обвинение ему никогда до конца не удалось: и по сей день книги о нем пестрят восторженными сведениями о его «успехах» и светских связях, минуя серьезное, интеллектуальное содержание, вкладывавшееся им в, казалось бы, самые легкомысленно-игровые формы.
Сохранившиеся письма Бакста друзьям из Парижа говорят о том, до какой степени был он озабочен в тот переломный для него период тем, чтобы сохранить серьезность своего искусства. Это отношение к искусству явно было связано для него с нравственным идеалом: «Начать с того, что я делаю? Пожалуй: работаю свою картину „встречу“, пишу для нее массу этюдов и рисунков. Каждую фигуру – особый этюд и рисунок, руки и головы отдельно. Адская работа, но страшно увлекательная и подымающая дух: чувствуешь себя добродетельным… ‹…› Становишься, право, порядочным, когда много и честно работаешь, никто так часто не лжет и не мошенничает перед природой, как художник; пора отрезвиться…»[235]235
Письмо А. Бенуа из Парижа от 20 июля 189(3)5 г., МДО, 2. С. 12–13.
[Закрыть]. В этих словах нельзя не прочитать символа веры Бакста. Несмотря на его неприятие интеллигентски-разночинской среды и ее подхода к искусству, несмотря на дальнейшее постоянное сотрудничество с символистски-декадентским крылом в искусстве начала прошлого века, провозгласившим разрыв между эстетикой и нравственностью, такое требовательное, одновременно моральное и содержательное, отношение к искусству как служению чему-то высшему, чем само искусство, никогда у Бакста не исчезало, а только принимало в каждый период новое обличье под влиянием новых идей.
В те прожитые в Париже годы, особенно вначале, он чувствовал себя вырвавшимся из «паучьих» лап Бенкендорфа, освободившимся от того, что в письмах он называл «зихелевщиной», имея в виду салонно-слащавое псевдоориенталистское искусство Натанаэля Зихеля. Таким Зихелем он ни за что не хотел бы стать. Истинное искусство воплощалось для него в тех произведениях, которые он изучал в ту пору в Лувре, в «чудовищно-прекрасной и свободной ширине манеры Рембрандта, Веласкеса, Рубенса, Руссо, Милле, Менцеля»[236]236
Письмо А. Бенуа из Парижа от 18 августа 1893 г., МДО, 2. С. 14.
[Закрыть]. Такое искусство, писал Бакст, «имеет в себе много от Бога, и через искусство мы приближаемся к нему»[237]237
Письмо В. Нувелю из Парижа от 2 октября 1895 г., МДО, 2. С. 16.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































