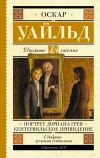Текст книги "Портрет Дориана Грея. Пьесы. Сказки"

Автор книги: Оскар Уайльд
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава X
Когда вошел Виктор, Дориан пытливо посмотрел на него, пытаясь определить, не заглядывал ли тот за экран. Камердинер стоял с самым невозмутимым видом и ожидал приказаний. Дориан закурил сигарету и подошел к зеркалу. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора, и оно не выражало ничего, кроме безмятежной готовности выполнять приказания. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже.
Медленно и отчетливо произнося слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двух рабочих.
Ему показалось, что камердинер, выходя из комнаты, покосился на экран. Или ему это только почудилось?
Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лив в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан попросил у нее ключ от бывшей детской.
– От бывшей детской, мистер Дориан? – воскликнула она. – Но там полно пыли! Я сперва велю там прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда лучше не ходить! Поверьте мне, сэр!
– Мне не нужно, чтобы там убирали, миссис Лив. Мне только нужен ключ.
– Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Почитай, уже пять лет как комнату не открывали – со дня смерти его светлости.
При упоминании о старом лорде его передернуло: у него остались не самые лучшие воспоминания о покойном деде.
– Это неважно, – ответил он. – Я только загляну туда на минутку и сразу же выйду. Дайте мне ключ.
– Вот, возьмите, сэр, – сказала старая дама, перебирая дрожащими руками связку ключей. – Погодите, сейчас я сниму его с кольца. Но вы же не собираетесь сделать детскую своей комнатой, сэр? Мне кажется, вам и здесь, внизу, вполне уютно.
– Нет, не собираюсь, – нетерпеливо заверил ее Дориан. – Спасибо, миссис Лив, можете идти.
Но экономка не уходила, начав рассказывать ему о каких-то проблемах, связанных с домашним хозяйством. Вздохнув, Дориан сказал ей, что во всем полагается на ее здравый смысл, и она наконец удалилась, очень довольная собой.
Как только за ней закрылась дверь, Дориан сунул ключ в карман и окинул комнату беглым взглядом. Глаза его остановились на пурпурном покрывале из атласа, богато расшитом золотом, – великолепном образце венецианского искусства конца XVII века. Оно было привезено его дедом из монастыря близ Болоньи. Что ж, оно прекрасно подойдет в качестве чехла для этого ужасного портрета. Быть может, оно некогда служило саваном для мертвых и вот теперь укроет картину разложения, более страшного, чем разложение мертвого тела, ибо то, что будет скрыто под ним, имеет вид еще более жуткий, чем покойник, но, в отличие от него, никогда не умрет. Пороки Дориана Грея, подобно червям, уничтожающим мертвую плоть, будут пожирать его изображение на полотне. Они изгложут его красоту и уничтожат его очарование. Они выедят в нем все, кроме пороков. Но сам портрет все равно не умрет. Он будет жить вечно.
По телу Дориана пробежала нервная дрожь, и он почувствовал минутное сожаление, что не сказал Холлуорду правду. Бэзил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с его собственным влиянием на себя, быть может еще более опасным. Любовь, которую испытывает к нему Бэзил (а это, несомненно, самая настоящая любовь), – чувство благородное и возвышенное. Это не обычное восхищение физической красотой, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они гаснут. Нет, это такая любовь, какую воспевали Микеланджело, Монтень, Винкельман[69]69
Иоганн Иоахим Винкельман (1717-1768) – немецкий историк античного искусства.
[Закрыть] и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое можно изгладить раскаянием, забвением или отречением от него, грядущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят темные страсти, которые будут искать себе выход, и кошмарные видения, которые станут явью.
Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в руках, зашел за экран. Не стало ли лицо на портрете еще более отталкивающим? Нет, никаких новых изменений заметно не было. И все же Дориан не мог теперь смотреть на свое изображение без отвращения. Золотистые волосы, голубые глаза и алые губы – все это оставалось таким же, как и прежде. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью, оно свидетельствовало против Дориана, неся в себе осуждение столь очевидное, что все укоры Бэзила казались в сравнении несущественными и безобидными. С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу.
С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз в тот момент, когда в комнату вошел камердинер.
– Пришли рабочие, мсье.
Дориан решил, что Виктора надо как можно скорее спровадить с каким-нибудь поручением, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. Глаза у Виктора умные, в них светится хитрость, а может быть, и коварство.
Сев за стол, Дориан настрочил лорду Генри записку, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они должны встретиться вечером в четверть девятого.
– Отнесите это лорду Генри и подождите ответа, – сказал он Виктору, вручая записку. – А рабочих проводите сюда.
Через две-три минуты в дверь вновь постучали, и появился сам мистер Хаббард, знаменитый багетный мастер с Саут-Одли-стрит, а с ним его помощник, неотесанный на вид парень. Мистер Хаббард представлял собой невысокого, румяного индивида с рыжими бакенбардами. Его пылкое поклонение искусству в значительной степени умерялось хроническим безденежьем большинства из его клиентов, каковыми являлись художники. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, пока они сами не придут к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было нечто такое, что всех располагало к нему. Приятно было уже смотреть на него.
– Чем могу служить, мистер Грей? – осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. – Я счел за лучшее лично явиться к вам. Как раз сейчас у меня есть чудесная рама, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная, флорентийская – должно быть, из Фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей!
– Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я, конечно, зайду взглянуть на раму, хотя в настоящее время не слишком увлекаюсь религиозным искусством. Но сегодня мне требуется лишь перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей.
– Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство! Я буду только рад вам помочь. И где эта картина, сэр?
– Вот она, – ответил Дориан, отодвигая экран. – Не могли бы вы перенести ее в том виде, как она есть, – не снимая покрывала. Не хотелось бы, чтобы ее поцарапали.
– Все будет сделано, сэр, – услужливо ответил багетчик и с помощью подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он был подвешен. – Куда прикажете перенести, мистер Грей?
– Я покажу, мистер Хаббард. Прошу вас, следуйте за мной. Хотя, пожалуй, будет лучше, если я пропущу вас вперед. К сожалению, это на самом верху. Будем подниматься по главной лестнице, она шире.
Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице на верхний этаж. Из-за украшений на массивной раме портрет был чрезвычайно тяжелым, так что время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как и все люди его сословия, терпеть не мог, когда «благородные джентльмены» делают что-то полезное.
– Увесистая штука, сэр, – пробормотал, вытирая потную лысину, тщедушный багетчик, когда портрет был затащен на верхнюю площадку лестницы.
– Да, картина тяжелая, – согласился Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне будет хранить его удивительную тайну, скрывая душу его от глаз людских.
Он не заходил сюда больше четырех лет. Когда-то здесь была его детская, а потом, когда он вырос, – комната для занятий и кабинет. Эту большую, удобную комнату покойный лорд Келсо пристроил специально для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью, а также по другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. С тех пор, подумал Дориан, в комнате ничего не изменилось. На том же месте стоял громадный итальянский сундук – cassone – с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени позолоченными украшениями (в нем любил прятаться маленький Дориан); все там же был и книжный шкаф из атласного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором вылинявшие король и королева играли в шахматы в саду (мимо них вереницей проезжали на конях охотники, держа на своих рукавицах соколов в клобучках). Все здесь было ему до боли знакомо. Каждая минута его одинокого детства встала сейчас перед ним. К нему возвратилось ощущение непорочной чистоты детской жизни, и ему стало не по себе при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее!
Но в доме вряд ли найдется другое такое место, где портрет был бы столь же надежно укрыт от посторонних глаз. Ключ теперь будет всегда у него, и попасть сюда не сможет никто другой. И пусть себе лицо на портрете, затаившемся под пурпурным саваном, становится одутловатым, жестоким, порочным. Это уже не так важно. Ведь его никто не увидит. Да и сам он будет заходить сюда не слишком часто. К чему себя мучить, наблюдая за разложением собственной души? Он навсегда сохранит свою молодость – и это самое главное.
Впрочем, разве он не может стать лучше? Разве постыдное будущее так уж для него неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и сделает его чище, убережет от новых грехов, зреющих в его душе и теле, – тех неведомых, еще никем не описанных прегрешений, таинственная природа которых придает им коварное очарование. Возможно, настанет день, когда эти алые, чувственные губы утратят жестокое выражение, и он решится показать миру шедевр Бэзила Холлуорда?
Нет, это никогда не будет возможным. Ведь с каждым часом, с каждой неделей его двойник на полотне будет становиться старше. Даже в том случае, если на лице этого бесплотного существа не будут отражаться тайные преступления и пороки, беспощадных следов времени ему все равно не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввалятся. Вокруг потускневших глаз лягут желтые гусиные лапки и погубят их красоту. Волосы утратят блеск; рот, как у всех стариков, будет бессмысленно полуоткрытым; губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими жилами, сгорбленная спина – все будет точь-в-точь, как у его покойного деда, который был к нему так суров. Да, мир никогда не увидит этого портрета – сомнений у Дориана теперь не оставалось.
– Несите сюда, мистер Хаббард, – сказал Дориан безжизненным голосом. – Извините, что заставил вас ждать, – я немного отвлекся, задумавшись о своем.
– Ничего, мистер Грей, я был рад возможности передохнуть, – отозвался все еще не отдышавшийся багетчик. – Куда прикажете поставить, сэр?
– Куда угодно, это не имеет значения. Ну, хотя бы сюда. Подвешивать не будем. Просто прислоните к стене. Спасибо.
– А нельзя ли взглянуть на это творение искусства, сэр?
Дориан даже вздрогнул.
– Не думаю, что оно могло бы вам понравиться, мистер Хаббард, – сказал он, глядя в упор на багетчика. Он готов был броситься на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять этот роскошный саван, скрывающий жуткую тайну его жизни. – Хорошо, не буду больше вас утруждать. Благодарю за помощь.
– Не за что, мистер Грей, не за что! Всегда к вашим услугам, сэр!
Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться по лестнице, а за ним – его помощник, то и дело оглядывавшийся на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице: он в жизни не видел таких красивых и обаятельных джентльменов.
Как только затихли их шаги, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Никто и никогда не увидит этот страшный портрет. Ему лишь одному придется лицезреть свой позор.
Когда он вернулся в библиотеку, был уже шестой час, и его ждал чай. На столике из темного дерева, богато инкрустированного перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, – дамы, вечно занятой своими болезнями и всю прошлую зиму прожившей в Каире), лежала записка от лорда Генри, рядом с ней – книга в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе – последний, третий, выпуск «Сент-Джеймс газетт». Было очевидно, что его камердинер уже вернулся. Интересно, не встретил ли он уходивших рабочих и не выведал ли у них, зачем их сюда приглашали? Виктор, разумеется, обратит внимание, что из библиотеки исчез портрет. Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. А что, если он однажды ночью застанет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь детской?! Как это ужасно – иметь в доме шпиона! Дориану приходилось слышать о случаях, когда богатых людей всю жизнь шантажировали их слуги, которые прочли письмо или подслушали разговор, подобрали с пола визитную карточку с адресом, нашли у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева…
Он вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает ему вечерний выпуск «Сент-Джеймс газетт» и книгу, которая, он надеется, заинтересует Дориана, а в четверть девятого ожидает его в клубе.
Дориан взял газету и стал рассеянно ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Она гласила следующее:
«СЛЕДСТВЕННОЕ ДОЗНАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СМЕРТИ АКТРИСЫ. – Сегодня утром в Белл-Тэверн на Хокстон-Роуд участковым следователем, мистером Дэнби, было произведено дознание касательно обстоятельств смерти молодой актрисы Сибиллы Вейн, выступавшей последнее время в Холборнском Королевском театре. Согласно предварительному заключению, сделанному следствием в результате дознания, причиной смерти явился несчастный случай. Глубокое сочувствие у присутствующих вызвала мать покойной, которая, давая показания, пребывала в состоянии величайшего волнения. Она не смогла сдержать слез также и впоследствии, когда давал показания доктор Биррелл в связи с произведенным им вскрытием покойной».
Дориан нахмурился и, разорвав газету, прошел в другой конец комнаты и выбросил клочки в корзину. Как все это отвратительно! Как ужасны эти подробности! Он злился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. И какая глупость с его стороны, что он отметил ее карандашом: ведь Виктор мог увидеть ее и прочесть. Этот француз в достаточной степени владеет английским языком, чтобы понять, о чем идет речь.
А что, если камердинер и в самом деле прочел это сообщение и начал что-то подозревать?.. Впрочем, из-за чего беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибиллы Вейн? Дориану Грею нечего бояться – он ее не убивал.
Взгляд Дориана остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» – подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Восьмиугольный, отделанный под перламутр столик, казалось, был результатом работы каких-то диковинных египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. А через несколько минут уже не мог от нее оторваться.
Странная это была книга, никогда не читал он подобной. Ему казалось, что под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чредой. Многое, о чем он только грезил, на его глазах облекалось в плоть и кровь. Многое, чего ему даже во сне не снилось, обретало теперь реальность.
Это был роман без сюжета, а точнее – психологический этюд. Его единственный герой, молодой парижанин, всю жизнь занимался тем, что пытался воскресить в XIX веке страсти и умонастроения прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей неестественностью те формы самоотречения, которое люди по недомыслию именуют добродетелями, и в такой же мере – те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы до сих пор называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, ее язык был живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими жаргонными словечками и архаизмами, специальными терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, столь же причудливо чудовищные, как орхидеи, и столь же нежных оттенков цвета. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь – описание ли религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдно откровенные признания современного грешника? Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах фимиама поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, настраивали Дориана, проглатывавшего одну главу за другой, на болезненную мечтательность, и он не замечал, как день клонится к вечеру и в углах комнаты залегают тени.
За окном мерцало безоблачное малахитовое небо, на нем прорезалась одинокая ранняя звезда. Дориан продолжал читать при гаснущем свете дня, пока в состоянии был разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний камердинера о том, что ему пора уже собираться, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на стоявший у кровати столик флорентийской работы, стал переодеваться к обеду.
Когда он приехал в клуб, было уже почти девять. Лорд Генри сидел один, ожидая его со скучающим видом.
– Ради Бога, простите, Гарри! – воскликнул Дориан. – Хотя, в сущности, я опоздал по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня заворожила, что я совершенно забыл о ходе времени.
– Я знал, что она вам понравится, – отозвался лорд Генри, вставая.
– А разве я сказал, что она мне понравилась? Она заворожила меня, а это далеко не одно и то же.
– Ах вот как, вы уже поняли разницу? – проронил лорд Генри, и они отправились обедать.
Глава XI
Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги еще в течение многих лет. Впрочем, он вовсе и не стремился освобождаться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров книги (первое издание, увеличенный формат) и заказал для них переплеты разных цветов, – цвета эти должны были гармонировать с его переменчивыми настроениями и разнообразными прихотями его натуры, с которыми он уже почти не в состоянии был совладать.
Герой книги, тот удивительный молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану его прототипом, а вся книга – историей его жизни, хоть и написанной раньше, чем он родился.
Но в одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал (у него просто не было для этого причин) болезненного страха перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью – страха, который парижанин испытал еще совсем молодым, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство, – впрочем, в любого рода радости, как и во всяком другом удовольствии, почти всегда кроется нечто злое.
Да, Дориан злорадствовал, ибо его удивительная красота, так пленявшая Бэзила Холлуорда и многих других, не увядала и, как он теперь знал, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее (а слухи о его подозрительном образе жизни время от времени начинали ходить по Лондону и вызывали толки в клубах), не могли поверить очернявшим его сплетням: ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие о нем плохо, умолкали, когда он входил в комнату. Безмятежная ясность его лица опровергала любые о нем кривотолки. Одно уже его присутствие служило доказательством его непричастности к различного рода сомнительным приключениям. И эти люди только диву давались, как этот обаятельный юноша умудрился избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей.
Часто, вернувшись домой после одного из тех загадочных и длительных исчезновений, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, поднимался наверх, в свою бывшую детскую, и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, написанным с него Бэзилом Холлуордом, глядя то на отталкивающее и все более стареющее лицо на холсте, то на прекрасное юное лицо в зеркале. Чем разительнее становился контраст между оригиналом и копией, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большей завороженностью наблюдал за разложением своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавался вопросом: что страшнее и безобразнее – печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубевшим и распухшим рукам на портрете – и, сравнивая их, улыбался. Он глумился над этим обезображенным, немощным телом.
Правда, иногда по ночам, лежа без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной каморке пользующейся дурной славой таверны близ доков, куда он часто захаживал, переодевшись в простолюдина и под вымышленным именем, Дориан Грей с горьким сожалением сокрушался о том, что погубил свою душу, сожалением тем более мучительным, что оно было абсолютно эгоистичным. Но такие минуты бывали все реже и реже. Жажда жизни, впервые пробудившаяся в нем благодаря лорду Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их друга Холлуорда, становилась тем неутолимее, чем настойчивее Дориан старался утолить ее. Чем больше он узнавал жизнь, тем больше хотел узнать что-то новое. Чем больше он поглощал, тем более ненасытным становился.
Однако поведение Дориана не было таким уж безрассудным или легкомысленным – во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал все необходимые приличия. Зимой дважды в месяц, а в остальное время года каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и самые прославленные и модные музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его званые обеды, в подготовке которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшего собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей и старинной посуды из золота и серебра. Многие, особенно среди молодежи, видели в Дориане Грее воплощение того идеала, о котором они мечтали, когда учились в Итоне или Оксфорде, и в котором сочетались подлинная культурность ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, «гражданина мира». Он казался им одним из тех, кто, как говорил Данте, «стремится облагородить душу поклонением красоте». Одним из тех, для кого, по словам Готье, и «создан этот зримый мир».
Для Дориана первым и величайшим из искусств была Жизнь, а все другие искусства – только ее украшением. Конечно, он отдавал дань также Моде, которая на короткое время может сделать реальной любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и Щегольству, как своего рода стремлению доказать непреходящую современность Красоты. Его манера одеваться и течения моды, которым он время от времени отдавал предпочтение, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мейфэре и в клубах Пэлл-Мэлла[70]70
П э л л-М э л л – улица в центре Лондона, где сосредоточены аристократические клубы.
[Закрыть]. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в тех мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения.
Дориан с готовностью занял то положение в обществе, какое было ему предопределено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона»[71]71
Автором романа «Сатирикон», рисующего разложение римского общества эпохи Нерона, считается Гай Петроний (ум. 66 г.).
[Закрыть]. Но в глубине души он мечтал о роли более значительной, чем arbiter elegantiarum[72]72
Arbiter elegantiarum – законодатель мод (лат.).
[Закрыть], у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или как носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование и свои последовательные принципы; высший смысл жизни он видел в одухотворении чувств и ощущений.
Культ чувства осуждается достаточно часто и вполне справедливо, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их, тем более, что, как всем известно, эмоции и интенсивные переживания свойствены и низшим существам. Но Дориану Грею казалось, что истинная природа чувств еще до сих пор не осмыслена и они остаются дикими и необузданными лишь потому, что люди всегда старались или усмирить их, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть подсознательное стремление к Красоте.
Оглядываясь на ход Истории, Дориан поражался тому, сколь много человеком было упущено за века – и ради какой ничтожной цели! Это бессмысленное, безумное самоотречение, эти уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх и результатом которых было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемая «деградация личности», от которой люди в своем невежестве стремились спастись, – зачем все это было нужно?! Недаром же Природа как бы в насмешку гнала анахоретов в пустыню к диким животным и давала святым отшельникам в сотоварищи четвероногих обитателей лесов и полей.
Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, призванного перестроить жизнь, освободить ее от сурового и не свойственного природе человека пуританства, неизвестно почему возрождающегося в наши дни. Разумеется, гедонизм этот неизбежно будет прибегать к услугам интеллекта, но никогда не примет теорий или учений, настаивающих на отказе от многообразного опыта страстей. Гедонизм – это, собственно, и есть жизнь страстей, дающая такой опыт, а не плоды его, будь они горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места ни аскетизму, умерщвляющему чувства, ни вульгарному распутству, их притупляющему. Гедонизм должен научить людей наслаждаться каждым мгновением жизни, ибо и сама жизнь – лишь преходящее мгновение.
Мало кому из нас не случалось просыпаться перед самым рассветом после ночи без сновидений, столь сладкой и безмятежной, что сама смерть, которая, в сущности, является не чем иным, как вечным сном без сновидений, кажется нам желанной. А иной раз мы просыпаемся после ночи кошмаров, доставляющих нам какое-то непостижимое, жуткое наслаждение, когда в мозгу проносятся видения пострашнее самой действительности, живые и яркие, что свойственно всему гротескному; видения, исполненные той неукротимой энергии, которая делает столь жизнеспособным готическое искусство, словно предназначенное специально для тех, чьи души страдают от недуга, называемого мечтательностью. Пробудившись, мы лежим и смотрим, как белые пальцы рассвета мало-помалу пробираются в спальню, и нам кажется, что занавески легонько колышутся от их прикосновений. Причудливые черные тени бесшумно расползаются по углам комнаты, чтобы притаиться там до времени. А за окном среди листвы уже начинают щебетать птицы, на улице раздаются шаги идущих на работу людей, а порой и вздохи и завывания ветра, налетающего с холмов и едва слышно бродящего вокруг еще спящего дома, – он словно боится разбудить его обитателей, хотя и явился сюда изгонять сон из его темно-фиолетовых глубин. Одна за другой поднимаются полупрозрачные, как вуаль, завесы сумрака, окружающие нас предметы медленно обретают привычные формы и краски, и на наших глазах рассвет возвращает зримому миру прежний облик, искаженный ночною тьмой. Призрачные зеркала вновь начинают жить своей отраженной жизнью. Погашенные свечи стоят на тех же местах, где мы их оставили накануне, а рядом с ними – не до конца разрезанная книга, которую мы читали перед сном, или увядший цветок, который мы вдевали в петлицу, отправляясь на бал, или письмо, которое мы боимся прочесть либо перечитываем слишком часто. Нам кажется, что со вчерашнего дня ничто не изменилось. Из фантастических теней ночи вновь возвращается жизнь, которую мы знаем. Нам предстоит продолжать ее с того места, на котором мы ее накануне прервали, и мы с ужасом начинаем осознавать, что обречены непрерывно тратить попусту силы, вертясь все в том же привычном кругу опостылевших нам занятий. Зачастую в эти минуты в нас просыпается страстное желание, пробудившись однажды утром, увидеть новый мир, полностью преобразившийся за ночь, мир, в котором все вокруг нас приняло иные формы и расцветилось живыми, светлыми красками, мир изменившийся и полный иных тайн, где прошлому нет места, а если и есть, то очень скромное, и если это прошлое еще живо, то, во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о некогда испытанных наслаждениях порой причиняет боль.
Именно создание таких миров представлялось Дориану Грею главным смыслом жизни. В погоне за ощущениями, новыми, упоительными, имеющими в себе основной элемент романтики – необычность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, на время поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность и насытив свою любознательность, отрекался от них с тем поразительным равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но и, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием.
Одно время стали поговаривать, будто Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, католический ритуал всегда привлекал его. Обряд ежедневных жертвоприношений, более страшных в своей реальности, чем все жертвоприношения Древнего мира, волновал Дориана своим великолепным презрением к проявлению всех наших чувств, первобытной простотой его элементов, извечным пафосом человеческой трагедии, которую он стремится символизировать. Дориану нравилось преклонять колена на холодный мрамор церковных плит и наблюдать за тем, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно снимает своими белыми руками покров с дарохранительницы или возносит над головой сверкающую драгоценными камнями и напоминающую формой фонарь дароносицу с бледно-желтой, как воск, облаткой внутри, – и временами ему хотелось верить, что это и есть на самом деле «panis caelestis», «хлеб ангелов». Любил Дориан и тот момент, когда священник, облаченный в одеяния Страстей Господних, преломляет гостию[73]73
Гостия – облатка, хлеб, тело Христово (церк.).
[Закрыть] и опускает в потир, а затем бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадильницы, покачивавшиеся, словно огромные золотые цветы, в руках мальчиков с торжественносерьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с любопытством посматривал на черные исповедальни, и ему хотелось сесть в сумрачной тени одной из них и слушать, как мужчины и женщины, приблизив губы к ветхой решетке, рассказывают приглушенным шепотом правдивую историю своей жизни.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?