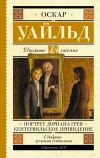Автор книги: Оскар Уайльд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Наблюдать за происходящим будет истинным наслаждением. Он сможет следовать за своей душой в самые тайные глубины. Портрет станет для него магическим зеркалом. Как однажды благодаря картине он открыл собственное тело, так откроет и душу. И когда для его двойника на портрете наступит зима, он все так же будет стоять на грани весны и лета. Когда кровь отольет от лица, оставив бледную маску с потухшим взглядом, он сохранит всю свежесть юности. Ни единый цветок его красоты не увянет, пульс жизни в нем не замедлится. Подобно греческим богам он останется сильным, проворным и жизнерадостным. Какая разница, что произойдет с раскрашенным изображением на холсте?
Улыбаясь, Дориан снова закрыл портрет ширмой и вошел в спальню, где его ждал камердинер. Час спустя он уже был в опере, и лорд Генри склонялся над его креслом.
Глава 9
На следующее утро за завтраком к нему пришел Бэзил Холлуорд.
– Дориан, как я рад, что нашел тебя! – мрачно проговорил художник. – Вчера вечером я заходил, и мне сказали, что ты в опере. Разумеется, я знал – такого не может быть! Жаль, ты не сообщил, куда идешь на самом деле. Я провел ужасную ночь, опасаясь, что за одной трагедией последует другая. Думаю, тебе следовало мне телеграфировать, как только ты узнал печальную новость. Я прочел совершенно случайно в вечернем выпуске «Глобуса», который нашел в клубе. Я сразу же отправился сюда и сильно расстроился, не застав тебя. Ты даже не представляешь, как меня огорчила эта история! Понимаю, как тебе тяжело сейчас. Где же ты был? Навещал мать девушки? Сперва я решил последовать за тобой туда. Адрес указан в газете. Юстен-роуд, верно? Но мне не хотелось быть лишним, ведь в таком горе ничем не утешишь. Бедная женщина! Вероятно, она в ужасном состоянии! Потерять единственное дитя! Что она говорит о случившемся?
– Дорогой мой Бэзил, откуда мне знать? – с досадой пробормотал Дориан Грей, потягивая бледно-желтое вино из изящного бокала венецианского стекла на тонкой ножке. – Я был в опере. Жаль, что ты не пришел. Я наконец познакомился с леди Гвендолен, сестрой Гарри. Мы сидели в ее ложе. Она совершенно очаровательна, и Патти пела просто божественно. Не стоит поднимать неприятные темы. Если о чем-то не упоминать, то и забыть легче. Как говорит Гарри, реальность вещам придают лишь слова. Кстати, Сибила не единственный ребенок в семье. У женщины есть и сын, чудный парень, я полагаю. Вроде бы моряк. Расскажи-ка мне лучше о себе и о том, что ты сейчас рисуешь.
– Ты был в опере?! – произнес Холлуорд с болью в голосе. – Ты пошел в оперу, когда бедная Сибила Вэйн лежала мертвая в жалкой съемной квартирке? Ты говоришь об очаровании других женщин и о том, что Патти пела божественно, а девушка, которую ты любил, даже не упокоилась в могиле! Да ведь ее бледное маленькое тело ждут еще те ужасы!
– Прекрати, Бэзил! Не желаю об этом слышать! – закричал Дориан, вскакивая с места. – Ты не должен говорить мне о подобных вещах! Что сделано, то сделано. Что прошло, то уже прошлое.
– Для тебя вчера – уже прошлое?..
– Какая разница, сколько времени миновало! Лишь людям заурядным требуются годы, чтобы избавиться от чувства. Человек, который сам себе хозяин, способен избавиться от печали с той же легкостью, с какой способен придумать себе забаву. Я не хочу быть рабом чувств; я хочу их использовать, наслаждаться ими, властвовать над ними.
– Дориан, это ужасно! Ты совершенно переменился. Выглядишь точно так же, как тот чудесный мальчик, который день за днем приходил ко мне в студию и позировал для своего портрета. Но тогда ты был простым, естественным и душевным. Ты был самым неиспорченным созданием на свете! Что на тебя нашло? Ты рассуждаешь так, будто у тебя нет сердца. Это все влияние Гарри! Теперь я понимаю.
Юноша покраснел, отошел к окну и уставился в зеленый, залитый солнцем сад.
– Бэзил, я очень обязан Гарри, – наконец проговорил он, – гораздо больше, чем тебе. Ты всего лишь научил меня тщеславию.
– Я уже за это наказан, Дориан, или буду наказан когда-нибудь.
– Не понимаю, о чем ты, Бэзил! – воскликнул он, оборачиваясь. – Не понимаю, чего ты добиваешься. Что тебе нужно?
– Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, – грустно ответил художник.
– Бэзил, – сказал юноша, кладя ему руку на плечо, – ты пришел слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила Вэйн покончила с собой…
– Покончила с собой?! О Господи! Не может быть! – с ужасом вскричал Холлуорд.
– Дорогой мой Бэзил! Неужели ты думаешь, что это была банальная случайность? Разумеется, она покончила с собой.
Художник закрыл лицо руками.
– Какой ужас! – пробормотал он и содрогнулся.
– Нет, – возразил Дориан Грей, – никакой это не ужас. Это одна из величайших романтических трагедий нашего века. Как правило, жизнь актеры проживают совершенно заурядную. Они хорошие мужья, верные жены или еще что-нибудь не менее банальное. Ты понимаешь, о чем я говорю – буржуазные добродетели и все такое. Насколько же Сибила Вэйн на них непохожа! Она стала героиней величайшей трагедии! Она всегда была героиней. Свой последний спектакль (в тот вечер, когда ты видел ее на сцене) она отыграла плохо, потому что познала реальность любви. А когда познала ее нереальность, то умерла, как умерла бы, к примеру, Джульетта. Она вернулась в сферу искусства. В ее смерти – весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота. Но, повторяю, не думай, что я не страдал. Если бы ты пришел вчера в определенный момент – в половине шестого или без четверти шесть, – то застал бы меня в слезах. Даже Гарри, который находился здесь и принес мне дурную весть, на самом деле не представляет, что я перенес. Страдал я неимоверно! Потом все прошло. Я не могу воссоздавать чувства. Да и никто не может, кроме людей сентиментальных. Ты ко мне ужасно несправедлив, Бэзил. Явился утешать, что очень мило с твоей стороны, обнаружил, что утешенья мне не нужны, и взбесился. Весьма типично для утешителя. Невольно вспоминаю одну историю, рассказанную Гарри, о филантропе, который потратил двадцать лет жизни, пытаясь то ли устранить несправедливость, то ли отменить какой-то дурной закон – точно и не скажу, что именно. Наконец он добился успеха, и разочарованию его не было границ. Заняться ему стало совершенно нечем, он едва не умер от ennui[20]20
Скука (фр.).
[Закрыть] и превратился в убежденного мизантропа. Кроме того, дорогой Бэзил, если уж ты хочешь меня утешить, научи меня забывать или смотреть на произошедшее с точки зрения искусства. Не Готье ли писал о la consolation des arts[21]21
Утешение искусством (фр.).
[Закрыть]? Помню, как-то раз в твоей студии мне попалась книжечка в веленевой обложке, и в ней я наткнулся на это восхитительное выражение. Я ничуть не похож на того юношу, о котором ты рассказывал, когда мы вместе ездили к Марло, и который утверждал, что желтый шелковый атлас способен исцелить от любых жизненных невзгод. Мне нравятся красивые вещи, их можно потрогать или подержать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, лаковые миниатюры, изделия из слоновой кости, изысканная обстановка, роскошь, великолепие – они дают очень многое. Однако ценнее всего для меня создаваемый ими художественный настрой. Стать зрителем своей жизни, как говорит Гарри, значит избежать земных страданий. Знаю, ты удивлен моими рассуждениями. Ты не представляешь, насколько я вырос. Когда мы познакомились, я был мальчишкой. Теперь я мужчина! У меня новые чувства, новые мысли, новые идеи. Хотя я стал другим, ты не должен любить меня меньше. Я изменился, но ты должен всегда оставаться мне другом. Разумеется, мне очень нравится Гарри. Однако я знаю, что ты гораздо лучше его. Не сильнее, нет – ты слишком боишься жизни – лучше! Как счастливо мы с тобой дружили! Не оставляй меня, Бэзил, и не сердись на меня. Я такой, каков есть. Больше мне добавить нечего.
– Что ж, Дориан, – грустно улыбнулся художник, – я не стану говорить с тобой об этом ужасном событии. Надеюсь лишь, что твое имя не всплывет в связи с ним. Дознание состоится сегодня после обеда. Тебя вызвали?
Дориан покачал головой; при слове «дознание» на его лице мелькнула досада. Было во всем этом что-то излишне грубое и пошлое.
– Мое имя им неизвестно.
– А девушка его знала?
– Только имя, не фамилию. Я совершенно уверен, что она не сказала никому. Вроде бы все приставали к ней с расспросами, но она неизменно отвечала, что меня зовут Прекрасный Принц. С ее стороны это было очень мило. Бэзил, нарисуй мне Сибилу Вэйн! Хорошо бы оставить на память нечто большее, чем пара поцелуев и трогательных слов.
– Если ты этого хочешь, Дориан, я попытаюсь что-нибудь нарисовать. Ты должен прийти и снова мне попозировать. Без тебя я обойтись не могу.
– Бэзил, я никогда не стану тебе позировать. Это исключено! – воскликнул он, отшатнувшись.
Художник уставился на него в изумлении.
– Дорогой мой мальчик, что за чепуха! Неужели тебе не нравится, как я тебя написал? Где портрет? Почему ты закрыл его ширмой? Позволь мне на него взглянуть. Ведь это моя лучшая картина. Убери ширму, Дориан. Со стороны твоего слуги просто возмутительно так обращаться с моей работой. Едва войдя, я почувствовал: в комнате что-то не так.
– Бэзил, слуга ни при чем. Неужели ты думаешь, что я позволю ему распоряжаться в моей комнате? Иногда он расставляет цветы, не более. Нет, я закрыл портрет сам. Свет был слишком ярок.
– Слишком ярок?! Да неужели, мой дорогой? Место выбрано превосходное. Позволь мне взглянуть. – И Холлуорд двинулся в угол комнаты.
Дориан Грей закричал от ужаса и бросился между художником и ширмой.
– Бэзил, – воскликнул он, сильно побледнев, – не смей на него смотреть! Я против!
– Не смотреть на мою собственную работу?! Ты шутишь. Почему мне нельзя на нее смотреть? – со смехом спросил Холлуорд.
– Бэзил, если ты посмеешь, клянусь честью, я перестану с тобой разговаривать до конца моих дней! Я серьезно. Объяснять ничего не буду, так что даже не спрашивай. Помни, если прикоснешься к ширме, между нами все кончено!
Холлуорд стоял как громом пораженный и смотрел на Дориана Грея в полном изумлении. Никогда ему не приходилось видеть приятеля в подобном состоянии. Юноша буквально побелел от гнева. Руки сжаты в кулаки, глаза пылают синим огнем. Он весь дрожал.
– Дориан!
– Молчи!
– В чем дело? Конечно, если ты не хочешь, я смотреть не буду, – сухо сказал Холлуорд, круто повернулся и ушел к окну. – Однако мне довольно странно, что я не должен видеть собственную картину, особенно учитывая, что осенью я намерен выставить ее в Париже. Вероятно, потребуется покрыть ее лаком еще разок, так что рано или поздно мне придется ее увидеть. Почему бы не сегодня?
– Выставить! Ты хочешь ее выставить? – воскликнул Дориан Грей, объятый ужасом. Неужели его тайну узнает весь мир? Неужели люди станут разглядывать подноготную его жизни? Ни в коем случае! Нужно было обязательно что-нибудь предпринять, хотя он не знал, что именно.
– Да. Не думал, что ты будешь против. Джордж Петит собирает мои картины для специальной выставки в Рю-де-Сез, которая откроется в первую неделю октября. Я заберу портрет всего на месяц. Надо полагать, на такой недолгий срок ты легко с ним расстанешься. Собственно, тебя и в городе-то наверняка не будет. Коли ты прячешь его за ширмой, вряд ли он тебе так уж дорог.
Дориан Грей приложил руку ко лбу, вытирая испарину. Он чувствовал, что ему грозит смертельная опасность.
– Месяц назад ты говорил, что никогда его не выставишь! Почему же ты передумал? Как и все, кто гордится своим постоянством, ты подвержен сменам настроения. Жаль, что они не поддаются логичному объяснению. Вряд ли ты забыл, как на полном серьезе уверял, что никогда не пошлешь его ни на одну выставку. То же самое ты говорил и Гарри.
Юноша умолк, в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил слова лорда Генри, сказанные полушутя-полусерьезно: «Если захочешь провести четверть часа престранным образом, попроси Бэзила объяснить, почему он не хочет выставлять твой портрет. Мне он рассказал, и это стало для меня откровением». Да, пожалуй, у Бэзила есть своя тайна. Надо бы ее узнать.
– Бэзил, – проговорил юноша, подходя ближе и глядя ему в глаза, – у каждого из нас есть тайна. Расскажи мне свою, а я поведаю тебе свою. Почему ты отказывался выставлять мой портрет?
Художник невольно вздрогнул:
– Дориан, если я тебе расскажу, ты станешь любить меня куда меньше и наверняка посмеешься надо мной. Ни того, ни другого я не вынесу! Если не хочешь, чтобы я смотрел на твой портрет, я не буду. Ведь я всегда могу посмотреть на тебя. Если тебе угодно, чтобы моя лучшая работа никогда не предстала перед публикой, я пойму. Твоя дружба для меня гораздо дороже славы и репутации!
– Нет, Бэзил, расскажи, – настаивал Дориан Грей. – Думаю, я имею право знать.
Ужас развеялся, на смену ему пришло любопытство. Он твердо решил выведать тайну Бэзила Холлуорда.
– Дориан, давай присядем, – смущенно предложил художник. – Ответь мне на один вопрос. Ты не замечал в портрете ничего необычного? Что-нибудь такого, что в глаза не бросается, но потом вдруг становится очевидным?
– Бэзил! – вскричал юноша, вцепившись в подлокотники кресла и ошарашенно глядя на друга.
– Вижу, что заметил. Помолчи. Погоди, пока не услышишь то, что я должен тебе сказать. Дориан, с нашей первой встречи я нахожусь под невероятным обаянием твоей личности. Я подчинился тебе и душой, и разумом, и талантом. Ты стал для меня живым воплощением невиданного ранее идеала, который преследует любого художника, как дивный сон. Я тебе поклонялся. Я ревновал к каждому, с кем ты заговаривал. Мне хотелось, чтобы ты был только моим. Я был счастлив, лишь находясь рядом с тобой. Даже когда тебя не было, ты все равно присутствовал в моей живописи… Конечно, я ни разу не выдал себя ни словом. Ты бы меня не понял. Я и сам себя едва понимал. Я лишь знал, что вижу перед собой совершенство и что мир для меня стал прекрасен… пожалуй, даже слишком прекрасен. В подобном безумном поклонении есть одна опасность: потерять объект своего поклонения, хотя и обладать им не менее опасно… Проходила неделя за неделей, и я становился все сильнее одержим тобою. Потом положение еще больше осложнилось. Сначала я писал тебя Парисом в великолепных доспехах, Адонисом в плаще охотника и с отполированным кабаньим копьем в руках. Увенчанный короной из цветков лотоса, ты сидел на носу ладьи Адриана, глядя на мутный зеленый Нил. Ты склонялся над гладью пруда в греческой роще и смотрел на свое отражение в неподвижном серебре вод. Все эти картины были воплощением искусства в чистом виде – бессознательны, идеальны, отвлеченны. И наступил день, роковой день, как мне порой кажется, когда я решил написать дивный портрет тебя как ты есть – не в нарядах прошедших эпох, а в твоей собственной одежде и в твое собственное время. Я не знаю, то ли благодаря реалистичности манеры письма, то ли благодаря чуду твоей индивидуальности, представшей передо мной без прикрас, однако в процессе работы каждый мазок кисти обнажал мою тайну. Я стал бояться, что о моем поклонении узнают все. Дориан, я понял, что сказал слишком много, вложил слишком много себя в твой портрет! И я решил никогда его не выставлять. Ты чувствовал легкую досаду, хотя и не понимал, что это значит для меня. Гарри, которому я признался, меня высмеял. Но мне было все равно. Окончив картину, я сел перед ней и почувствовал, что прав… Через пару дней ее увезли из студии, и как только я избавился от ее нестерпимого очарования, то заподозрил, что напридумывал себе невесть чего и картина показывает лишь твою красоту и мое мастерство. Даже сейчас мне кажется ошибочным мнение, что страсть художника проглядывает в его творении. Искусство гораздо более абстрактно, чем нам представляется. Форма и цвет говорят лишь о форме и цвете, не более. Мне часто думается, что искусство художника скорее скрывает, нежели обнажает. Поэтому, получив предложение из Парижа, я решил сделать твой портрет главным экспонатом выставки. Мне даже в голову не пришло, что ты можешь отказаться. Теперь я вижу, что ты прав. Портрет нельзя выставлять. Прошу, Дориан, не сердись на меня из-за того, что я рассказал. Как я однажды заметил Гарри, ты рожден для того, чтобы тебе поклонялись.
Дориан Грей вздохнул с огромным облегчением. На щеки вернулся румянец, на губах заиграла улыбка. Кризис миновал. На некоторое время он в безопасности. Он почувствовал бесконечную жалость к художнику, сделавшему такое необычное признание, и задался вопросом, способен ли он сам попасть под настолько мощное влияние личности друга. Лорду Генри свойственно некое опасное очарование, но не более. Он слишком умен и циничен, чтобы увлечься им всерьез. Встретится ли ему в жизни кто-нибудь, достойный подобного преклонения? Интересно, что еще готовит ему жизнь?
– Дориан, для меня просто немыслимо, что ты разглядел это на портрете. Неужели ты действительно все понял?
– Кое-что я заметил, – отвечал юноша, – кое-что довольно любопытное.
– Значит, ты не против, если я взгляну?
Дориан покачал головой:
– Даже не проси, Бэзил. Я не могу тебе позволить смотреть на портрет.
– Когда-нибудь ведь ты разрешишь?
– Никогда!
– Что ж, пожалуй, ты прав. Теперь прощай, Дориан. Ты – единственный человек в моей жизни, который повлиял на мою живопись. Лучшие мои работы я создал благодаря тебе. Ты даже не догадываешься, чего мне стоило в этом признаться!
– Дорогой Бэзил, в чем таком необычном ты признался? Ты всего лишь сказал, что слишком сильно мной восхищаешься. Это даже не комплимент.
– Это и не задумывалось как комплимент. Это была исповедь. И теперь я чувствую, будто чего-то лишился. Пожалуй, некоторые чувства не стоит облекать в слова.
– Я весьма разочарован твоей исповедью.
– Чего же ты ожидал, Дориан? Ведь больше ты на картине ничего не заметил? Или есть еще что-то?
– Нет, больше ничего. Почему ты спрашиваешь? Послушай, довольно твердить о своем преклонении! Это глупо. Бэзил, мы с тобой друзья, и пусть так будет всегда!
– У тебя ведь есть Гарри, – грустно проговорил художник.
– Ах уж этот Гарри! – воскликнул юноша со смехом. – Гарри целыми днями изрекает вещи невероятные, а по ночам занимается вещами сомнительными. Именно так я и хотел бы жить. И все же вряд ли бы я пошел к Гарри, попади я в беду. Скорее я отправился бы к тебе, Бэзил.
– Ты будешь мне снова позировать?
– Ни за что!
– Дориан, своим отказом ты ломаешь мне жизнь. Никому не суждено встретить свой идеал дважды. Редко кому вообще удается его встретить.
– Бэзил, мне трудно объяснить почему, но я не смогу тебе позировать никогда. В портрете есть нечто роковое. Он живет собственной жизнью… Я буду заглядывать к тебе на чай. Удовольствие ничуть не меньшее!
– Для тебя-то точно, – с сожалением проговорил Холлуорд. – Что ж, прощай. Жаль, что нельзя снова взглянуть на портрет. Хотя я тебя вполне понимаю.
Когда художник вышел, Дориан усмехнулся сам себе. Бедняга Бэзил! Как мало он догадывался об истинной причине! И как странно, что вместо того, чтобы открыть свою тайну, юноше удалось почти случайно вытрясти тайну из своего друга! Как многое он понял после его чудноˊй исповеди! Нелепые приступы ревности, безумная преданность, непомерные панегирики, странная замкнутость – теперь он все понял и проникся к художнику сочувствием. В дружбе, окрашенной любовью, всегда есть нечто трагическое.
Он вздохнул и позвонил слуге. Во что бы то ни стало портрет надо спрятать. Риск разоблачения слишком велик. Просто безумие оставлять его хотя бы на час в комнате, куда может зайти любой из его друзей.
Глава 10
Вошел слуга, и Дориан посмотрел на него пристально, гадая, не взбрело ли ему в голову заглянуть за ширму. Тот с невозмутимым видом ожидал приказаний. Дориан закурил, встал у окна и всмотрелся в отражение Виктора в стекле. На его лице застыла безмятежная маска подобострастия. Вроде бы можно не опасаться, однако лучше быть начеку.
Медленно проговаривая слова, он велел слуге позвать экономку, затем отправиться в багетную мастерскую и попросить незамедлительно прислать двух человек. Ему показалось, что уходя Виктор покосился на ширму. Или просто разыгралось воображение?..
Вскоре в библиотеку суетливо вбежала миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных нитяных перчатках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от классной комнаты.
– От старой классной комнаты, мистер Дориан? – воскликнула она. – Там же полно пыли! Прежде, чем вы войдете, нужно все как следует прибрать. Вы не должны входить туда, сэр! Нет, в самом деле, не стоит.
– Пыль меня не волнует, миссис Лиф. Просто дайте ключ.
– Сэр, если вы туда войдете, то весь будете в паутине! Ее же почти пять лет не открывали – с тех пор, как умер его светлость.
При упоминании деда Дориан поморщился. Память о старике была ему ненавистна.
– Неважно. Я просто хочу осмотреть комнату, вот и все. Дайте мне ключ.
– Вот он ключик, сэр, – засуетилась экономка, перебирая связку дрожащими руками. – Вот он. Сейчас я его сниму. Но вам же не вздумается там поселиться, сэр? Внизу ведь гораздо удобнее!
– Нет же, нет! – раздраженно вскричал юноша. – Спасибо, миссис Лиф. Можете идти.
Она помялась и завела речь о домашних делах. Он вздохнул и сказал, что в подобных вопросах целиком полагается на нее. Экономка ушла, расплывшись в улыбке.
Едва за ней закрылась дверь, Дориан положил ключ в карман и осмотрелся по сторонам. Его взгляд упал на огромное лиловое атласное покрывало – великолепное полотно работы венецианских мастериц конца семнадцатого века, украшенное богатой золотой вышивкой, – которое его дед обнаружил в монастыре под Болоньей. Да, вполне сгодится, чтобы завернуть ту жуткую штуку. Вероятно, некогда его использовали как погребальный покров. Теперь же савану придется скрывать разложение иное, куда худшее, чем несет смерть, и ужасам не будет конца. Грехи Дориана Грея для изображения на холсте – что черви для трупа. Они исказят и сожрут его красоту. Они осквернят его и опорочат. И все же портрет не умрет. Он будет жить вечно.
Дориан содрогнулся и пожалел, что не открыл Бэзилу настоящую причину, вынудившую его спрятать портрет. Бэзил помог бы бороться с влиянием лорда Генри и другими, более опасными искусами, исходившими уже от его собственной натуры. Любовь, которую к нему испытывал художник (ведь он действительно любил Дориана), была чувством исключительно благородным и возвышенным. Она не ограничивалась преклонением перед красотой тела, которое рождается в чувственном восприятии и гибнет, когда чувства пресыщаются. Его любовь походила на любовь Микеланджело, Монтеня, Винкельмана и даже самого Шекспира. Да, Бэзил мог бы его спасти. Однако теперь слишком поздно. Прошлое всегда можно уничтожить. Это достигается посредством раскаяния, отрицания или забывчивости. А вот будущее неотвратимо. В юноше бушевали страсти, неистово ищущие выхода, и порочные мечты, жаждущие воплотиться в реальность.
Он снял с дивана огромное лилово-золотое покрывало и зашел за ширму. Не стало ли лицо на холсте еще более отталкивающим? Вроде особых изменений не было, и все же при взгляде на него Дориан испытал отвращение. Золотые волосы, голубые глаза, алые как роза губы остались прежними. Изменилось лишь выражение. Лицо потрясало своей жестокостью. До чего же поверхностными и незначительными были укоры Бэзила по поводу Сибилы Вэйн по сравнению с осуждением, которое он увидел на портрете! С холста смотрела его собственная душа и призывала к ответу. Вздрогнув, Дориан набросил на картину богатый покров. И тут раздался стук в дверь. Едва он вышел из-за ширмы, как в комнату заглянул слуга.
– Месье, пришли багетчики.
Дориан понял, что избавиться от слуги следует немедленно. Он не должен знать, куда унесут картину. Было в нем нечто двуличное, да и во взгляде внимательных глаз проскальзывало коварство. Сев за письменный стол, юноша нацарапал записку лорду Генри, в которой просил прислать какую-нибудь книгу и напоминал о встрече в четверть девятого вечера.
– Дождись ответа, – велел он, вручая записку, – и проводи ко мне людей.
Минуты через две или три в дверь снова постучали, и в сопровождении измотанного младшего помощника в комнату вошел сам мистер Хаббард, известный багетчик с Саут-Одли-стрит. Хаббард был цветущий человечек с рыжими бакенбардами, чье восхищение перед искусством в значительной степени охладело от общения с клиентами-художниками, большинство из которых вечно сидели без гроша. Как правило, он никогда не покидал свою багетную мастерскую – ждал, пока придут к нему. Однако ради Дориана Грея он сделал исключение. Дориан очаровывал всех. Даже просто увидеть его было приятно.
– Чем могу угодить, мистер Грей? – спросил багетчик, потирая пухлые веснушчатые ручки. – Решил прибыть к вам собственной персоной! Сэр, недавно я заполучил чудную раму. Прикупил по бросовой цене. Старинная флорентийская работа. Думаю, из Фонтхиллского аббатства. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей.
– Разумеется, я заеду взглянуть на раму, хотя в настоящий момент и не особо интересуюсь религиозной живописью. Мне жаль, что вы напрасно побеспокоились, мистер Хаббард, – ведь сегодня нужно всего лишь перенести наверх одну картину. Она довольно тяжелая, поэтому я и решил пригласить парочку ваших людей.
– Ничего страшного, мистер Грей. Я рад оказать вам любую услугу! Какое именно произведение искусства нужно перенести, сэр?
– Вот это, – ответил Дориан, отодвигая ширму. – Можно ли перенести, не снимая покрывала? Не хочу, чтобы она поцарапалась при переноске.
– Даже не беспокойтесь, сэр, – ответил добродушный багетчик, начиная снимать вместе с помощником картину, подвешенную на длинных латунных цепях. – Куда нести, мистер Грей?
– Я покажу дорогу, мистер Хаббард, пожалуйста, следуйте за мной. Или лучше идите впереди. Боюсь, нести придется на самый верх. Давайте воспользуемся главной лестницей, она пошире.
Дориан Грей придержал дверь, они вышли в холл и стали подниматься по лестнице. Благодаря богато изукрашенной раме картина была довольно громоздкой, и время от времени, несмотря на подобострастные протесты Хаббарда, которому, как истинному негоцианту, претила сама мысль о том, чтобы джентльмен утруждал себя работой, Дориан придерживал ее рукой, пытаясь помочь.
– Весит она преизрядно, сэр, – задыхаясь, заметил низкорослый багетчик, когда они добрались до верхней площадки, и утер пот с блестящего лба.
– Да, весьма тяжелая, – пробормотал Дориан, отпирая дверь в комнату, которая должна была скрыть удивительнейшую тайну всей его жизни и спрятать от чужих глаз его душу.
Он не входил сюда около четырех лет – нет, даже больше. В детстве чердак служил ему игровой комнатой, а когда он стал старше, использовался уже для занятий. Это было просторное, симметричное помещение, специально обустроенное покойным лордом Келсо для внука, которого благодаря его удивительному сходству с матерью или по другим причинам он ненавидел и предпочитал держать подальше от своих глаз. Дориану показалось, что комната почти не изменилась. Вот большой итальянский cassone[22]22
Сундук (ит.).
[Закрыть]с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными завитушками, в котором он часто прятался мальчиком. Вот книжный шкаф из атласного дерева, забитый потрепанными школьными учебниками. На стене рядом с ним все тот же ветхий фламандский гобелен: полустершиеся король и королева играют в шахматы в саду, мимо проезжают охотники с соколами, держа на защитных перчатках птиц с закрытыми головками. Как хорошо Дориан все это помнил! Он осматривался, и перед ним вставал каждый миг одинокого детства. Вспомнив непорочную чистоту отрочества, он ужаснулся при мысли о том, что именно здесь придется спрятать роковой портрет. В те унылые дни ему и в голову не приходило, сколько всего ждет его в будущем.
Другого места, так надежно укрытого от посторонних глаз, в доме не было. Ключ у него, и никто сюда войти не сможет. Пусть лицо на портрете под лиловым саваном тупеет и оскотинивается. Ему-то что за дело? Все равно никто не увидит. Даже он сам. К чему следить за разложением своей души? Юность он сохранит, и довольно. К тому же в будущем его натура вполне может улучшиться. Нет причин, чтобы будущее стало настолько постыдным. В жизнь придет любовь и очистит его, защитит от грехов, зарождающихся в душе и в теле, от тех неведомых, неописуемых грехов, чья загадочность делает их столь коварными и придает им особое очарование. Пожалуй, в один прекрасный день жестокость в изгибе губ исчезнет, и он сможет показать Бэзилу Холлуорду его шедевр.
Хотя нет, это невозможно. Час за часом, неделю за неделей портрет стареет. Если даже удастся избежать уродства греха, ему грозит уродство старости. Щеки ввалятся или отвиснут. Вокруг погасших глаз на пожелтевшем лице проступят уродливые морщины. Волосы утратят блеск, губы провалятся или обвиснут, придавая ему вид глупый или отталкивающий, как у всех стариков. Горло утонет в морщинах, руки покроются синими венами, тело съежится – таким он запомнил своего покойного деда, который был с ним очень суров. Картину придется прятать. Тут уж ничего не поделаешь.
– Несите сюда, мистер Хаббард, – устало велел Дориан, обернувшись. – Простите, что заставляю вас ждать. Я задумался.
– Отдохнуть всегда приятно, мистер Грей, – ответил багетчик, все еще дыша с трудом. – Куда, сэр?
– Да все равно куда. Не хочу ее вешать. Просто прислоните к стене. Спасибо.
– Можно ли взглянуть на шедевр, сэр?
Дориан вздрогнул.
– Вряд ли он будет вам интересен, мистер Хаббард, – проговорил юноша, не сводя глаз с мастера. Дориан готов был броситься на него и швырнуть на пол, вздумай тот приподнять роскошную завесу, скрывающую тайну его жизни. – Не смею вас больше задерживать. Премного благодарен, что вы пришли лично.
– Не за что, не за что, мистер Грей. Всегда к вашим услугам, сэр.
И багетчик громко затопал вниз по лестнице в сопровождении помощника, который оглядывался на Дориана с застенчивым любопытством на грубом невзрачном лице. Ему никогда не приходилось видеть человека столь удивительно прекрасного.
Когда шаги смолкли, Дориан запер дверь и положил ключ в карман. Больше никто не увидит страшный портрет. Лишь он сам будет наблюдать свой позор.
В библиотеке уже накрыли к чаю. На темном столике из душистой древесины, богато инкрустированной перламутром, – подарок леди Редли, жены опекуна Дориана, вечно больной и проведшей прошлую зиму в Каире, – ждала записка от лорда Генри и книга в слегка потрепанном желтом переплете с чуть засаленными страницами. На подносе лежал свежий номер газеты «Сент-Джеймс». Очевидно, Виктор успел вернуться. Дориан гадал, встретился ли он с рабочими в холле, когда те покидали дом, и выведал ли у них, чем они занимались. Он наверняка заметит исчезновение портрета, если уже не заметил, пока накрывал к чаю. Ширму Дориан обратно не задвинул, и на стене зияла пустота. С Виктора станется как-нибудь ночью пробраться наверх и попытаться открыть дверь. До чего ужасно иметь шпиона в собственном доме! Дориан слышал про богачей, коих долгие годы шантажировали слуги, которые прочли письмо, подслушали разговор, похитили визитную карточку с адресом, обнаружили под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева.