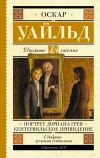Автор книги: Оскар Уайльд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вскоре Дориан Грей остановил кеб и поехал домой. Он замешкался на пороге, оглядывая безлюдную площадь, закрытые ставнями или зашторенные окна. Небо стало цвета чистого опала, на его фоне крыши сияли как серебряные. Из трубы дома напротив поднимался тонкий дымок. Он вился на фоне перламутрового неба лиловой лентой.
В огромном, обшитом дубовыми панелями холле висел большой золоченый фонарь, позаимствованный с барки какого-то венецианского дожа, и на нем все еще горели три рожка – тонкие голубые лепестки пламени, обрамленные белым огнем. Дориан погасил газ, бросил шляпу и плащ на стол, прошел через библиотеку к двери в свою спальню – большое восьмиугольное помещение на нижнем этаже, которое он только что обставил заново, руководствуясь недавно возникшей в нем страстью к роскоши, и украсил гобеленами эпохи Возрождения, обнаруженными на чердаке в Сэлби-Ройял. Повернув ручку двери, юноша бросил взгляд на портрет, написанный Бэзилом Холлуордом, и удивленно отпрянул. Потом зашел в спальню, все еще недоумевая. Вынув бутоньерку из петлицы, он заколебался. Наконец вернулся к картине и осмотрел ее. В тусклом свете, пробивавшемся сквозь шелковые кремовые шторы, лицо выглядело несколько иначе. Изменилось его выражение. В изгибе губ появилась жестокость. Это было очень странно.
Дориан подошел к окну и поднял штору. Рассвет хлынул в комнату и размел причудливые тени по темным углам, где они и затаились. Однако странное выражение лица на портрете сохранилось неизменным и даже стало более явным. В скользивших по полотну ярких солнечных лучах жестокость в изгибе губ проглядывала столь же отчетливо, как если бы юноша посмотрелся в зеркало после совершения чего-нибудь предосудительного.
Он поморщился, взял со стола овальное зеркало в оправе из слоновой кости с вырезанными купидонами – один из многочисленных подарков лорда Генри – и поспешно всмотрелся в его полированную глубину. Никаких складок у губ он не увидел. В чем же дело?
Дориан потер глаза, подошел поближе к портрету и снова его осмотрел. Никаких видимых перемен на полотне он не обнаружил, однако выражение лица изменилось. Ему вовсе не почудилось! Это было до ужаса очевидно.
Он бросился в кресло и стал думать. Внезапно в памяти вспыхнули слова, сказанные в студии Бэзила Холлуорда в тот день, когда картина была закончена. Он произнес вслух безумное желание оставаться юным, в то время как стареть вместо него будет портрет; его собственная красота сохранится незапятнанной, а лицо на холсте будет нести ношу его страстей и пороков; запечатленный красками образ избороздят черты страданий и дум, а он сбережет весь цвет и очарование едва осознанного отрочества. Неужели желание исполнилось? Так не бывает! И все же картина висела перед ним, и в изгибе губ ясно виднелась жестокость.
Жестокость! Разве он был жесток? Сибила сама виновата. В его мечтах она была великой актрисой, и свою любовь он дарил ей именно поэтому. Потом она его разочаровала – оказалась пустышкой, недостойной любви. Юноша вспомнил, как она валялась у него в ногах и всхлипывала словно дитя, и ему стало ее невероятно жаль. Он вспомнил, с каким бессердечием смотрел на нее. Почему он таков? Почему досталась ему такая душа? Впрочем, он тоже страдал. В течение трех ужасных часов, пока шла пьеса, он прожил целые века боли, пытка длилась бесконечно. Его жизнь стоила ее жизни. Пусть он ранил ее на целую вечность, зато она омрачила ему целый миг! К тому же женщины переносят горести куда лучше, чем мужчины. Они живут чувствами. И думают только о своих чувствах. Они заводят любовников лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так сказал лорд Генри, а лорд Генри знает женщин. Почему он должен тревожиться из-за Сибилы Вэйн? Теперь она ему никто.
Но как же быть с картиной? Она хранит тайну его жизни, рассказывает его историю. Она научила Дориана ценить собственную красоту. Неужели она научит его ненавидеть свою душу? И как ему теперь на нее смотреть?
Нет, это всего лишь иллюзия, вызванная дурным настроением. Ужасная ночь оставила после себя призраков. Картина ничуть не изменилась, и думать так – чистое безумие!
И все же юноша продолжал смотреть на портрет, разглядывая красивое искаженное лицо и жестокую улыбку. Светлые волосы сияли в рассветных лучах. Голубые глаза смотрели в его глаза. На Дориана нахлынула бесконечная жалость, только не к себе, а к своему запечатленному образу. Он уже изменился и изменится еще больше. Золото волос поблекнет до седины. Алые и белые розы умрут. Каждый совершенный им грех запятнает и погубит красоту портрета.
Он не будет грешить! Изменилась картина или нет, она станет символом его совести! Он будет противостоять искушениям. Он больше не увидится с лордом Генри – по крайней мере, не станет слушать его коварных губительных теорий, которые в саду Бэзила Холлуорда пробудили страсть к вещам недопустимым. Он вернется к Сибиле Вэйн, загладит свою вину, женится на ней, попытается полюбить ее вновь. Да, в этом его долг! Бедное дитя! Он вел себя эгоистично и жестоко. Восхищение, которое он испытывал к ней, вернется. Они будут счастливы вместе. Его жизнь с Сибилой будет прекрасна и чиста!
Юноша поднялся с кресла, с содроганием взглянул на портрет и загородил его большой ширмой.
– Какой ужас! – прошептал он, отходя к окну и распахивая створки.
Выйдя в сад, он глубоко вздохнул. Свежий утренний воздух развеял все душевные тревоги. Дориан думал лишь о Сибиле. К нему вернулось слабое эхо любви к ней. Он твердил ее имя снова и снова. Птицы, певшие в залитом росой саду, будто рассказывали о его любви цветам в траве.
Глава 8
Проснулся он, когда полдень давно миновал. Камердинер несколько раз прокрадывался в спальню и удивлялся, почему молодой хозяин спит так долго. Наконец зазвонил колокольчик, бесшумно вошел Виктор с чашкой чая и стопкой писем на старинном подносе севрского фарфора и раздвинул атласные оливковые шторы с сияющей голубой подкладкой, закрывавшие три высоких окна.
– Месье хорошо спал сегодня утром, – заметил он с улыбкой.
– Сколько времени, Виктор? – сонно спросил Дориан Грей.
– Четверть второго, месье.
Как поздно! Он сел, отхлебнул чаю и просмотрел письма. Одно было от лорда Генри, его принес посыльный утром. Юноша поколебался и отложил конверт в сторону. Остальные он открыл без интереса: визитные карточки, приглашения на ужины, билеты на выставки, программки благотворительных концертов – обычная корреспонденция, каковой засыпают светских молодых людей. Также там был довольно солидный счет за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика Пятнадцатого, который он никак не отваживался послать своим опекунам – господам чрезвычайно консервативным и не понимающим, что мы живем в такую эпоху, когда излишества становятся предметами первой необходимости; и несколько весьма учтиво сформулированных писем от ростовщиков с Джермин-стрит, предлагавших любые суммы по первому требованию за самые умеренные проценты.
Минут через десять Дориан встал, набросил халат из расшитого шелком кашемира и прошел в выложенную ониксом ванную. После долгого сна прохладная вода приятно освежала. Он словно позабыл, что ему пришлось вынести. Раз или два возвращалось смутное ощущение несчастья, но оно казалось не более реальным, чем сон. Одевшись, он отправился в библиотеку и сел за легкий французский завтрак, накрытый на круглом столике возле окна. День выдался прелестный. Теплый воздух был насыщен пряными запахами. В комнату влетела пчела и зажужжала вокруг желтых роз в синей китайской вазе. Юноша почувствовал себя совершенно счастливым.
И тут его взгляд упал на ширму, которой он закрыл портрет, и Дориан вздрогнул.
– Месье замерз? – спросил слуга, ставя перед ним омлет. – Закрыть окно?
Дориан покачал головой.
– Мне не холодно, – пробормотал он.
Неужели все правда и портрет действительно изменился? Или у него разыгралось воображение и вместо радостной улыбки он увидел жестокий оскал? Ведь раскрашенный холст не может меняться! Какая чепуха! Когда-нибудь он повеселит этой историей Бэзила.
И все же воспоминание было удивительно ярким. Сперва в предрассветных сумерках, потом в лучах солнца он увидел жестокость в изгибе губ. Он почти страшился оставаться с портретом один на один – ведь тогда придется отодвинуть ширму и посмотреть. Когда камердинер принес кофе и папиросы и собрался выйти, юноше отчаянно захотелось его остановить. Едва дверь закрылась, он позвал слугу снова. Тот вернулся и ждал приказаний. Дориан смерил его взглядом.
– Виктор, меня ни для кого нет дома, – со вздохом сказал он.
Слуга поклонился и вышел.
Дориан встал, зажег папиросу и растянулся на роскошном диване с подушками перед ширмой, которой он закрыл портрет. Ширма была старинная, из позолоченной кордовской кожи, с тиснеными вычурными узорами в стиле Людовика Пятнадцатого. Интересно, приходилось ли ей прежде скрывать чужие секреты? Может, пора наконец отодвинуть ее в сторону? Или оставить как есть? Зачем знать? Если это правда, то дело плохо. Если нет, к чему тревожиться зря? А вдруг по какой-то роковой случайности кто-нибудь чужой заглянет за ширму и увидит? Что делать, если Бэзил Холлуорд зайдет и попросит взглянуть на свое творение? А Бэзил наверняка попросит! Нет, нужно немедленно проверить. Все лучше, чем сидеть и терзаться сомнениями.
Дориан встал и запер обе двери. По крайней мере, он увидит маску своего стыда в одиночестве. Он отодвинул ширму в сторону и очутился лицом к лицу с самим собой. Да, портрет и правда изменился.
Впоследствии он часто вспоминал, как разглядывал портрет почти с научным интересом. Ему казалось невероятным, что подобная перемена вообще возможна. Тем не менее результат был налицо. Что за тонкая связь возникла между атомами краски на холсте и его душой? Неужели его мысли, желания и мечты воплотились в действительность? Или есть причина другая, куда более жуткая? Он почувствовал страх и содрогнулся, лег обратно на диван и лежал, разглядывая картину с животным ужасом.
Впрочем, одно Дориан осознал четко. Благодаря портрету он понял, как несправедлив и жесток был к Сибиле Вэйн. Пока не поздно все исправить! Она еще может стать его женой. Под влиянием неких высших сил пустая и эгоистичная любовь превратится в чувство более благородное, и портрет, нарисованный Бэзилом Холлуордом, поведет его по жизни, станет для него тем, что одни называют благочестием, другие – совестью и все мы называем страхом перед Богом. Нравственные муки можно заглушить наркотиками. Но у Дориана перед глазами был видимый символ распада личности под действием греха. В его жизни появилось неизменное свидетельство разрушений, которым люди подвергают свои души.
Часы пробили три, потом четыре, через полчаса раздался двойной перезвон, однако Дориан Грей даже не шевельнулся, пытаясь подобрать алые нити жизни и связать в узор, отыскать дорогу в кроваво-красном лабиринте страстей. Он не знал, что делать и что думать. Наконец он подошел к столу и написал пылкое письмо девушке, которую любил, вымаливая прощение и обвиняя себя в помутнении рассудка. Он заполнял страницу за страницей словами неистового сожаления и еще более неистовой боли. В самобичевании есть определенное наслаждение. Когда мы виним себя, то чувствуем, что никто другой не вправе нас обвинять. Отпущение грехов дарует не священник, а признание вины. Закончив письмо, Дориан почувствовал себя прощенным.
Внезапно в дверь постучали, и послышался голос лорда Генри:
– Дорогой мой мальчик, я должен тебя увидеть! Впусти же меня скорей! Я не позволю тебе сидеть одному взаперти!
Вначале он не ответил, но стук в дверь становился все громче. Да, лучше впустить лорда Генри и объяснить, что он решил начать новую жизнь, поссориться с ним, если необходимо, и расстаться, если расставание неизбежно. Юноша подскочил, поспешно закрыл картину ширмой и отпер дверь.
– Дориан, мне так жаль! – воскликнул лорд Генри, входя. – Ты не должен думать только об этом.
– Ты имеешь в виду Сибилу Вэйн? – спросил юноша.
– Конечно, – ответил лорд Генри, усаживаясь в кресло и сдергивая желтые перчатки. – С одной стороны, это просто ужасно, но ты не виноват. Скажи-ка, после окончания пьесы ты ходил за кулисы, виделся с ней?
– Да.
– Я так и думал. Между вам случилась сцена?
– Гарри, сцена вышла отвратительная, совершенно отвратительная. Теперь все в порядке. Я не жалею, что так случилось. Это помогло мне лучше узнать себя.
– Ах, Дориан, я рад, что ты воспринимаешь все так спокойно! Я боялся, что найду тебя изнывающим от чувства вины и рвущим свои прелестные кудри.
– Через все это я уже прошел, – ответил Дориан, качая головой и улыбаясь. – Теперь я совершенно счастлив. Прежде всего, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что говорил ты. Совесть – самое возвышенное, что в нас есть. Гарри, не вздумай насмехаться, по крайней мере, не в моем присутствии. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой!
– Какая прекрасная этическая основа для нравственности, Дориан! Поздравляю. С чего же ты начнешь свою новую жизнь?
– Женюсь на Сибиле Вэйн.
– Женишься на Сибиле Вэйн!.. – вскричал лорд Генри, вскакивая и глядя на него в полном изумлении. – Но, дорогой мой Дориан…
– Да, Гарри, я знаю, что ты сейчас скажешь. Что-нибудь отвратительное о браке. Никогда больше не говори мне ничего подобного! Два дня назад я просил Сибилу выйти за меня замуж. Я не намерен брать свои слова обратно. Она станет моей женой.
– Твоей женой! Дориан!.. Неужели ты не получил мое письмо? Я написал тебе утром и отправил письмо с посыльным.
– Твое письмо? Да, получил. Гарри, я его еще не читал. Я боялся, в нем будет что-нибудь неприятное. Твои парадоксы разносят в пух и в прах всю мою жизнь.
– Стало быть, ты ничего не знаешь?
– О чем ты?
Лорд Генри прошел через комнату, сел рядом с Дорианом Греем, взял его за руки и крепко их сжал.
– Дориан, – начал он, – в моем письме… не пугайся… говорилось о том, что Сибила Вэйн мертва.
Юноша вскрикнул от боли, вскочил и вырвался из рук лорда Генри.
– Мертва! Сибила мертва! Неправда! Это ужасная ложь! Как ты смеешь такое говорить?
– Дориан, это правда, – печально проговорил лорд Генри. – Новость попала во все утренние газеты. Я написал тебе, чтобы ты их не читал, пока я не зайду. Разумеется, будет расследование, и тебе нельзя туда впутываться. Подобное дело придало бы популярности в Париже, но в Лондоне люди слишком предвзяты. В нашем обществе начинать карьеру со скандала не принято. Лучше оставить это на старость, когда уместно подстегнуть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знают твоего имени? Если нет, то все в порядке. Кто-нибудь видел тебе возле ее гримерки?
Дориан долго не отвечал, застыв от ужаса. Наконец он пробормотал сдавленным голосом:
– Гарри, ты сказал: расследование? Что это значит? Неужели Сибила?.. Ах, Гарри, я этого не переживу! Рассказывай скорее!
– Дориан, я нисколько не сомневаюсь, что это был вовсе не несчастный случай, хотя так сообщили публике. Вроде бы, уходя с матерью из театра в половине первого или около того, она сказала, что забыла кое-что наверху. Ее прождали напрасно, вниз она так и не спустилась. В конечном итоге ее нашли мертвой на полу в гримерке. Проглотила что-то по ошибке, какую-то ядовитую штуку, которую используют в театре. Не знаю, что именно, в ее состав входит то ли синильная кислота, то ли свинец. Думаю, скорее синильная кислота, ведь умерла она мгновенно.
– Гарри, как это ужасно! – вскричал юноша.
– Да, разумеется, это весьма трагично, но ты должен держаться в стороне. Судя по заметке в газете «Стандарт», ей всего семнадцать. Я думал, она еще младше. Она выглядела таким ребенком и актрисой была совсем неопытной. Дориан, не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Поехали поужинаем, потом отправимся в оперу. Сегодня поет Патти, и в театре будет весь свет. Можешь сесть со мной в ложе моей сестры. Ее окружают женщины исключительно бойкие.
– Значит, Сибилу Вэйн убил я, – вполголоса проговорил Дориан Грей, – все равно что перерезал ей горло ножом. И тем не менее розы все так же хороши, птицы в саду поют все так же радостно, а вечером я отправлюсь с тобой ужинать, затем поеду в оперу, после мы заглянем еще куда-нибудь, чтобы перекусить… До чего драматична жизнь! Гарри, прочитай я о таком в книге, наверняка рыдал бы навзрыд. Хотя это и случилось со мной, для слез история кажется слишком чудесной. Вот первое любовное письмо, которое я написал. Как ни странно, оно адресовано мертвой девушке. Хотел бы я знать, способны ли они чувствовать, эти бледные безмолвные люди, которых мы называем мертвецами? Сибила! Чувствует ли она, слышит нас? Ах, Гарри, как я любил ее! Она была для меня всем! Потом наступил тот ужасный вечер – неужели только вчера? – когда она играла столь ужасно, что у меня едва сердце не разорвалось. Позже она все объяснила. Вышло чрезвычайно трогательно. Однако меня это ничуть не тронуло. Я счел ее пустышкой. И вдруг случилось нечто сильно меня напугавшее. Я не могу сказать тебе, что именно, но это было кошмарно! И я решил к ней вернуться. Я осознал, что был неправ. Теперь она мертва… Боже мой! Боже мой! Гарри, что делать? Ты понятия не имеешь, в какой я опасности, и никто не в силах мне помочь! Сибила смогла бы. Она не имела права себя убивать! Она поступила эгоистично.
– Дорогой мой Дориан, – откликнулся лорд Генри, доставая папиросу из портсигара, – единственный способ для женщины хоть как-то повлиять на мужчину – докучать ему до такой степени, что он утратит к жизни всякий интерес. Женись ты на этой девушке, и стал бы глубоко несчастен. Разумеется, ты был бы с ней ласков. Мы всегда ласковы с людьми, которые ничего для нас не значат. Однако вскоре она поняла бы, что совершенно тебе безразлична. Когда женщина это понимает, то ударяется в две крайности: либо запускает себя до невозможности, либо начинает носить весьма изящные шляпки, за которые платит чужой муж. Я не говорю уже о социальной неравности этого брака. Я ни за что бы не допустил вашего союза – ведь положение твое стало бы поистине безнадежным. Поверь, в любом случае история закончилась бы полным крахом.
– Пожалуй, ты прав, – пробормотал побледневший юноша, меряя комнату шагами. – Но я ведь думал, что таков мой долг. Я не виноват, что эта ужасная трагедия помешала мне поступить как должно. Помню, однажды ты говорил: благие намерения обречены на провал, ведь правильное решение принимаешь слишком поздно. Вот и я не успел…
– Благие намерения – суть бесполезные попытки пойти против законов природы. В основе их лежит тщеславие. В результате получается полный ноль. Время от времени они дают нам роскошь стерильных чувств, которые тешат людей слабых. Вот и все, что о них можно сказать. Они лишь чеки, что люди подают в банк, в котором у них нет счета.
– Гарри! – вскричал Дориан Грей, садясь рядом с ним. – Почему я не чувствую всей глубины этой трагедии? Вряд ли я бессердечный, правда?
– За последнюю пару недель ты наделал достаточно глупостей, чтобы не получить это звание, – ответил лорд Генри с присущей ему ласково-меланхоличной улыбкой.
Юноша насупился:
– Гарри, мне не нравится подобное объяснение, однако я рад, что ты не считаешь меня бессердечным. Ведь я совсем не такой! И все же признаюсь, что случившееся не так уж на мне и сказалось. Я воспринимаю его как прекрасный конец прекрасной пьесы, безумной красоты греческой трагедии, героем которой я стал, при этом ничуть не пострадав.
– Вопрос, конечно, интересный, – проговорил лорд Генри, находя исключительное удовольствие в игре на бессознательном эгоизме юноши, – чрезвычайно интересный. Полагаю, истинное объяснение следующее: зачастую подлинные трагедии выглядят настолько неприглядно, что ранят нас неуклюжим неистовством страстей, абсолютной бестолковостью и нелогичностью, полным отсутствием эстетичности. Подобный же эффект вызывает столкновение с пошлостью и безвкусицей. Впрочем, иногда в нашу жизнь входит трагедия с элементами художественной красоты. Если эти элементы подлинны, то оказывают воздействие исключительно сильное. Внезапно мы обнаруживаем, что больше не актеры, а зрители. Или же и то, и другое сразу. Мы наблюдаем за собой и увлекаемся чудом действа. Что именно произошло в данном случае? Девушка покончила с собой из-за любви к тебе. Жаль, что я не могу похвастаться подобным опытом. Ведь тогда бы я влюбился в любовь до конца моих дней! Женщины, которые любили меня (увы, их было не слишком много), продолжали жить и здравствовать долгое время после того, как я терял интерес к ним либо они ко мне. Они становились толстыми и уродливыми, и когда я их встречал, тут же ударялись в воспоминания. До чего ужасны женские воспоминания! Они скрывают полнейший упадок духа. От жизни нужно брать все краски и при этом не запоминать подробностей. Подробности всегда пошлы и заурядны.
– Придется посеять в саду маки[19]19
Мак – символ забвения.
[Закрыть], – вздохнул Дориан.
– В этом нет необходимости, – возразил его собеседник. – У Жизни маки всегда наготове. Разумеется, порой должно пройти время. Как-то в течение целого сезона я носил в петлице одни лишь фиалки – в качестве эстетического траура по любви, которая никак не желала умирать. В конце концов она все-таки умерла. Даже не помню, что ее убило. Думаю, предложение моей возлюбленной пожертвовать целым миром ради меня. Такие моменты всегда кошмарны. Их наполняет ужас вечности. И что ты думаешь? С неделю назад, за ужином у леди Хэмпшир, я узнал в своей соседке пресловутую женщину, и она принялась настаивать, чтобы мы начали все заново: разворошили прошлое и нашли в нем будущее. Я похоронил свой роман и усадил могилу асфоделями. Она же вытащила его на свет и заявила, что я испортил ей жизнь! Не могу не заметить, что при этом она не ограничивала себя за ужином, так что я за нее совершенно спокоен. Но какое отсутствие вкуса! Очарование прошлого в том, что оно прошло. Женщины никак не поймут, что занавес уже упал. Им всегда подавай шестой акт, и как только интерес к пьесе совсем угас, они предлагают ее продолжить. Если бы все зависело от них, то у каждой комедии был бы трагический конец, а каждая трагедия заканчивалась бы фарсом. Они прелесть до чего искусственны, но при этом не имеют об искусстве ни малейшего представления. Тебе повезло куда больше, чем мне. Уверяю, Дориан, ни одна из моих женщин не сделала бы для меня того, что сделала для тебя Сибила Вэйн. Женщины заурядные всегда находят утешение. Одни достигают его, рядясь в сентиментальные цвета… Кстати, никогда не доверяй женщине, которая носит сиреневый, сколько бы ей ни было лет, или женщине за тридцать пять, обожающей розовые ленты, – и то и другое свидетельствует о том, что перед тобой женщина с прошлым. Другие находят превеликое утешение в том, что неожиданно открывают достоинства в своих мужьях, и щеголяют супружеским счастьем, будто оно – самый соблазнительный из смертных грехов. Третьи уходят в религию. Как поведала мне одна женщина, таинства религии обладают всеми прелестями флирта, и я вполне ее понимаю. Кроме того, ничто так не тешит тщеславие человека, как признание его греховности. Совесть делает из всех нас эгоистов. Да, современная жизнь предлагает женщинам бесконечное множество разнообразнейших утешений. Между прочим, я не упомянул самое главное.
– И что же это, Гарри? – безучастно спросил юноша.
– Ну как же, самое очевидное утешение – увести чужого поклонника, потеряв своего. В хорошем обществе это всегда представляет женщину в выгодном свете. Право слово, Дориан, до чего же Сибила Вэйн отличается от прочих женщин! В ее смерти есть нечто удивительно прекрасное. Я рад, что живу в век, когда случаются подобные чудеса. Они заставляют меня верить в реальность чувств, с которыми мы играем, например, в романтическое влечение, любовь и страсть.
– Ты забываешь, что я поступил с ней ужасно жестоко.
– Боюсь, женщины ценят в нас жестокость, причем жестокость откровенную, больше всего остального. Их инстинкты удивительно примитивны. Мы эмансипировали женщин, однако они все равно остались рабынями, ищущими хозяина. Они обожают подчиняться. Уверен, ты держался великолепно. Никогда не видел тебя по-настоящему рассерженным, однако могу представить, как ты был хорош. Кроме того, позавчера ты выдал нечто довольно экстравагантное, я бы даже сказал, излишне затейливое, но теперь понимаю, что это совершеннейшая правда и ключ ко всему!
– И что же это, Гарри?
– Ты сказал, что Сибила Вэйн олицетворяет для тебя всех романтических героинь в одном лице: в один вечер она Дездемона, в другой – Офелия. Умирая Джульеттой, она возвращается к жизни Имогеной.
– Она уже никогда не вернется к жизни, – прошептал юноша, закрывая лицо руками.
– Да, не вернется. Она сыграла свою последнюю роль. Ты должен воспринимать ее одинокую смерть в обшарпанной гримерке как странный, зловещий эпизод из трагедии эпохи короля Якова или удивительную сцену из Вебстера, Форда или Сирила Тернера. Эта девушка никогда не жила по-настоящему, а значит, никогда и не умирала. По крайней мере, для тебя она была мечтой, призраком, порхавшим по пьесам Шекспира и оживлявшим их своим присутствием, тростниковой дудочкой, благодаря которой музыка Шекспира звучала насыщеннее и полнилась радостью. Столкнувшись с настоящей жизнью, она поранилась и предпочла сразу же уйти. Скорби по Офелии, если тебе угодно. Посыпай главу пеплом, горюя по удушенной Корделии. Посылай небу проклятья из-за смерти дочери Брабанцио. Только не трать слез на Сибилу Вэйн. Она была куда менее настоящей, чем ее героини.
Повисло молчание. Вечерело, в комнате стало темнеть. Из сада прокрались бесшумные, серебристые тени. Предметы утратили цвета.
Через некоторое время Дориан Грей поднял взгляд.
– Ты объяснил мне самого себя, Гарри, – прошептал он с некоторым облегчением. – Все, что ты сказал, я чувствовал, только почему-то боялся и не мог выразить словами. Как хорошо ты меня знаешь! Никогда не будем говорить о том, что было! Это чудесный опыт. Вот и все. Интересно, готовит ли для меня жизнь еще что-нибудь не менее чудесное?
– У Жизни есть для тебя все, что угодно, Дориан. Тебе, с твоей необыкновенной красотой, будет доступно все, что угодно.
– Гарри, а вдруг я постарею и покроюсь морщинами? Что станет со мной тогда?
– А тогда, – проговорил лорд Генри, поднимаясь, – тогда, дорогой мой Дориан, за победы придется бороться. Пока же они достаются даром. Нет, тебе определенно следует сохранить свою красоту. В наш век люди не способны быть мудрыми, потому что слишком много читают, и не способны быть красивыми, потому что слишком много думают. Мы не должны тебя потерять!.. Теперь поскорее переодевайся и поехали в клуб. Мы уже и так опаздываем.
– Гарри, пожалуй, я присоединюсь к тебе в опере. Я слишком устал, чтобы ужинать. Какой у твоей сестры номер ложи?
– Кажется, двадцать седьмой. Это в бельэтаже, на двери табличка с ее именем. Жаль, что ты со мной не поужинаешь.
– Не хочется, – апатично проговорил Дориан. – Но я ужасно благодарен тебе за все, что ты мне сказал! Конечно же ты мой лучший друг! Никто не понимает меня так, как ты.
– Дориан, наша дружба только начинается, – ответил лорд Генри, пожимая ему руку. – Прощай. Надеюсь, мы увидимся до половины десятого. Помни, сегодня поет Патти!
Он закрыл за собой дверь, и Дориан Грей коснулся колокольчика, вызывая слугу. Виктор принес лампы и задвинул шторы. Юноша ждал его ухода с нетерпением. Ему казалось, что сегодня слуга все делает неимоверно долго.
Едва слуга ушел, он подбежал к ширме и отодвинул ее в сторону. Нет, дальнейших перемен в картине не возникло. Портрет получил новость о смерти Сибилы Вэйн до того, как узнал сам Дориан. Портрет видел события в тот момент, когда они происходили. Злобная жестокость, исказившая красивый изгиб губ, несомненно, появилась, как только девушка приняла яд. Или результаты поступков ему безразличны? Или портрет улавливает лишь происходящее в душе? Юноша гадал и надеялся, что когда-нибудь увидит, как изображение меняется прямо у него на глазах, – и в то же время содрогался при мысли об этом.
Бедная Сибила! До чего романтично! Ей часто приходилось изображать смерть на подмостках, а потом Смерть сама пришла к ней. Как сыграла она свою страшную последнюю сцену? Проклинала ли его, умирая? Девушка погибла от любви к нему, и теперь любовь навсегда станет для него святыней. Она искупила вину, принеся в жертву свою жизнь. Он больше не станет вспоминать, что ему пришлось вынести в театре в тот ужасный вечер. Теперь при мысли о Сибиле перед ним будет возникать дивный трагический образ, посланный на сцену Жизни для того, чтобы показать подлинную сущность Любви.
Дивный трагический образ?.. Он представил ее наивный взгляд, детскую непосредственность манер, трепетную грацию, и на глаза навернулись слезы. Дориан поспешно смахнул их и снова посмотрел на картину.
Он понял, что время выбора настало. Или решение принято? Да, за него распорядилась беспредельная страсть к познанию жизни. Вечная юность, безоглядные страсти, изысканные и запретные наслаждения, разнузданные удовольствия и еще более безнравственные пороки – все это он намеревался испытать сполна. А портрету придется нести бремя его позора.
При мысли о том осквернении, что ждет прекрасное лицо на холсте, Дориану стало больно. Как-то раз, дурашливо подражая Нарциссу, он поцеловал или сделал вид, что поцеловал, нарисованные губы, улыбавшиеся ему теперь так жестоко. День за днем он сидел перед портретом, поражаясь его красоте, и иногда ему казалось, что он почти влюблен. Неужели двойник будет меняться с каждой слабостью, которой юноша поддастся? Неужели он станет чудовищен и отвратителен, и его придется прятать в запертой комнате вдали от солнечного света, что так часто золотил его дивные белокурые кудри? Жаль. Очень жаль.
На мгновение ему вздумалось пожелать, чтобы жуткая связь между ним и портретом исчезла. Она возникла в ответ на его мольбы; вероятно, точно так же она может и прекратиться. И все же кто мало-мальски сведущий в жизни отказался бы от шанса оставаться вечно юным, каким бы фантастическим ни был этот шанс или какими бы роковыми последствиями он ни был чреват? Да и вряд ли это действительно в его власти. Разве могла молитва привести к подобной замене? Вдруг всему существует какое-нибудь любопытное научное объяснение? Если мысль способна повлиять на живой организм, почему бы ей не влиять и на предмет неодушевленный? Без мысли и осознанного желания могут ли объекты внешние вибрировать в унисон с нашими настроениями и чувствами, может ли атом стремиться к атому под действием загадочного притяжения или причудливого сродства? Впрочем, причина значения не имеет. Больше он никогда не обратится к помощи темных сил. Если картина должна меняться, пусть себе меняется. Вот и все. К чему вникать в подробности?