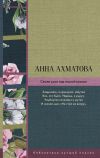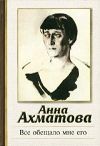Читать книгу "Невероятная жизнь Анны Ахматовой. Мы и Анна Ахматова"

Автор книги: Паоло Нори
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
4.6. То время
Выше я уже говорил, что, работая над диссертацией, переживал один из прекраснейших периодов в жизни. Я понимаю, что, если судить по описанию тогдашних событий, может показаться, что не так уж все было радужно, но это действительно было прекрасное время – хотя бы потому, что я писал диссертацию, посвященную поэту и его поэзии.
Как рассказывал секретарь Анны Ахматовой, в последние годы, когда кто-нибудь писал ей, что в трудные минуты находил утешение в ее стихах, она тут же диктовала в ответ: «Мои стихи никогда не были для меня утешением. Я всегда жила так – безутешно. Подпись: Ахматова».
4.7. А-а-а-а
Хозяйка квартиры в доме на набережной, куда я переехал, с первого же дня, едва я у нее поселился, смотрела на меня с подозрением – никакого доверия я у нее не вызывал. Она тут же стала забрасывать меня вопросами.
– А вы, – спрашивала она, – куда уходите на целый день?
– В библиотеку, – говорил я.
– А-а-а-а, понятно. А вы, – продолжала она, – еще студент?
– Да, – отвечал я.
– А-а-а-а, понятно. А сколько вам лет? – спрашивала она.
– Тридцать, – отвечал я.
– А-а-а-а, понятно.
Из этих разговоров было ясно, что хозяйка квартиры в доме на набережной, когда я у нее поселился, поначалу сама была не рада, что сдала мне комнату, и без особой охоты пригласила меня на свой день рождения; а вот я был очень этому рад: в то время я уже начал иначе смотреть на свою диссертацию – это было через несколько дней после того, как я совсем другими глазами взглянул на Ленинскую библиотеку в Москве.
Хозяйка квартиры в доме на набережной пригласила на день рождения всех коллег-архитекторов. Как архитектор на государственной службе в постперестроечной России, она, к сожалению, зарабатывала такие копейки, что вынуждена была как-то выкручиваться и сдавать комнаты совершенно незнакомым людям, которые, даже если не вдаваться в детали, выглядели подозрительно, расхаживали по квартире, рыская по ее гостям шпионским взглядом, а она, как человек воспитанный, вынуждена была приглашать их на свои дни рождения, включая не только обычные дни рождения, но и те, на которых среди приглашенных коллег присутствовал архитектор по имени Володя, высокий, большой, с двумя очень крупными и далеко отстоящими друг от друга передними зубами. Он был в прекрасном расположении духа, то и дело произносил тосты, болтал со всеми направо и налево – он производил приятнейшее впечатление, этот архитектор Володя, бывший коллега хозяйки квартиры в доме на набережной.
4.8. Послушайте
– Послушайте, – улучив момент и отведя меня в сторону, обратилась ко мне хозяйка, и по ее тону было понятно, насколько ей трудно говорить о том, что она собирается сказать, но, видимо, она считала, что незнакомых людей, снимавших у нее жилье и похожих на шпионов, она обязана не только приглашать на празднование дня рождения, но еще и отводить в сторонку и объяснять им некоторые вещи, иначе они поймут все неправильно и потом, вернувшись на Запад, начнут распространять неправильную информацию с целью дискредитации Союза московских архитекторов, даже если все так и есть и они видели это своими глазами. – Послушайте, – сказала она мне извиняющимся тоном, в котором угадывалась досада, – вы не подумайте, что Володя всегда такой. Дело в том, что три месяца назад он уволился – его государственной зарплаты не хватало, чтобы содержать трех бывших жен, и он ушел на вольные хлеба и поэтому три месяца не выходил из дому. Он просто хочет немного расслабиться, а вообще он человек очень воспитанный, очень образованный: вот он немного придет в себя, и вы сами в этом убедитесь, – сказала мне хозяйка квартиры.
– Что вы, не волнуйтесь, не вижу в этом никакой проблемы, наоборот, Володя мне очень нравится, – заверил я.
– А-а-а-а, – протянула хозяйка квартиры, – понятно, – и посмотрела на меня все тем же подозрительным взглядом, словно говорившим, что за мной нужен глаз да глаз.
Тем не менее она была права, говоря, что Володя скоро придет в себя, – так оно и вышло, стоило ему только заговорить со мной.
4.9. Володя
Когда я вернулся в гостиную, он подошел ко мне.
– А вы, – спросил он, – чем занимаетесь?
– Я филолог, – ответил я.
– Отлично, – сказал Володя. – Выпьем за филологию, – предложил он и наполнил мой бокал, потом наполнил свой, и мы выпили за филологию. — А почему именно в России? — спросил он.
– Я собираю материал для диссертации, — ответил я.
– Отлично, – сказал Володя, – выпьем за сбор материала для диссертации, – и наполнил мой бокал, затем налил себе, и мы выпили. – А как называется ваша диссертация? – задал он еще один вопрос.
– Велимир Хлебников и четвертое измерение языка, теория и практика языкознания, – ответил я.
– Отлично, – сказал Володя, – выпьем за…
И замолк на полуслове. Глаза его расширились, и он залился слезами. Все разговоры стихли, все взгляды устремились на Володю. Никто не понимал, что происходит.
– Володя, что с тобой? – посыпалось со всех сторон, но Володя молчал.
Он сидел на стуле, обхватив голову руками и согнувшись пополам; страшные рыдания сотрясали его тело, и это выглядело тем более удивительно, что он был очень высоким и большим, этот московский архитектор с двумя очень крупными и далеко отстоящими друг от друга передними зубами.
– Что вы ему сказали? – допытывалась хозяйка, злобно глядя на меня.
– Я? – удивился я. – Ничего.
Хозяйка посмотрела на меня точно таким же взглядом, каким одарил меня в две тысячи первом году какой-то петербуржец. Тем утром я сидел на земле в парке между Малым и Средним проспектами Васильевского острова и курил сигарету. Пробежав по парку свои четыре круга, я сел передохнуть, прежде чем качать пресс, и тут вижу, ко мне направляется нетвердой походкой некий господин с бутылкой красного вина в руке.
– Штопор есть? – спрашивает он, приблизившись.
– Штопор? – переспрашиваю я.
– Штопор, – кивает он. – Есть или нет?
– Нет, – отвечаю я, – у меня нет штопора.
Он смотрит на меня со смесью разочарования и презрения во взгляде, взмахивает рукой, протягивает: «А-а-а-а», – разворачивается и шатающейся походкой отправляется на поиски другого посетителя парка, у которого найдется штопор.
Хозяйка квартиры в доме на набережной в девяносто третьем году не взмахивала рукой, не говорила: «А-а-а-а», – но посмотрела на меня точно таким же взглядом. Затем наклонилась к Володе и стала гладить его по спине, сотрясавшейся от безутешных рыданий.
– Ну ладно, ладно, – успокаивала она его, – ты слишком долго не выходил из дому, поэтому стал таким впечатлительным, но ведь ничего не случилось, вокруг твои друзья, мы все тебя любим, успокойся, Володя, – уговаривала Володю хозяйка квартиры, и он начал понемногу приходить в себя. Отнял руки от лица, поднял голову и направил на меня указательный палец:
– Он… он сказал, он… он…
– Что он тебе сделал? – спрашивала хозяйка и при этом смотрела на меня так – даже еще хуже – будто у меня не было с собой штопора. – Что он тебе сделал? Не бойся, – говорила она Володе, – расскажи нам, мы этого так не оставим.
– Он, – произнес Володя, и голос его дрожал, – он, – указывал он на меня пальцем, – он пишет диссертацию о… о… о… о… Хлебникове! – проговорил Володя и заплакал, потом обхватил голову руками, собрался с силами и затрясся в рыданиях.
– А-а-а-а, – сказала хозяйка квартиры, – понятно.
– Что тебе понятно? – спросил ее коллега-архитектор.
– Ничего, – ответила она, – я сказала просто так, я ничего не понимаю.
И это была правда – никто ничего не понимал.
Тогда, в девяносто третьем году, в доме на набережной потребовалось немало времени, чтобы добиться от Володи, почему тот факт, что я пишу диссертацию о Хлебникове, так расстроил его и так глубоко задел. Каждый раз, как только он чуть успокаивался, его снова принимались спрашивать:
– Ну и что? Ну пишет он диссертацию о Хлебникове, так что, из-за этого надо плакать?
И Володя каждый раз поднимал голову и указывал на меня пальцем:
– Он, – произносил он, – он… он… он… пишет диссертацию о… о… о… о Хлебникове, – и снова заливался слезами.
Пусть и не сразу, но он смог взять себя в руки и в конце концов объяснить, что после распада советской империи в России пришло поколение, которое было озабочено исключительно деньгами и кичилось их наличием. Эти люди, говорившие по-английски и платившие долларами, заставили целую страну развернуться вокруг своей оси: в постперестроечной России жизнь у всех изменилась – теперь все гонялись за деньгами, чтобы выучить английский, чтобы рассчитываться в долларах, чтобы не отставать от Запада, как они говорили.
– У нас у всех жизнь тоже изменилась, – продолжал Володя, – никто не хочет отставать от Запада. И вот я узнаю, что на Западе есть люди, которые приезжают в Россию изучать Хлебникова, величайшего русского поэта ХХ века, не имевшего за душой ни копейки, чего западные люди вообще-то терпеть не могли, а тут выясняется, что Хлебникова изучают на Западе, тогда как у нас, в России, молодежь понятия не имеет, кто такой Хлебников, – говорил Володя в девяносто третьем году, – это несправедливо, это какая-то насмешка, издевательство. Не принимай это на свой счет, – сказал мне Володя в доме на набережной, и мы крепко обнялись, а я чуть не расплакался.
Я еле сдерживался и пытался думать о чем-то другом, чтобы не разразиться громкими рыданиями, потому что, если бы я разрыдался вслед за ним, меня бы неправильно поняли в этом доме на набережной в девяносто третьем году, и через Володино плечо я пытался поймать взгляд хозяйки, которая больше не повторяла: «А-а-а-а, понятно», – я смотрел на нее сначала с вызовом, а потом уже миролюбиво. «Ну ты и дура, – говорил мой взгляд, – но я тебя прощаю». А с Володей мы потом подружились, он дал мне свой номер, чтобы я звонил ему, приглашал меня в гости: «Съедим пару огурчиков», – заманивал он меня. «Ну да, ну да, – думал я, – знаю я твои огурчики».
4.10. Русские
Что у них в головах, у этих русских?.. Явно что-то не то – их головы даже свиньи есть не станут[16]16
Обыгрывается итальянская поговорка Ha una testa che non la mangerebbero nemmeno i maiali, в дословном переводе: его голову не станут есть даже свиньи (животные, которые считаются всеядными). Так говорят о людях с приветом, со странностями.
[Закрыть]. Волей-неволей задумаешься о себе и мысленно порадуешься, что есть в мире такое место, как Россия, где живут люди с такими странными головами, что их не едят даже свиньи. Ума не приложу, что бы я делал, если бы России не было.
4.11. Философия одного переулка
Но я несколько отклонился от темы, так что пора вернуться к тому моменту в декабре девяносто третьего года, за несколько дней до описанного дня рождения в доме на набережной, когда я сидел в Ленинской библиотеке в Москве, – к моменту, который в суфизме назвали бы высшей точкой стадии физических чувств, когда мне хотелось быть где угодно, только не в Ленинской библиотеке в Москве, и заниматься чем угодно, только не писать диссертацию, и когда я начал читать книгу, не имевшую никакого отношения к моей диссертации, – роман «Философия одного переулка», рассказывающий о друзьях детства, которые родились в домах, выходивших на один и тот же московский двор – философский двор, как называет его автор. В Москве, по словам автора, были философские дворы, математические дворы, дворы рабочих и дворы художников, оперные и шпионские дворы, и главные герои этого романа родились в переулке, выходившем на философский двор, потом они станут философами и, независимо от того чем будут заниматься в жизни, все равно будут делать это по-философски, точно так же, как рабочий, который родился в доме, выходившем окнами на шпионский двор, будет делать все «по-рабоче-шпионски», – пишет автор, а может, я что-то не так запомнил, может, он этого и не писал[17]17
Авторский текст действительно несколько отличается. О московских дворах Пятигорский пишет: «Были дворы художников, дворы графоманов, дворы насильников и хулиганов. Были, конечно, и такие, то есть, безличные дворы, – но о таких я не говорю. Твой двор был – философский, что, конечно, никак не означало, что ваши ребята были – или потом стали – философами».
[Закрыть], но по смыслу очень близко.
Начало книги мне понравилось, и я стал размышлять, в каком переулке родился я. Я появился на свет в Парме, в больнице «Пикколе филье» на виа По, а окна моего дома выходили на школьный лагерь, а может, на двор для занятий легкой атлетикой, вспоминал я, и мне пришло в голову, что, и вправду, я почти всегда брался за дело с энергией и легким безрассудством бегуна. В суфизме есть для этого более подходящее слово – экзальтированно, но тогда, в девяносто третьем, я его не знал.
Начало увлекло меня, и я углубился в чтение романа в Ленинской библиотеке в Москве и дошел до того момента, когда дети из философского переулка выросли, начали курить, один из них стал посещать Ленинскую библиотеку, и однажды в курилке Ленинки (в российских библиотеках есть комната, в которой курильщики вроде меня проводят в среднем двадцать процентов времени пребывания в библиотеке) этому ребенку-философу пришла в голову мысль, что здесь, в курилке Ленинской библиотеки в Москве, собрались лучшие умы современности, люди, которых он, скорее всего, даже не знает в лицо, но чьи удивительные произведения он, возможно, читал или еще прочтет.
4.12. Курильщики
И вот, помню, в Ленинской библиотеке в Москве в девяносто третьем году я закрыл книгу и пошел в курилку. На курильщиков, собравшихся в этой комнате Ленинки, я взглянул с каким-то новым интересом, по всей видимости отстраняясь от привязанности к земле и обращаясь к небу в стремлении к подлинным ценностям, ибо, как сказано в «Очищении ума» Хазрата Инайята Хана, когда сознание поглощено физической материей, человек тянется к земле, а когда сознание освобождается от физической материи, он устремляется к небу.
Даже если в декабре девяносто третьего мне, судя по всему, не удалось полностью освободиться от физической материи, факт остается фактом: прочитав первую часть «Философии одного переулка», я с гораздо большим интересом начал присматриваться к завсегдатаям библиотечной курилки и, выходя на перекур, стал нарочно задерживать взгляд, и мы обменивались кивками типа: «А, ну да…»
Как-то так.
4.13. Финал
Так или иначе, но, несмотря на те внутренние границы, которые я устанавливал для себя в начале девяностых и которые, по большей части, сохранились и к две тысячи второму году, лица завсегдатаев курилки Ленинской библиотеки в Москве девяносто третьего года надежно запечатлелись в памяти. А теперь самое время припомнить, что сказал Эмилио в двухтысячном году про библиотеки и тотализатор на ипподроме, и перейти к слабенькому финалу, ради которого я и затеял это несколько затянутое отступление. Прошу прощения, что вышло так длинно, но, как говорится, у меня не было времени написать короче.
Что я хочу сказать. Мои наблюдения в курилке Ленинской библиотеки в девяносто третьем, девяносто четвертом и девяносто пятом годах, а также в курилке Публичной библиотеки в Петербурге в девяносто пятом, двухтысячном, две тысячи первом и две тысячи втором навели меня на мысль, что посетители российских библиотек, равнодушные к своему внешнему виду, неряшливо одетые, перевозбужденные, часто разговаривающие сами с собой, заядлые курильщики, нервные и восторженные, чем-то напоминают итальянцев, делающих ставки на ипподроме: такое впечатление, что, приходя в библиотеку, они с минуты на минуту ждут каких-то удивительных событий, которые изменят их жизнь, и им не терпится с кем-то поделиться.
4.14. О Хлебникове
Итак, на этом я ставлю точку в старых записях, но дополню их одной мыслью, которая пришла мне только сейчас, через двадцать с лишним лет.
Сегодня, спустя два десятилетия, я, наоборот, говорю о Хлебникове все реже. Почему так происходит, я и сам до конца не понимаю.
Вероятно, потому, что Хлебников, насколько я могу судить, гораздо больше того, что о нем можно рассказать.
Шкловский называл его чемпионом, Якобсон считал величайшим мировым поэтом ХХ века; Тынянов говорил, что он «присутствует как направление»; Марков называл его Лениным русского футуризма[18]18
Дословная цитата: «Русский футуризм без Хлебникова был все равно что большевизм без Ленина» (В. Марков. История русского футуризма. 1968).
[Закрыть]; Рипеллино[19]19
Angelo Maria Ripellino (ит. 1923–1978) – итальянский литературовед, переводчик (русист), поэт.
[Закрыть] видел в нем поэта будущего. На мой взгляд, все они правы, и в то же время, думаю, каждый из них в чем-то ошибается, потому что Хлебников – это нечто большее.
Меня Хлебников неизменно потрясает: он настолько грандиозен, в нем такая мощь, что иногда о нем даже страшно говорить: у меня нет уверенности, что я вообще могу объяснить, кто он такой на самом деле.
Погружаясь в Хлебникова, я обретал зрелость.
Сколько раз за эти годы в памяти всплывал «Закон качелей»:
Закон качелей велит
Иметь обувь то широкую, то узкую.
Времени то ночью, то днем,
А владыками земли быть то носорогу, то человеку.
И как часто, когда я приезжаю в Россию и первым делом смотрю на небо, мне вспоминаются эти строки Хлебникова:
Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока,
Да это небо,
Да эти облака!
И сколько раз, когда я думал о Тольятти и Батталье, на память приходило начало стихотворения Хлебникова: «Девушки, те, что шагают // Сапогами черных глаз // По цветам моего сердца».
Так оно и бывает: они вышагивают туда-сюда, и все у них хорошо.
А сколько раз, когда у меня внезапно менялось настроение, я вспоминал слова Хлебникова, что начиная с ХХ века уже мало просто вести дневник – нужно вести точный реестр[20]20
«Деловое предложение: записывай дни и часы чувств, как если бы они двигались, как звезды», – из письма В. Хлебникова В. В. Каменскому, 1914 год.
[Закрыть].
И записную книжку, которую я всегда ношу с собой в рюкзаке, я так и называю: реестр.
4.15. Глупая фраза
Я всегда хожу с этими несовременными реестрами родом из ХХ века: электронному ежедневнику я предпочитаю бумажный, ведь так приятно лишний раз сказать: «Я не взял с собой ежедневник».
Такая глупая фраза из ХХ века, анахронизм, но она мне нравится.
4.16. Роли
В конце февраля в Лейденском университете в Нидерландах был отменен показ шедевра Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» во избежание дискуссий, связанных с ситуацией на Украине.
Одновременно в Испании запретили показ «Соляриса» Тарковского, а в Литве решили не показывать документальный фильм о Велимире Хлебникове, царствие ему небесное, – о поэте, написавшем стихотворение «Отказ». Вот оно:
Мне гораздо приятнее
Смотреть на звезды,
Чем подписывать
Смертный приговор.
Мне гораздо приятнее
Слушать голоса цветов,
Шепчущих: «Это он!» —
Склоняя головку,
Когда я прохожу по саду,
Чем видеть темные ружья
Стражи, убивающей
Тех, кто хочет
Меня убить.
Вот почему я никогда,
Нет, никогда не буду Правителем!
Мальчишкой, когда я позволял себе какие-нибудь шалости и огорчал маму, она говорила: «Паоло, как ты до такого докатился!»
Вот и мне в те дни все время хотелось спросить: «Люди, как мы до такого докатились?»
Несколько дней спустя Кардиффский филармонический оркестр убрал из программы концерта увертюру Чайковского «1812 год», посчитав ее исполнение «неуместным в такой момент».
Узнав об этом, я окинул взглядом свои русские книги и спросил себя: «Что мне сделать, чтобы быть хорошим европейцем. Выбросить их?»
Когда чуть позже в миланском театре одна милейшая журналистка спросила меня, какая роль отводится сейчас работникам умственного труда, я ответил: «Я рад, что вы задаете мне этот вопрос. Несколько лет назад похожий вопрос задали великому русскому поэту Иосифу Бродскому, на что он ответил: „Писать хорошо“. Это трудная роль», – сказал я.
4.17. Золото
В середине апреля я был в Милане. Прочитав лекции, я поехал обратно на вокзал, откуда отходил поезд в Болонью. Чтобы попасть на платформы миланского вокзала, нужно отстоять очередь и показать билет. А случилось так, что за несколько дней до этого я стал обладателем золотой карты «Трениталии»[21]21
Trenitalia (ит.) – основной железнодорожный оператор Италии.
[Закрыть].
Как я до этого докатился? Золотая карта «Трениталии»…
И вдруг я обнаружил, что на вокзале есть боковой вход, но тех, кто пытается через него пройти, как правило, останавливают и отправляют обратно в очередь. Однако если вы подходите и на вопрос «Первый класс?» отвечаете: «У меня золотая карта», то перед вами расступаются и, произнеся «пожалуйста», пропускают, даже не попросив предъявить билет или карту.
И мне такое положение вещей нравится.
В первый раз я приехал в Россию в 1991 году, через несколько месяцев после открытия «Макдоналдса» в Москве. Я пошел в московский «Макдоналдс». Там тоже было два входа: один для русских – к нему вела длинная очередь, другой для иностранцев – без очереди. Я прошел через вход для иностранцев, сгорая от стыда, словно что-то украл.
Сейчас мне уже не стыдно.
Мне это нравится.
Мне нравится иметь привилегии.
Это вам не: «Мне мало надо! Краюшку хлеба и каплю молока» и так далее.
4.18. В поезде
Садясь в поезд, я вспоминал одну фразу из спектакля под названием «Попросите меня одеться как итальянец, и я не буду знать, что надеть», который уже несколько лет мы показываем с актером и режиссером Никола Боргези.
В одной из сцен речь идет о том, что был такой знаменитый француз, великий писатель Стендаль, который очень любил Италию. Особенно ему нравилось, что итальянцы в те времена не стыдились быть бедными.
Когда я впервые прочитал об этом у Стендаля, то вспомнил свою бабушку. Она рассказывала, что у них дома было хоть шаром покати, а когда кончались деньги, они устраивали праздник, и она не стыдилась того, что выросла в нищете – она словно оправдывала ее, свою бедность, и, когда разговаривала, ее голос менялся, а тон утверждал: «Вот она я, видишь? Я тоже имею право быть здесь, верно? Как и ты» (внимательные читатели помнят начало этой книги).
Я думал о том, что после рождения Баттальи мне, наоборот, было бы стыдно быть бедным, я не хочу, чтобы Батталья в чем-то нуждалась.
Интересно, что подумал бы обо мне Стендаль.
Моя бабушка Кармела Стендалю понравилась бы. А вот я – вряд ли.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!