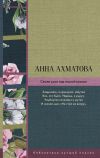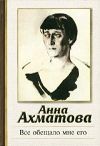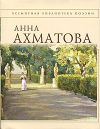Текст книги "Невероятная жизнь Анны Ахматовой. Мы и Анна Ахматова"

Автор книги: Паоло Нори
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
4.19. Из этой произвольной точки
И по дороге домой я размышлял, что можно рассказать о жизни Анны Ахматовой сейчас, в 2022 году, сидя в этом поезде, который пересекает Паданскую равнину, находясь в этой произвольной точке на территории, именуемой Западом. Рассказать о символизме, акмеизме, кларизме[22]22
Кларизм – малочисленное течение в русской поэзии начала ХХ века, возглавляемое М. Кузьминым; противостояло символизму, призывая обращаться к реальности, «прекрасной ясности».
[Закрыть], адамизме[23]23
Адамизм – синоним акмеизма; символизирует первобытную силу, «твердый взгляд на вещи».
[Закрыть], имажинизме, футуризме, эгофутуризме, кубофутуризме, лучизме[24]24
Лучизм – течение в русской авангардной живописи 1910-х годов, основанное М. Ларионовым; одно из ранних направлений абстракционизма.
[Закрыть], центрифугизме, фумизме[25]25
Фумизм – условно-декадентское парижское течение, просуществовавшее с 1870-х по 1920-е годы и описываемое как «искусство пускать пыль в глаза»; предтеча дадаизма.
[Закрыть] и многих других -измах, которые росли как грибы в первые десятилетия ХХ века в Москве и Петербурге; рассказать о Париже и Модильяни, Первой мировой войне, революции, «Цехе поэтов», материнстве, разводе, расстреле бывшего мужа; о кабаре «Бродячая собака»; о друге, который так читал свои стихи, что казалось, «будто лебедь взлетает над всеми»[26]26
Из воспоминаний Анны Ахматовой о собраниях «Цеха поэтов» и выступлениях Осипа Мандельштама.
[Закрыть]; о том друге, который ходил по московским домам и читал антисталинское стихотворение, а потом говорил: «Если дойдет, меня могут… расстрелять!»[27]27
Эта фраза известна из воспоминаний Эммы Герштейн: «И он снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением <…> Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился: – Смотрите – никому. Если дойдет, меня могут… РАССТРЕЛЯТЬ!» (Э. Герштейн. Мемуары, 1998).
[Закрыть]; об аресте этого друга, о телефонных звонках из Кремля; об аресте сына, очередях перед самой большой тюрьмой в Советском Союзе[28]28
«Кресты», тюрьма, в которой сидел арестованный Лев Гумилёв и перед которой Ахматова простаивала в очередях, не самая большая тюрьма в Советском Союзе. Самой крупной считается Бутырская тюрьма: в 1930-е годы в ней содержалось почти в два раза больше заключенных, чем в «Крестах».
[Закрыть]; о поездках в Москву, прошениях, разводах, расстрелах, коммуналках, Фонтанном Доме, Второй мировой войне, блокаде Ленинграда; о патриотических стихах, исключении из Союза писателей, о самиздате, микрофонах в доме, о страхе; о петербургском трамвае, о том, как одолеть пешеходу длинный Невский проспект; о славе, об отчаянии, о ее ужасной и одновременно чудесной жизни – чтобы рассказать обо всем этом из настоящего, в котором нам тоже приходится думать о гибели людей и переживать боль, имея в кармане золотую карту «Трениталии», чтобы справиться с нелегкой задачей, которую Бродский называл «писать хорошо», нужна одна простая вещь: быть хорошим.
4.20. Хорошие
Всю жизнь я хотел быть хорошим.
С детства мне твердили, что, если я буду хорошим, то попаду в рай. И я в это верил.
Я не спал по ночам, все спрашивая себя: «Что нужно делать, чтобы быть хорошим? Что нужно делать, чтобы стать святым?»
Пока однажды на вокзале в Парме, когда мне было уже за сорок, думая о чем-то совсем другом, открыв портфель и вспоминая, положил ли я билет на поезд, я вдруг поймал себя на мысли, что мы поступаем хорошо не потому, что мы хорошие, а мы поступаем хорошо, если у нас все хорошо.
И наши врожденные качества тут ни при чем: никому не предначертано еще до его рождения спастись или погибнуть – все зависит от того, как мы поступаем каждый день; и то ценное, что в нас есть, созидается ежедневно, но иногда мы чего-то стóим отнюдь не благодаря нашим усилиям, а потому, что мир внезапно делится с нами чем-то ценным. Например, мне такой ценный подарок преподнесла простая советская окраина, где меня впервые осенило, что у меня может быть ребенок.
4.21. Русский чиновник
Когда я пишу о дочери, я называю ее Батталья.
Когда я пишу о матери своей дочери (выше я упоминал о ней), я называю ее Тольятти, потому что у нее есть диплом по истории Советского Союза и потому что характер у нее довольно ершистый, но не это сейчас важно, а важен как раз Советский Союз.
Когда я приехал сюда впервые, Россия еще была одной из республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик.
Это было в марте 1991 года.
В той моей Москве девяносто первого года из всех возможных вывесок я чаще всего натыкался на табличку «Не работает», висевшую на телефонах-автоматах и автоматах по продаже газированной воды. Не работало почти ничего, но у меня все было отлично. Жил я в пригороде, недалеко от станции «Бабушкинская» (оранжевая ветка), и мне было достаточно уже того, что по вечерам я смотрел в окно, окруженный восемнадцати-, двадцати– и двадцатичетырехэтажными высотками, и, поскольку русские не задергивают шторы, с шестнадцатого этажа я мог наблюдать сотни русских семей – бесценное зрелище.
В то время я курил, а русской семье, в квартире которой я проживал, не нравилось, когда в их доме курили, поэтому я брал сигареты и выходил на лестничную площадку – довольно неприятное место. Там была такая штука, которую называют мусоропровод: труба, проходившая через все семнадцать этажей дома, в которую сбрасывали мусор; от нее исходил специфический и довольно скверный запах, он пропитывал лестничную площадку этого многоквартирного дома на окраине Москвы, где в начале девяностых я курил болгарские сигареты, к слову сказать паршивые, и однажды вечером, когда я вышел на эту лестничную площадку, пропитавшуюся запахами помойки, этими специфическими запахами советского мусора, и закурил сигарету, перекатывая в голове вопросы типа: «И зачем я курю болгарские сигареты? И зачем только я привез их из Италии?» – двери лифта вдруг разъехались, и из него вышел человек в пальто пепельно-серого цвета, в такой же серой меховой шапке, с пепельно-серой сумкой из искусственной кожи, с нерастаявшим серым снегом на плечах. Стоял апрель, шел снег, было шесть вечера, и этот советский бюрократ средних лет, по-видимому, возвращался с работы. Человек без капли обаяния, один из очень немногих русских с нулевой харизмой, которых мне довелось увидеть на тот момент, – а я провел в России двенадцать дней; и вот он вышел из лифта, подошел к двери своей квартиры, открыл ее ключом, и изнутри долетел голос ребенка: «Папа!»
Такой славный ребенок, любящий папу и радующийся его приходу. И я помню, как в тот момент, по сути абсолютно банальный, может быть, один из самых приземленных моментов в мой первый приезд в Россию, от одного-единственного слова все вдруг преобразилось – и я впервые в жизни подумал, что, кажется, хочу иметь детей. Позднее у меня родится девочка. А в ту минуту в первый раз за всю мою ничтожную жизнь мне захотелось иметь сына (который потом окажется дочерью), благодаря одному замечательному русскому слову «папа».
4.22. Голова
Я позвонил Альберто Ролло – он помогает мне, помимо всего прочего, держать себя в рамках, так сказать.
Мы с ним сделали шесть книг, эта седьмая. Мне кажется, мы хорошо ладим, и когда я чем-то расстроен, то звоню ему и рассказываю, что меня тревожит, а он всегда находит нужные слова и успокаивает меня.
И вот очередной раз, снова на нервах, я набрал его:
– Альберто, мне все звонят, меня ищут, приглашения поступают со всех сторон, и, знаешь, я боюсь, как бы это не вскружило мне голову.
– Но это уже вскружило тебе голову, – сказал он.
– А, спасибо, – ответил я.
И тревогу как рукой сняло.
5. Вечер
5.1. Охлаждение
До женитьбы Гумилёв, по всей видимости, был безумно влюблен в Анну Горенко, хотя стихи, которые Анна писала ему, не очень ему нравились.
«Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи, – вспоминает Ахматова, – и, пока они были плохи, Николай Степанович, со свойственной ему неподкупностью и прямотой, говорил мне это».
25 апреля 1910 года они обвенчались.
По словам Аманды Хейт, которая познакомилась с Ахматовой в последние годы ее жизни и стала, можно сказать, ее официальным биографом, семья Анны считала, что этот брак обречен, и никто из ее родственников на свадьбу не приехал.
Анна очень обиделась.
А после свадьбы ей оставалось только удивляться поведению Гумилёва.
Гумилёв – страстный исследователь, он часто уезжает за границу, оставляя Ахматову в одиночестве, он обожает Африку и заводит романы с другими женщинами, и однажды эти два увлечения весьма эксцентричным образом пересекаются.
Анна поселилась у свекрови в селе Слепнёво Тверской губернии, примерно на полпути между Москвой и Петербургом. Свекровь не совсем понимает, зачем сын привез эту долговязую девицу – дома ее называют египтянкой[29]29
На самом деле «моей египтянкой» называл Ахматову в письмах к ней Амадео Модильяни, увлекавшийся египетским искусством; а в Слепнёве, как пишет Ахматова в воспоминаниях, «тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье».
[Закрыть], в семье мужа она чужая, невестка из нее никакая, но теперь уже ничего не поделаешь. А может, это и не так.
Другой биограф Анны Ахматовой, Элен Файнштейн, написала о ней книгу, озаглавленную «Анна всея Руси» (как называла ее Марина Цветаева).
Файнштейн приводит такую историю: когда Гумилёв уехал в Африку, а Анна жила в Слепнёве, свекровь как-то попросила ее навести порядок на письменном столе сына, и, убирая, Анна наткнулась на любовное письмо от другой женщины (Ахматова подозревала, что свекровь, вероятнее всего, подстроила это нарочно).
Как пишет Файнштейн, когда Гумилёв вернулся, Анна молча вышла ему навстречу, как всегда, величественно выпрямив спину, и протянула письмо, сжимая его двумя пальцами.
Не проронив ни слова.
Я просто в восторге.
Она словно королева, которая отчитывает подданного, а он униженно молчит и только думает: «Какой же я дурак, разве можно бросать такие вещи где попало?»
Эта история стала прецедентом, вскоре она повторилась, только наоборот.
5.2. Подарок
Как пишет Ольга Черненькова, в 1911 году Анна едет в Париж одна и, вернувшись, дарит Гумилёву книгу Теофиля Готье, его любимого поэта.
Но при этом «забывает» (пишет Черненькова в кавычках) вложенное в книгу письмо от Модильяни.
«И вот она входит в комнату и видит побелевшего мужа, который сидит, склонив голову, а в руках у него это злосчастное письмо. Он молча возвращает его».
По-моему, оба молчания прекрасны.
5.3. Молча
В следующем, 1912-м году у них родился единственный сын, Лев Гумилёв. Анна отмечает в записной книжке: «Скоро после рождения Лёвы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга».
Как прекрасно это – «молча».
Они будто актеры немого кино.
Еще три года, до 1914-го, они видятся, но ведут независимую личную жизнь.
У Анны много поклонников, и все молодые.
Когда она их подсчитывала, Гумилёв говорил: «Аня, более пяти неприлично».
Такие были отношения в России сто десять лет назад.
По словам Аманды Хейт, Анне Андреевне чужда была идея, что женщины делятся на два типа: чистых и падших.
Она писала об этом в стихах, за что ее заклеймили «полумонахиней-полублудницей»[30]30
Определение принадлежит советскому партийному и государственному деятелю А. А. Жданову, который в 1946 году выступил с докладом, осуждавшим лирические стихи Ахматовой.
[Закрыть].
Какие же они все дремучие.
И какая она современная.
5.4. Брюллов
Пока Гумилёв путешествует по Африке, у Анны меняется манера письма. Она точно знает, когда это началось.
В зале Брюллова в Русском музее.
Самый известный музей Петербурга – Эрмитаж, говорят, он немного похож на Лувр. Такой русский Лувр.
В Эрмитаже я был три или четыре раза, и с тех пор прошло уже больше двадцати лет; но каждый раз, приезжая в Петербург, я иду в Русский музей, где в хронологическом порядке представлена самая крупная в мире коллекция русского искусства, начиная с икон: зрелище ни с чем не сравнимое, как будто читаешь книгу по истории: восемнадцатый век с его подражательством, необыкновенное девятнадцатое столетие, бунт будущих художников-передвижников, взрыв авангарда; а затем вдруг словно возвращение в девятнадцатый век: все эти реалистические полотна, пропорциональные фигуры, прямоугольные здания и один доминирующий цвет – красный: социалистический реализм.
Музей размещается в центре Петербурга на площади Искусств, в прекрасном дворце, который спроектировал неаполитанский архитектор Карло Росси, и мне очень импонирует, что к площади Искусств в Петербурге ведет Итальянская улица. Тольятти говорит, что я сентиментальный, – да, она права, я сентиментальный.
Брюллов – русский художник девятнадцатого века, который, как и многие русские художники того времени, подолгу жил в Италии; самая известная его картина – большое апокалиптическое полотно размером шесть на четыре с половиной метра, написанное в Италии, в котором преобладает красный цвет и которое очень нравилось Вальтеру Скотту и Стендалю. Называется картина «Последний день Помпеи», она выставлена в зале Брюллова в Русском музее в Петербурге.
Тут, рядом с «Последним днем Помпеи», зимой 1910 года Анна читала корректуру посмертного поэтического сборника Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец» и именно тогда «что-то поняла в поэзии, я была поражена и читала ее, забыв все на свете… Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было… Я написала то, что примерно стало моей книгой „Вечер“… Когда 25 марта 1911 года Гумилёв вернулся из Аддис-Абебы, попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: „Ты поэт – надо делать книгу“».
5.5. Поэт
В марте 1912 года вышел первый поэтический сборник Анны Ахматовой «Вечер» (тиражом триста экземпляров).
Стихотворение, открывающее «Вечер», Ахматова написала в 1909 году, когда ей было двадцать лет.
В нем есть такое четверостишие:
На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Как это здорово, что первая книга Ахматовой начинается с рассказа о рукомойнике. О самых обыденных вещах, о повседневной жизни.
5.6. Повседневная жизнь
Однажды Чезаре Дзаваттини[31]31
Cezare Zavattini (ит.; 1902–1989) – итальянский сценарист, прозаик, кинорежиссер, продюсер.
[Закрыть] написал письмо Франко Марии Риччи[32]32
Franko Maria Ricci (ит.; 1937–2020) – итальянский графический дизайнер, издатель и коллекционер, создатель самого большого бамбукового лабиринта в мире.
[Закрыть], в котором охарактеризовал себя так: «Я пессимист, но все время забываю об этом».
Надо же. Я тоже.
Однажды я сделал дочери небольшой подарок – купил ей маленькую авторучку и к ней картридж с голубыми чернилами.
Купить ее я собирался в магазине «Дом ручек» в Болонье, который мне очень нравился. Пришел туда – а его уже нет, на его месте магазин по продаже бальзамического уксуса.
И меня это не обрадовало.
Я нашел ручку в Интернете.
Доставили ее быстро, и Батталья так обрадовалась, что чуть позже я подарил ей еще одну. И я думаю, что именно это, как бы правильно выразиться, чувство удовлетворения, которое испытываешь, видя радость другого человека, как в нашем случае, именно это и значит быть хорошим.
И необязательно, чтобы этим другим человеком была твоя дочь. Для меня это может быть какая-нибудь незначительная мелочь вроде того случая в Миланском университете лингвистики и коммуникаций, где я преподаю перевод с русского языка: я входил в дипломную комиссию и помню, как одна студентка (студентка не моя, она изучала испанский язык) получила максимальные 110 баллов, и, когда огласили ее результаты, ее захлестнула такая радость, что она стала суетливо махать руками, не зная, куда их девать, и это было прекрасное зрелище.
Это тоже значит быть хорошим – испытывать радость, когда что-то замечательное происходит с человеком, которого ты даже не знаешь, как это случилось тогда со мной в Миланском университете. Но в голову приходит одно возражение.
То, что я рассказываю, те примеры, которые привожу, все это взято из повседневной жизни.
А ведь такая важная вещь, как добро, открывающее двери рая (тем, кто в него верит), должна как-то отражаться и в ноуменальном[33]33
Ноуменальный – в идеалистической философии сверхчувственный, недоступный чувственному восприятию.
[Закрыть] мире, если я правильно понимаю значение слова «ноуменальный».Не может быть, чтобы она ограничивалась только повседневностью, обыденными вещами.
О романах, которые я пишу, мне тоже не раз говорили: «Ты всегда рассказываешь о повседневной жизни». На это я могу ответить, что, если я как-то и связан с миром, то через повседневность, через будни.
Жизнь в еженедельной, ежемесячной, ежегодной перспективе – это не совсем мое, я плохо в ней ориентируюсь, и совсем другое дело – ежедневная жизнь.
Ну не знаю, возьмем что-нибудь не самое будничное, что-нибудь исключительное, например любовь, – настолько уникальное чувство, настолько сильное и необыкновенное, нечто такое огромное, что оно даже слегка раздражает. Да и сам этот глагол «любить»: «люблю тебя», вот это вот «я люблю тебя» – я никогда никому этих слов не говорил, и я боюсь, что если когда-нибудь скажу кому-то всерьез: «Я тебя люблю», – мое лицо разлетится вдребезги, и придется собирать разбросанные по полу осколки. Я не могу сказать «я тебя люблю» еще и потому, что мой итальянский язык уходит корнями в язык моей матери Лилианы и бабушки Кармелы – в их пармский диалект, а на пармском диалекте, как я понял несколько лет назад, не говорят: «Я тебя люблю», а говорят: «At voj ben» («Ты мне дорог»), а a mor на пармском диалекте означает не amore – любовь, а «я умираю», а это все-таки нечто иное.
Русский писатель Николай Лесков вспоминает случай, как одна дама призналась ему, что изменила мужу. Она спрашивала у Лескова, следует ли ей открыться и рассказать супругу об измене. В ответ писатель спросил у нее: «А вы его любите?»
Она задумалась, а потом сказала: «Крестьянки наши не говорят: «он меня любит»; они говорят: «он меня жалеет». Слово любить-жалеть, – заключила дама, – значит: любить в обыденном смысле».
И, на мой взгляд, это тоже объясняет, что такое быть хорошим: когда ваша жена или ваш муж не только любят вас, как могут, но и – по умолчанию – обязательно жалеют.
Если вернуться к теме повседневной жизни, не могу не вспомнить одну мысль, которую услышал как-то по радио в программе «Люди и пророки» (она мне очень нравилась, когда ее вела Габриэлла Караморе). Однажды у падре Энцо Бьянки спросили, молится ли он каждый день, на что он ответил: «Самые важные вещи – те, что мы делаем каждый день», – это к слову о повседневной жизни. И, хотя сам я не молюсь и не верю в Бога, я думаю, он прав.
Что я хорошо усвоил – а пожил я уже немало, мне почти шестьдесят – и это только подтвердилось в последние годы, убедив меня окончательно: мой самый большой враг – я сам.
Применительно к проблеме добра это означает, что, пока я сохраняю внутреннюю чистоту, никакая внешняя грязь мне не страшна. Звучит странно, я знаю, но такова реальность.
А еще я знаю, что у моей дочери в голове гораздо меньше всякого хлама, чем у меня.
Моей дочери семнадцать лет, и ее не нужно убеждать сортировать мусор – она и так это делает.
Ее не нужно было уговаривать делать прививки – она сама их требовала.
Ее не приходилось разубеждать в превосходстве белой расы, в том, что люди разных рас не хуже и не лучше других, – она это знала, потому что у нее в классе учатся дети со всех концов света, и она никогда не была расисткой, а я был.
Не могу обойти и тот факт, что для меня, как и для Дзаваттини, нормально быть пессимистом, но все время забывать об этом – потому что у меня есть такая дочь. В ней нет ничего особенного (то есть, на мой взгляд, она необыкновенная, но я сужу субъективно), подавляющее большинство ее друзей точно такие же, у них гораздо больше порядка в головах, чем у нас.
5.7. A mor
Ахматова говорит о состоянии, для которого у меня нет названия. На пармском диалекте оно звучит как «а мор».
Она описывает его так:
Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.
5.8. Грусть
«Грусть была действительно наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже когда она улыбалась», – писал Анненков.
В 1912 году, когда Анне было двадцать три, вышла ее первая книга стихов, которую она назвала «Вечер», словно книга была последней. Они с мужем решили поехать в Италию, ее любимую Италию. А через много лет, вспоминая то время, она напишет:
«Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз (если я видела все контрафакционные издания). Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, „чтобы не расстраиваться“. От огорчения, что „Вечер“ появился, она даже уехала в Италию (1912 год, весна), а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: „Какие они счастливые – у них не выходит книжка“».
5.9. Успех
«Вечер» пользуется успехом, все его хвалят.
Через десять лет после выхода «Вечера» критик Борис Эйхенбаум напишет: «Десять лет минуло с того дня, когда мы увидели первую книгу стихов Анны Ахматовой… Мы недоумевали, удивлялись, восторгались, спорили и, наконец, стали гордиться».
Гумилёв, до этого считавший Анну в некотором смысле своей ученицей, теперь всячески ее поддерживает.
Их романтические отношения потерпели крах, но их творческий союз, то, как они, оба поэты, уважали, высоко ценили и помогали друг другу, – это было достойно восхищения. Ахматова и слышать не хотела о Дмитрии Мережковском и Зинаиде Гиппиус, очень влиятельных в то время, потому что они скверно обошлись с Гумилёвым. Выставили его на посмешище.
А вот как муж и жена Анна и Николай, напротив, не хотели ни помогать друг другу, ни жалеть.
Поэзия не самый надежный источник биографических фактов, но, по мнению многих биографов, как минимум одно стихотворение из «Вечера» навеяно ссорой Ахматовой и Гумилёва.
Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
Должно быть, жить с Ахматовой было нелегко. Как и любой из нас, к слову сказать, она умела быть доброй, ей очень нравилось делать подарки. Однажды, получив гонорар за переводы, она подарила автомобиль Алексею Баталову[34]34
По воспоминаниям Алексея Баталова, Ахматова отдала ему тогда весь гонорар, чтобы он смог купить себе костюм и приодеться, – по возвращении из армии его гардероб ограничивался старой шинелью. Но по дороге в комиссионный магазин он зашел на авторынок, где продавали подержанные машины. Денег, полученных от Ахматовой, хватило как раз на старенький «москвич».
[Закрыть], у родителей которого подолгу жила в Москве, и это в пятидесятые годы, когда личных машин в СССР почти ни у кого не было! (Не могу не отметить, что в Советском Союзе, при всех его недостатках, переводчикам платили очень хорошо.)
Анатолий Найман пишет, что Ахматова часто повторяла: «Добро делать очень трудно; зло делать просто, а добро очень трудно».
Как и все мы, она делала и то и другое.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?