Читать книгу "Салон в Вюртемберге"
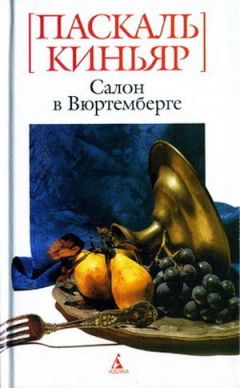
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
– Черт подери! – бормотала она, широко зевая. – Вы уже здесь! Ну, ваш внедорожник просто „Тальбот-Лаго" какой-то!»
Я набрасываю эти строки как бог на душу положит. Мне кажется, именно так, в хаотичном нагромождении воспоминаний, я могу воссоздать свою судьбу, вернуть назад частички своей жизни. Так бросают арахис мартышкам или рыбу в пасть медведю.
Дельфина обучала меня убивать воробьев стрелами из игрушечного пистолета. Ибель читала, положив ноги на садовый стол; ее узенькая, высоко подобранная юбочка – такие лишь недавно вошли в моду и назывались мини-юбками – обнажала доверху длиннющие, молодые, тонкие ноги, черные от загара. Или же я видел ее силуэт в единственном оконце домика, из тех, что во Франции называют «глухими», то есть с наглухо закрепленной рамой; оно находилось справа от двери, и только через него в кухню поступал свет.
На пляже Лаванду Дельфина любила возиться в песке у наших ног, сооружая «руины» – полураздавленные куличики, могильные холмики, разрушенные временем, древние затонувшие каравеллы, изуродованные ураганом и прекрасные, как драккары в погребениях Осберга или в портах устья Сены, отданных королем Карлом[25]25
Имеется в виду Карл III Простой, король Франции (898–923), отдавший в 910 г. викингам территорию нынешней Нормандии.
[Закрыть] (а может, Шарлем?) прославленному викингу Роллону.
Вспоминается мне и невыносимый запах гераниевой эссенции, которую Ибель наливала в чашечки, расставляла на столах, использовала как бальзам для растирания тела Дельфины, разбрызгивала на порогах домика и обеих пристроек, объявив, что она отпугивает комаров. Откуда следует, что я и сам отчасти комар – если не кровосос, то уж точно ненавистник герани. Меня тошнило от ее зловония, и чем сильнее оно распространялось, тем ожесточеннее я курил, чтобы его заглушить. А курил я – в память о нашей военной службе – исключительно «голуаз», только на сей раз гражданские. В те времена пачка таких сигарет стоила один франк тридцать пять сантимов. У меня, как у всех скупердяев, хорошая память на цены. Однако Изабель вызывала у меня не одно только раздражение. Солнце Ирландии, а затем и Прованса придало ее коже золотисто-коричневый цвет, каким отличаются немецкие виолы, окрашенные кассельской глиной и аннато.[26]26
Аннато – разновидность пищевого красителя
[Закрыть] Сенесе завершал статью о странных глиняных головах с застывшим, словно под взглядом Медузы, выражением испуга, обнаруженных в одной из казарм Каора. Мы болтали долгими часами; тем временем Дельфина обращалась к воробьям с длинными речами, то и дело прерывая их воинственными криками и меча в птиц стрелы с резиновыми наконечниками, никогда не попадавшие в цель.
Кажется, мы тогда мыли посуду. Во всяком случае, я что-то полоскал в стареньком тазике с водой. Изабель отчищала сковороду, и вдруг наши обнаженные плечи соприкоснулись. Пытаясь отодвинуться, мы нечаянно столкнулись боками, что усугубило наше смущение. Я был в белой майке. Вдруг Ибель взяла меня за локоть. И посмотрела мне в глаза. Мы оба замерли. Потом она отпустила мою руку и почти выбежала из кухни. Даже сейчас, когда я описываю эту сцену, у меня колотится сердце. Верно говорят, что есть такие признания, в которые лучше не углубляться. Я помню, как сестра Лизбет подарила Марге игрушечный кухонный набор; весь этот жестяной, слегка помятый от времени скарб мог бы уместиться в деревянном пенале. Мне ужасно хотелось завладеть этой мини-кухней. Я сидел в окружении кастрюлек, плит и гладильных досок, забывая об их карликовых размерах, дивясь лишь невесомости, и холоду, и звонкости металла.
И мне кажется, что следующая сцена сливается с той, что я описал выше, – с обоими «кухонными» эпизодами, только произошла она позже.
«Куда подевался кувшин?» – спросил я у Дельфины, а потом у Дидоны.
Дидона отказывалась выходить из дровяного сарайчика, служившего мне спальней. Сначала я потерял лейку – сам не знаю где, в каких зарослях. И заменил ее старым фаянсовым бело-зеленым кувшином с выщербленными краями. Дело в том, что я обещал Сенесе полить цветы, – мы поленились сделать это накануне вечером. И теперь мне было поручено свершить это изобретенное Сенесе ритуальное возлияние в честь персональных божеств, окружавших террасу.
Наконец я отыскал пустой кувшин и отправился к колодцу, что стоял за огородом, у каменной ограды. Мимо ежевичных кустов нужно было ходить очень осторожно: их острые колючки смешивались на земле с крапивой. Там я наткнулся на Ибель, как всегда, в рубашке Флорана; держа в руке ломоть хлеба с маслом, она укладывала на него ягоды ежевики.
«Вы куда, Шарль?» – спросила она.
«Здравствуйте», – ответил я.
«А не сделать ли мне ягодное желе? – задумчиво протянула Ибель. – Как бы вы отнеслись к ежевичному желе?»
Я миновал кусты жимолости и пошел вдоль стены. Установив кувшин на слегка осклизлом бортике колодца, под трубой насоса, я нажал на рычаг. Насос издавал прерывистый, душераздирающий скрежет. Вода текла еле-еле. Эти жалобные стоны и всхлипы пробуждали во мне какие-то неясные воспоминания, связанные не то с Реньевиллем, не то с Бергхеймом. Мало-помалу вода накапливалась в резервуаре, и узкое жерло насоса неожиданно выплевывало тугую струю. Насос был стар как мир, его рычаг не желал поддаваться нажиму, а когда уступал, ледяная вода бурно выплескивалась в кувшин, попутно брызгая мне на ноги. Я боролся с насосом, как вдруг почувствовал чью-то руку на своем плече. Я еще пыхтел, нажимая на рычаг, а рука уже подползла к шее. Она давила все сильнее; теперь мне кажется, что поначалу я просто не желал ничего понимать и только тупо смотрел на водяную пыль, оседавшую на железной колонке насоса и щербатом зеленом фаянсе кувшина. Но тут меня внезапно пронзило ощущение близости Ибель, близости ее тела, ее пальцев, сжимавших мое плечо, – и я обернулся. Схватил ее руки. Начал ее целовать. Вернее, мы начали целоваться. А еще вернее, мои и ее губы – пересохшие так безнадежно, словно из наших ртов мгновенно ушла вся слюна, словно мы были мертвы, – спаялись воедино, целуя пустоту. Я попытался отстраниться, то есть отодвинуть от себя тело Ибель, хотя по-прежнему не отрывал губ от ее рта. «Нет!» – бормотал я, а сам все тянулся вперед, стараясь продлить поцелуй. Она была голой под мужской рубашкой, и, дергая за ткань, чтобы отодвинуть Ибель, я видел курчавые волосы внизу ее живота. «Нет!» – повторял я, и при этом смертельно боялся, что она опустит глаза и заметит, до какой степени эти поцелуи возбудили меня. Мне хотелось бежать. Но чем сильней я противился ей, тем теснее, как мне чудилось, она прижималась ко мне. Наконец, собрав все силы, я резко оттолкнул ее и спасся бегством, позабыв кувшин.
Я бежал долго. И остановился лишь тогда, когда тропинка, вернее, дорога, ведущая в Борм, круто пошла вверх. В том месте, где она переходила в улицу, какой-то старик запирал на висячий замок решетку. Затем медленно, пошатываясь, прошел мимо меня. Он был совсем дряхлый. И вдруг, крикнул мне:
«Слыхали про парней с Шампаньольской шахты?»
Я стоял, тяжело переводя дух. И ответил, еще не совсем придя в себя: да, ужасное несчастье! Потом попрощался с ним. Мало-помалу я успокоился. Зашел в кафе и, хотя у меня не было при себе денег, выпил рюмку коньяку и кружку пива, оставив хозяину часы в залог. Пока я там сидел, мне вспомнилось, что в парке Бергхейма, за каштановой аллеей и взгорками, в зарослях тростника, пряталось небольшое озерцо, кишев шее пиявками и головастиками. Паула была буквально зачарована этим озерцом. В детстве маленькая Паула, которую мои сестры, желая меня позлить, прозвали Попо – этим словом немцы, говоря с детьми, стыдливо обозначают заднюю часть тела, – любила меня или, может быть, только озеро в нашем парке. Мне очень хотелось верить, что она бегает за мной; во всяком случае, она выпрашивала у меня все мои рисунки. И постоянно хватала меня за руку. А однажды, когда мы стояли рядом на берегу озерца, оба в коротких пальтишках с капюшонами, нас соединил такой же поцелуй сухими губами. Который вызвал у меня точно такое же негодование, шокировав боязливого и деспотичного пуританина, жившего в моей душе.
По правде говоря, теперь я уже не совсем уверен, что тот первый поцелуй сухими губами состоялся именно возле паркового озерца: слишком, уж большую опасность представляли для нас тетя Элли и фройляйн Ютта. Это могло быть и на бечевой дорожке у реки. Похоже, мне не очень-то хочется слишком долго задерживаться на сценах жизни в Борме, на сценах с Ибель. Когда мы с тетей Элли гуляли по бечевой дорожке и нам попадался рыбак, он бурно жестикулировал и бросал на нас угрожающие, свирепые взгляды, призывая к тишине, чтобы не распугать рыбу; с тех пор рыбаки с удочками куда скорее, нежели соборы, церкви или храмы, повергают меня в молчание – гнетущее, мучительное, жуткое молчание, смешанное с комплексом вины, возникающим при мысли нарушить его, и с боязнью не то что пройти мимо, но я просто дышать, пока не отойдешь шагов на десять. Так молчат при виде идолов в храмах Хараппы или Ура; так я молчал позже в морге, глядя на тело моей матери или Люизы. Как бы это объяснить точнее? От тех встреч с рыбаками у меня осталось впечатление, что это, скорее, великие боги в почти человеческом облике, неподвижные, безжалостные, восседающие на берегах рек – и подобные матерям семейств, или бедным родственницам, или скорбящим вдовам, насквозь проникнутым духом кальвинизма, какими бы истовыми католичками они себя ни числили, и устремившим пристальный, мрачный взгляд на пробковый поплавок – средоточие тяжких грехов их племянника или сына.
«Тентен! Тентен!» Этот ловчила, эти чернила, драки-передряги, кляксы на бумаге – пятна, не отмываемые никаким мылом, не соскребаемые с пальцев, – таковы были значения слова «Тентен» по-немецки, таковы были приключения Тентена на языке моих французских кузенов и тетушек; от этих приключений меня тошнило.[27]27
Игра слов: Тентен (Tintin) – герой комиксов французского писателя Эрже (псевдоним Жоржа Реми), журналист по профессии и ловкий сыщик; die Tinte – чернила (нем.).
[Закрыть] Я видел сны на немецком. Любая ошибка заставляет меня видеть сны на немецком. Где была ошибка, допущенная мною между колодцем и кувшином? Она была в моих снах, в самой сути моих снов: они приходили ко мне в виде немецкой речи. Точно так же случалось, когда я видел в снах – в блаженных «водяных» снах – ручей, журчащий средь тенистых берегов: во мне звучало имя Баха.[28]28
Der Bach – ручей (нем.).
[Закрыть] Однако на сей раз, попав в беду, я увидел во сне якорь: бросившись с палубы корабля в море, в поисках случайно упущенного якоря, я получал в лицо струю чернил, извергнутую каракатицей, решившей меня ослепить.[29]29
Французские слова l'ancre (якорь) и l'encre (чернила) звучат одинаково.
[Закрыть] Каракатица гналась за мной, настигала у садовой калитки, звонила в колокольчик – тен-тен! тен-тен! И облепляла всем своим склизким телом мои губы. Слово «Тентен» означает и ловкого сыщика, и чернила, и детское выражение «ну и влип!». Так во что же я «влип»? И кем я был – немцем? французом? Мама предоставила нам выбор между ней и Германией. Так в чем состояла наша ошибка? Я просыпался в раздражении. Я всегда просыпаюсь в раздражении – если вообще засыпаю. Я внезапно прерываю ночь, прорываю завесу темноты, обрываю назойливые, ненужные сны, грозящие мне в миг пробуждения. Я не умею держать себя в руках. Мне гораздо легче сдержать себя в крови, в боли. Поистине, мы себя не знаем.
Однако вернемся к тем, морским снам: поутру волны выбрасывают на берег дня лодку без гребцов. А следом – меня самого. По правде сказать, к полудню остаются лишь весла без лодки. В левой руке – твердое дерево грифа, в правой – смычок, становящийся свинцово-тяжелым после долгих часов игры. Ну а по вечерам… тут мне обычно уже не до сравнений.
Я терпеть не могу слушать музыку. Друзья видят в этом неуместное позерство. На самом деле ничто не внушает мне более страстной любви чем музыка. Вот только музыка никогда не могла привлечь к себе внимание тех, кого я любил. В редкие годы я не переводил чью-нибудь биографию, не записывал или не издавал музыку барокко, сочинения Демаши, Мюффа, Уильяма Лоуэса, а то и вовсе неизданных и неизвестных композиторов, например Могара, виолиста кардинала Ришелье, – я исполнил и записал три его пьесы, проникнутые патетической горечью. То же происходит у меня и с языком: воспитанный на немецком, я не люблю ни говорить, ни писать на нем. Понятно, что, действуя таким манером, я пытаюсь оправдать ту, которая нам его запретила. Хотя, честно говоря, не знаю, действительно ли моя мать ненавидела немецкий; просто моим сестрам и мне всегда хотелось думать, что она бросила нашего отца именно по этой единственной и неубедительной причине. Была и еще одна загадка, навсегда оставшаяся нераскрытой: я не знаю, кто из семьи умер во время последней войны в лагере Берген-Бельзен. Так же как не знаю, когда именно погиб под гусеницами немецкого танка мамин младший брат Франсуа. Я почему-то всегда думал, что его смерть пришлась на май 1943 года – дату моего рождения. И мне кажется, что именно это яростное неприятие Германии стало причиной моей «немоты», когда дело доходит до немецкого, – а ведь это был язык моего детства, язык всей моей учебы, включая музыкальную. Я никогда не говорил: «А, В, С…», мой алфавит начинался с «ля, си-бемоль, до…», хотя и начал-то я даже не с этого «до», а с камертона. Впрочем, виолончель можно настроить и по открытой струне, это струна ля. Я находил себе пищу в обоих языках. Мои ученики – по крайней мере, самые юные из них – частенько поправляли меня: я говорил «dur» вместо «мажор», и мне нравилось думать, что мажор – dur, a минор – mol.[30]30
Игра слов: мажор обозначается немецким словом «dur», на французском языке то же слово означает «твердый, жесткий, крепкий». Немецкое слово «moll», обозначающее минорную тональность, созвучно французскому прилагательному женского рода «molle» – мягкая, томная.
[Закрыть] Человек имеет такие связи, какие может; по крайней мере, в течение жизни он завязывает столько связей, что впору удавиться. Самые заурядные антипатии, которые оборачиваются самыми прочными дружбами, неизменно служили мне приятным поводом для умиротворения.
Впервые я почувствовал, что наши тела стремятся к слиянию – стремятся к соприкосновению и воспламеняются от соприкосновения – при обстоятельствах, которые можно назвать отчасти смехотворными, отчасти чудотворными и уж во всяком случае неоспоримо конкретными. На углу Бонской улицы и набережной Вольтера есть ресторанчик с весьма посредственной кухней. В один из последних майских вечеров 1964 года мы – Сенесе с Изабель, Андре и Луиза Валасс, Пауль, Клаус-Мария и я – собрались там, дабы отпраздновать, перед тем как распрощаться с армией, то, что любой солдат, и хороший и плохой, именует «дембелем». Только что умер Неру. Мы болтали обо всем на свете. И пили без удержу. На десерт я взял себе профитроли. Ибель, сидевшая напротив меня заказала наполеон, великолепный, пышный, щедро обсыпанный сахарной пудрой. Но при этом она, не скрываясь, заглядывала в мою тарелку. А я смотрел на ее пирожное. Мне вспомнилась детская страсть к «закускам». «Хотите попробовать?» – спросил я. Ее глаза жадно блеснули, и она потянулась ко мне через стол. Я набрал в ложку нежное тесто с мороженым и осторожно, стараясь не пролить сироп, поднес ей. Она придвинулась еще ближе и открыла рот. Я не столько увидел, сколько почувствовал, как она обхватила губами ложку, как сжались ее зубы. Это нажатие отозвалось во мне – в моих пальцах, в моей pyrce – до самого плеча; если бы это не звучало так смешно или романтично – но, что поделаешь, я неисправимый романтик! – я бы сказал: отозвалось у меня в сердце, ответившем учащенным биением. Мы смотрели друг другу в глаза, смакуя пирожные, наслаждаясь этим обрядом причащения, которое, будучи абсолютно искренним, вряд ли было чисто символическим. Затем она протянула через стол мою долю – кусок слоеного теста с маслянистым кремом, и это было волшебное приношение, благословенное и восхитительное, которое я не осмеливался жевать, – оно таяло у меня во рту. И конечно, в ту минуту, когда мы ели и пили, меня приводил в экстаз не обмен лакомствами, не слюна, передававшаяся вместе с ними каждому из нас, но толчок, контакт, пробуждавший желание, а еще вернее, то сопротивление, которое она словно предвидела и которое двигало мною, когда я сам двигал рычаг насоса в Борме, и сопротивление этого рычага, не желавшего ходить вверх-вниз, и ледяные выплески воды в кувшин и мне на ноги пока Изабель пыталась меня обнять, а я безуспешно пытался оттолкнуть ее, одновременно прижимая к себе. И как же похожа была та схватка на встречу вилочки со сладким куском наполеона и ложки с половинкой профитроли над столом, на набережной Вольтера – на первую нашу настоящую встречу, когда мы с Изабель, может быть, по-настоящему любили друг друга.
Мы снова сошлись возле грейпфрутового дерева, под алепскими соснами, и я стал умолять ее прекратить все это.
«Ладно, значит, больше никаких объятий», – прошептала она.
«Ведь это все выдумки, пустые фантазии!» – горячо убеждал я ее.
«Да, пустые фантазии».
«И они скоро развеются как дым, не правда ли?»
«Правда. Как дым. Как будто ничего и не было».
«Значит, по рукам?»
И я протянул ей руку.
«Ибель, клянитесь!» – потребовал я. Она хлопнула рукой по моей ладони. Мы расстались. Я кормил полдником Дельфину, и мы с ней пели:
«Ах ты, обжора, обжора, обжора…»
Изабель спустилась к морю, на пляж Лейе. Я избегал встреч с ней.
Сенесе все еще пребывал в окаменелом состоянии перед своими глиняными головами. Дельфина ходила вся перемазанная шоколадом. Я долго отмывал ей руки и личико водой из лейки, которую отыскал наконец возле грейпфрутового дерева. Сидя в тени мастиковых деревьев или пробковых дубов, я стриг ей ногти и рассказывал историю про барона Мюнхгаузена, который обрезал себе ногти не чаще чем раз в сорок лет, потому что при случае использовал их как лопаты, чтобы переносить с места на место целые города или крепости.
Вечером я вышел из дому. Но она снилась мне всю ночь. Да и почти все последующие ночи я грезил только о ней. Много раз ее образ во сне орошал мне живот и руку.
Я играл с Дельфиной. И пытался все забыть. В том году нас атаковали целые полчища ос. Я остервенело боролся с ними, стараясь уберечь Дельфину. Иногда мне удавалось убить несколько штук. На память приходили наши детские соревнования – у кого окажется больше мертвых ос – и наша ненависть к муравьям, уховерткам, комарам, саранче, пчелам, мокрицам, гусеницам и жукам; мы испытывали ужас перед шершнями, людьми и пауками, гораздо спокойнее относились к кузнечикам, земляным червям, головастикам и мухам и уж совсем благосклонно – к улиткам, а также к сосновым шишкам, белкам, лягушкам, уклейкам и бабочкам.
Десятого августа мы с Сенесе отправились в Париж. Изабель получила назначение в Рю-эй-Мальмезон. Сенесе надеялся добиться работы в каком-нибудь парижском музее. С помощью Дени Обье и Андре Валасса – друзей из Сен-Жермен-ан-Лэ, с которыми мы сохранили добрые отношения, – и после многочисленных телефонных переговоров удалось снять для семьи Сенесе небольшой дом с садиком для Дельфины; он находился в Шату, недалеко от дома мадемуазель Обье. Мы перевезли туда всю обстановку сен-жерменского салона – не столько вещи, сколько атмосферу. По такому случаю я удостоился высочайшей чести войти в спальню мадемуазель Обье. Сенесе потом всю жизнь завидовал мне. «Ты же побывал в спальне мадемуазель Обье!» – неизменно говорил он, желая подшутить надо мной или утешить, когда я сетовал на свою жалкую долю, – словно речь шла о блестящем, одержанном мною триумфе. Спальня представляла собой просторную комнату, отделанную в типично английском стиле XIX века, с белыми деревянными панелями; на стенах висели зеркала с гранеными краями, на окнах широкие портьеры из серого бархата. Занавеси алькова скрывали постель, образуя вокруг нее настоящий шатер из величественно задрапированных полотнищ.
Мадемуазель Обье возлежала в монументальном шезлонге с плюшевой обивкой цвета осенней листвы. «Месье Шенонь, идите сюда, присядьте рядом со мной», – сказала она, указав мне на белое кресло, стоявшее рядом с раскидистым, цветущим круглый год кустом мимозы, чье благоухание – особенно после Борма – прямо-таки одурманивало.
«Ах, друг мой, – вздохнула она. – Как же я любила кюрасо!»
Больше ей нечего было сказать. Похоже, мое присутствие все-таки стесняло ее. Наконец она раскрыла рот, чтобы похвалить сласти от «Буасье», вслед за чем снова наступило молчание. После долгой паузы она поведала мне, как тоскует по тем временам, когда клейкую бумагу еще называли «бодрюш».[31]31
Газонепроницаемая пленка из кишок животных, из которой делали воздушные шары.
[Закрыть]
Нам пришлось совершить три или четыре поездки на моем внедорожнике, чтобы переправить в новый дом все книги, пюпитры для книг, камешки и лампы Флорана. В то лето Мадемуазель неизменно ходила в белом. Она носила платье из белой саржи и белый капор с тюлевыми завязками, стянутыми под подбородком.
Сенесе считал мадемуазель Обье кем-то вроде матери, – по крайней мере, он постоянно сравнивал ее характер и перемены настроения с поведением своей родной матери. Мать Сенесе, по его словам, страдала одним пороком, который он считал совершенно невыносимым. С возрастом этот порок усугублялся, становясь все неприятнее, все назойливее. Он утверждал, что при каждой их встрече мать изощрялась в придумывании историй из его детства, не имевших ничего общего с реальностью. Она «вспоминала» трогательные, сусальные сценки с участием сына, его геройские поступки, – эти рассказы он даже не решался мне передавать. «Вспоминала» остроумные словечки, произнесенные им в возрасте двух лет, в возрасте одного года, чуть ли не в материнском чреве, и отличавшиеся философской глубиной максим Франсуа де Ларошфуко или, если обратиться к Библии, мудростью пророчеств Амоса.
Сенесе пытался слушать, елико возможно, учтиво и бесстрастно. Но очень скоро его раздражение вырывалось наружу. Эти фальшивые воспоминания, с их розовыми, пасторальными и абсолютно неожиданными картинками, с приторно-сладенькой моралью, приводили его в ярость. Когда же он пытался восстановить правду – или хотя бы припомнить более или менее объективные, реальные факты, близкие к правде, – мать возмущалась так, словно это он ей лгал. «Ты все видишь в черном свете!» – гневно восклицала она, и ее рассказ тут же терял всю свою сладость, превращаясь в едкое обличение. Сенесе громко негодовал, но стоило ему напомнить матери события, которые она уж никак не могла игнорировать, настолько сильно они повлияли на их жизнь тех лет, как она переставала его слушать, пожимала плечами и «давала голову на отсечение», что его слова – отъявленная ложь. При этом самое худшее, говорил Сенесе, было то, что она искренне верила в свои россказни, а он искренне верил в свои доводы или, по крайней мере, в собственную правоту. Но самое горькое, признавался он мне как-то после телефонного разговора с матерью (в Маране было очень жарко, мадам Сенесе сильно страдала от этой жары, но, несмотря на зной, все-таки ухитрилась «вспомнить» еще несколько мифических сценок из детства сына), состояло в другом: по мере того как она приближалась к смерти, он буквально физически ощущал полное отсутствие их общего прошлого. Они оба еще были живы, а их воспоминания уже обратились в прах.
В отличие от моего отца, отец Сенесе проводил большую часть времени в заграничных разъездах. Таким образом, Сенесе был прочно связан с матерью и спал в детской кроватке, стоявшей в ее спальне, однако эта связь спорадически прерывалась, и, может быть, именно этим объясняются его неустанные и жалкие ритуальные обряды. Никакой страх, говорил Сенесе, не может сравниться с тем, что обуревал его в раннем детстве, когда мать одевалась и уходила, оставляя его одного в окружении ночников, телефона и конфет. Обычная и жестокая душевная драма ребенка: едва он успевал покончить с лакомствами, как ночные страхи сжимали ему горло, и он прятал голову под одеяло, стараясь укрыться от тоски одиночества. Я плохо представлял себе Сенесе маленьким мальчиком, – неужели это он бродил у дверей туалетной комнаты, выклянчивал ласку и внимание, подавлял готовые вырваться наружу рыдания и стыдился при мысли, что его сочтут трусом. Иногда ему не хватало сил вытерпеть, дождаться ухода матери, и он, прячась от ее взглядов, убегал в туалет, чтобы выплакать там свои первые вечерние слезы, самые жгучие, самые соленые. Несчастье растворяется в слезах, но не исчезают его признаки – ужас, транс при виде захлопнутой двери, приступы возмущения и тоски, детские фантазии, смягчающие печаль. Хорошо, что эта пытка постигала его не каждый вечер, а только раз в два дня. Таким образом, его жизнь делилась на две эти неравные, но четко разграниченные части, которые на самом деле разрывают сердце. Ночные страхи сгоняли его с кровати, где она укладывала его, заботливо подоткнув одеяло; ребенок тянулся к стулу у изголовья, где лежали запасы карамелек, потом бежал в кухню, чтобы утолить жажду, освежить рот после сладкого, потом долго рыдал у входной двери, трясясь, всхлипывая и зовя мать, потом, накричавшись, в изнеможении мгновенно засыпал прямо в передней, рядом с ковриком, распластавшись на полу, словно второй коврик, поменьше. При этом воспоминании Сенесе клал мне руку на плечо и говорил с громким натужным хохотом: «Знаете, какое снотворное – самое лучшее в мире? Исступленные вопли и холодный пол прихожей под босыми детскими ножками!»
Этот переезд занял на день больше, чем мы предполагали. Грузовик, который должен был доставить мебель из домика в Пренуа (родители Изабель приехали туда из Лон-ле-Сонье, чтобы организовать эту перевозку и проследить за ней), сломался в дороге и прибыл с двенадцатичасовым опозданием. Сидя в одиночестве и бездействии, я мечтал об Ибель, о теле Ибель, и страдал. Тщетно я пытался подавить в себе приступы вожделения, ярости, тоскливого страха. Мы решили не возвращаться на Средиземное море днем 15 августа и уехали только под вечер. В результате мадемуазель Обье неожиданно обрела аудиторию на весь этот день. В четверть третьего, едва мы покончили с безвкусной грушей в сиропе, мадемуазель Обье поднялась и объявила, что пора переходить в музыкальный салон; в эту минуту я искренне пожелал ей смерти. Но она тронула меня за плечо, и я покорно встал. Снова поднял я крышку желтого «Эрара». Она порылась в куче нот и вытащила оттуда какую-то розовую рвань.
«Ну что, споем?» – просюсюкала она.
Я не пожалел бы нескольких месяцев жизни, лишь бы потолок в этот миг треснул и с грохотом рухнул ей на голову. Эти старозаветные натужные послеобеденные услады внушали мне живейшее отвращение. Но делать нечего: мы настроились, если можно так выразиться, или, по крайней мере, попытались объединить, насколько это возможно, несколько звуков, исторгнутых молоточками рояля и горлом Мадемуазель.
А потом на ее лице разверзлась темная дыра с трепещущими краями, из которой полилась неверная, блеющая мелодия, и я стыдливо отвел взгляд от старой груди, судорожно вздымавшейся при каждом новом вдохе.
Утром 16 августа мы уже вернулись в Борм, где подробно описали Дельфине и Изабель Сенесе дом с маленьким садом в Шату. Изабель держалась как-то странно, выглядела озабоченной, избегала встреч со мной, да и сам я держался насколько возможно дальше от нее: уезжал на машине купаться, лежал на пляже, читал.
Лето становилось все жарче и жарче. Изабель торопила нас с отъездом, ей хотелось покончить с этой игрой в прятки, тягостной и одновременно таившей в себе немало соблазнов и кокетства. Кроме того, ей не терпелось увидеть домик в Шату, обустроить его, вновь увидеться с друзьями из Сен-Жермена, подготовить Дельфину к первому школьному году. Но Сенесе заканчивал свою диссертацию и просил чтобы мы дали ему недельную отсрочку. Похоже, «головы Медузы» уже начали обретать реальные формы. Однако 22 августа Сенесе получил телеграмму с сообщением, что его мать тяжело больна. Он поехал в Борм, на почту откуда позвонил в Маран. Убийственная жара стояла повсюду, даже на атлантическом побережье. Мать сказала, что у нее был легкий гипертонический криз. И что не стоит беспокоиться. Он стал звонить ей каждый вечер. Изабель решила ехать в Шату 28 или 29 августа, чтобы проверить и изменить, если нужно, расстановку вещей и мебели, за которую несли ответственность мы с Сенесе и которую, честно говоря, сделали кое-как.
Вечером 28-го Сенесе в очередной раз позвонил матери, но к телефону подошла медицинская сестра-монахиня – довольно странная и резкая особа, – которая сообщила ему, что у матери был новый криз и что она не может говорить. Сенесе испугался всерьез. Мне вдруг показалось, что он так подробно рассказывал мне о матери в Сен-Жермен-ан-Лэ, во время переезда, именно в силу какого-то мрачного предчувствия. Он спросил, могу ли я отвезти его в Ла-Рошель или хотя бы в Маран, находившийся поблизости. Изабель предложила ему поехать туда всем вместе. Но он счел, что Дельфине ни к чему быть там, видеть, как он страдает, видеть агонию его матери. И мы проводили Изабель с Дельфиной на вокзал Тулона. А сами заперли дом и отправились в Маран.
Мы прибыли в Маран к пяти часам дня, после долгого переезда, который прошел почти в полном молчании, но при этом оставил у меня впечатление путешествия по красивым местам, о которых я не знал ничего, вплоть до их названий. Мадам Сенесе жила в большом старом сером доме. Мы торопливо поднялись на второй этаж, в ее спальню. Мать Флорана неподвижно лежала в постели; ее мертвенно-бледное лицо с черными глазницами и сморщенным, запавшим ртом без искусственной челюсти выглядело ужасно. Она не повернула к нам голову, не шевельнула рукой. Сенесе сжал ее высохшие пальцы, безвольно лежавшие на белой простыне, белые, как слоновая кость, как кружочки на костяшках домино. И тогда она улыбнулась, – по крайней мере, в ее глазах как будто промелькнула улыбка. Мы принялись утешать и подбадривать ее. Сенесе рассказал, какая прекрасная стоит погода, спросил, не открыть ли ставни, но она не реагировала и по-прежнему лежала с открытым ртом, безвольно раскинув руки; в ее взгляде вдруг блеснул ужас. Монахиня с красным, покрытым легкими оспинами лицом, чем-то похожая на Франциска I, вышла из кухни, отвела Флорана в сторону и заговорила с ним в полный голос.
«Вы хорошо сделали, что приехали, месье», – сказала она.
«О, сестра…» – прошептал он.
«Да нет, можете говорить громко, она уже не слышит. Да и наверняка не видит вас. Хотя… кто его знает. Конечно, все мы нуждаемся в любви наших близких, – продолжала она трубным голосом, – надо думать, все мы рождаемся на свет и уходим в мир иной с этим скромным желанием».
«Вы правы, сестра».
«Она ест, она мочится, и она тоже нуждается в заботе и любви», – твердила монахиня.
«А она… совсем не может говорить?» – робко спросил Флоран.
«О нет, – решительно ответила монахиня. – Но разве мы говорим, рождаясь на свет? Вот вы, месье, разве говорили при рождении? Нагими приходим мы в сей мир, и нагими покидаем его».
«Да, сестра».
«Ваша матушка уже почти ничего не понимает, но мы не имеем права утверждать, что она превратилась в овощ. Для меня, во всяком случае, она все еще остается человеком. Знаете, она ведь даже сдерживает свои отправления. Конечно, у нас случаются маленькие неприятности, но такое бывает очень редко».






























