Читать книгу "Салон в Вюртемберге"
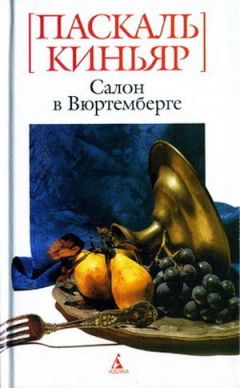
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Растрогавшись от собственных метафизических рассуждений, монахиня с багровым ликом Франциска I в раструбе белоснежного чепца с минуту задумчиво молчала.
«Даже если она и вовсе лишится способности управлять собой, – продолжила она, – помните, что овощи и животные, наравне с людьми, близки сердцу Господа нашего…»
Я незаметно выскользнул из комнаты и спустился в кухню. Мне ужасно хотелось пойти осмотреть Ла-Рошель. Сенесе еще несколько минут пробыл наверху, потом монахиня сказала, что должна сделать больной укол, и он тоже пришел на кухню. Сенесе невесело поведал мне, что монашка («просто святая женщина!») долго убеждала его и наконец убедила, что у Господа найдется в сердце место и для овощей, и даже для монахинь. Я сказал, что заглянул в шкафы и в холодильник и собираюсь отправиться за продуктами. «Маме сейчас сделали укол. Так что я могу пойти вместе с тобой», – ответил он. Мы пошли в бакалейную лавку «Кооператив». Как ни странно, от этого похода у меня осталось ясное воспоминание:, мы купили репу, лук-порей, картошку – Сенесе решил сварить для матери овощной бульон, – сосиски, вино. Вернувшись, я вывалил все эти припасы на кухонный стол. Пока я кипятил воду, Сенесе пошел взглянуть на мать. Когда он вернулся, я уже начал чистить картошку, вырезая из картофелин «глазки» – так французы называют эти изъяны, несомненно, психосоматического происхождения; мне почему-то нравилось вырезать круглые отверстия в плотной белой массе. Я почувствовал присутствие Флорана у себя за спиной и обернулся. Он стоял с безвольно открытым ртом, слепо глядя перед собой.
«Поплачь», – сказал я ему.
У него дрожали губы.
«Поплачь», – сказал я снова.
И обнял его. Когда нам трудно глядеть на страдающих людей, мы их обнимаем. Наконец он заплакал. И сквозь слезы, запинаясь, рассказал, что она умерла – как раз тогда, когда мы были в магазине. Он упрекал себя в этом. И в последующие два дня почти все время молчал. Я сам занялся организацией похорон. Сенесе не захотел вызывать ни Изабель, ни свою дочь.
Нам не ведомы ни день, ни час. Она приходит тайком, по-воровски. В детстве я вычитал в своем сборнике псалмов, что именно так Господь, в бесконечном милосердии своем, дарует людям смерть. На второй день утром Сенесе пересказал мне приснившийся ему кошмар, который меня удивил, – это был обонятельный сон. Сенесе будто бы подошел к вороху сухих веток. И неожиданно почуял запах сырости и плесени, исходивший от этой мертвой древесины. Так пахнут какие-нибудь изысканные грибы, например сморчки. Ему привиделся омлет со сморчками. И еще Сенесе вспомнились бесконечные бурные сцены во время бесед с матерью, больше похожие на безжалостные турниры или сражения, когда они метали друг в друга, точно стрелы или пушечные ядра, свои несовпадающие воспоминания. По его словам, он всегда терзался мыслью, что у них с матерью нет никакого общего прошлого, но вдруг его осенила утешительная догадка: такого прошлого – общего, совместного – вообще не бывает: одни только мифы бывают удобны для всех без исключения. Эта догадка поразила его как удар грома. Ему было невыносимо больно от сознания, что он остался совсем один, один до самой смерти, но одновременно он избавился от мысли, точившей его долгие годы, – мысли о том, что и сам он, и его мать в течение всех этих лет ревниво старались извратить свое прошлое, сделать так, чтобы в нем не осталось никаких совпадений. И вот теперь он так просто, до ужаса просто пережил ее.
Сенесе горько плакал, по-детски сопя и всхлипывая. Я дважды звонил в Шату Изабель. Потом наконец ей позвонил и сам Сенесе. Их разговор длился долго. Он сказал ей, что мы никак не сможем приехать раньше вечера 2 сентября или утра 3-го: нотариус Марана на весь август ушел в отпуск. Она сообщила, что Дельфина хорошо себя чувствует, играет в саду, а вторую половину дня проводит у мадемуазель Обье. Что ей все помогают – Дени Обье, Луиза Валасс, Поль… Что она думает о нас.
Сенесе увидел еще один странный сон. Перед ним возникло слово «singultus», начертанное готическими буквами на средневековом венце, и это видение, достойное пророческого сна римского императора, а не какой-нибудь мелкой сошки (чего только не бывает во сне'.), преисполнило его невыразимой гордости и развязало язык. Он толковал это слово на все лады, переводя его то как «одинокий», то как «рыдание». Это меня безумно раздражало. Я решил посоперничать с ним в искусстве перевода. Отчего-то это слово вызывало в моей памяти другое – «Habergeiss, Havergeiss…». Я безуспешно пытался вспомнить его значение и не мог. Кроме того, изыскания моего друга, выглядевшие либо чересчур «французскими», либо слишком уж «римскими», действовали мне на нервы. Я терпеть не могу древних греков и римлян. Стоит мне прочесть какое-нибудь имя с окончанием «-us», как во мне вскипает ненависть и желание кусаться – или укусить, но при этом и заглотнуть. И я говорю себе: «Нет, все равно наша возьмет!» В Бергхейме мой отец пожелал, чтобы пастор – даром что мы были католиками – обучил меня классическим языкам, латыни и греческому, в объеме седьмого класса французской школы; моих сестер, как представительниц слабого пола, от этого избавили, что я счел жестокой несправедливостью. Герр Ганс Нортенваль заряжал свои уроки латыни и греческого – вероятно, бессознательно и не пробуждая во мне подозрений на сей счет – легким душком религиозных войн, а также франко-прусской войны. Малейшая ошибка – зияние, элизия[32]32
Зияние (лингв.) – неблагозвучное стечение в стихе двух или нескольких гласных. Элизия – отпадение конечной гласной перед начальной гласной следующего слова.
[Закрыть] – при чтении гекзаметров Лукреция тут же превращала его в гугенота, сброшенного из окна на улицу Риволи. Эней в пылающей Трое так же неизбежно вызывал из небытия Варфоломеевскую ночь или немецкие войска в Страсбурге.
«Havergeiss!» Наконец-то я вспомнил, что означает это слово. В Бергхейме у нас был старый Havergeiss – или Habergeiss – из черного дерева. Я обожал эту игрушку. Даже речи быть не могло, чтобы Сенесе завладел ею, хотя бы и во сне. Она представляла собой особую разновидность волчка, но ее полый шар был гораздо шире обычного – сантиметров двадцать в диаметре. Стоило дернуть за веревочку, и шар начинал бодро вращаться, описывая круги, подрагивая и жужжа – сначала довольно грозно, словно этот звук исходил от гигантской осы, потом заунывно, как ухают совы, а под конец жалобно, наподобие затихающей виолы; по пути волчок натыкался на столы и стулья, прыгал по ступенькам, задевал цветочные горшки…
Если память мне не изменяет, то моя мать предпочитала маленьким мальчикам маленьких зверюшек из мейсенского фарфора.
Я ее любил. Мы ревнуем ко всему и всем, вплоть до мертвых, вплоть до тяжелых болезней, постигших наших соседей. Смерть матери Флорана пробудила во мне воспоминания, в которых был оттенок ревности, о смерти моей матери; мне чудилось, что до сих пор я не пережил эту потерю во всей полноте. Любопытно, однако, в каком порядке я веду свои записи о прошлом. Их логическая связь непрерывно нарушается, и тем не менее такая система кажется мне единственно возможной. Я раскладываю прошлое на отдельные, разрозненные фрагменты, как в детстве раскладывал пасхальных зайчиков на кухонном столе. Доныне помню радостное возбуждение этого дня и красивые пестрые яички – яички, снесенные пасхальным зайчиком. Сами зайчики – сахарные фигурки в блестящих обертках, которые я, глотая слюнки, терпеливо сдирал с них, – стояли здесь же. Долгие годы Люиза присылала мне этих зайчиков, сахарных или марципановых, вместе с расписными яйцами и традиционным коротким письмецом – с одним и тем же простодушным, почти детским текстом: «Мой дорогой Карл, шлю тебе зайчиков и яйца. Желаю веселых Пасхальных праздников. Мы, все семеро, сердечно обнимаем тебя. Люиза». У Люизы было пятеро детей – как нас у матери. Люиза тоже умерла.
Смерть матери была уже близка. Я сел в самолет. Добрался до Нейи. «Ивонна! Ивонна!» Нет, мне слишком тяжело вспоминать все это. В тот день – 22 ноября 1962 года – Д. Ф. Кеннеди объявил о блокаде Кубы, умерла моя мать и прошел референдум генерала де Голля (отец, разумеется, считал его величайшим героем, наряду с герцогом Вюртембергским); и хотя позже заглянув в энциклопедию, я обнаружил, что все эти события произошли вовсе не в один и тот же день, они слились для меня в единое целое остались общей незаживающей раной, общим нестираемым воспоминанием, запечатлевшимся в одном мгновении, темном, мрачном, полном неизбывной горечи.
Честно говоря, моя нелюбовь распространялась не только на латынь или греческий. Мама ненавидела немецкий, категорически отказывалась говорить на нем, и потому я тоже пользуюсь этим языком весьма неохотно; более того, внезапное возникновение какого-нибудь словца из детства – того же, например, Habergeiss – неизменно сопровождается омраченным настроением, близким к самоубийственной депрессии. Несговорчивость – типичная черта вюртембергцев, часто говаривал отец, оправдывая таким доводом свою жизнь. И в самом деле, согласно легенде – по крайней мере, так учил нас в бергхеймской школе герр Штодт, и, нужно сказать, в 1948 или 1950 годах это звучало весьма любопытно, – герцоги Вюртембергские жаловались, что их подданные, появляясь на свет, первым делом кричат «Nein!» – и это же слово последним слетает с их уст вместе с предсмертным вздохом, в тот миг, когда они возвращают Господу дарованную Им жизнь. В результате я начал ненавидеть все немецкие слова, а в особенности это самое «Nein». Не думаю, что я был копией своей матери – наши страсти, если присмотреться, очень мало походят на нас самих, – но всем своим естеством я стремился стать ее подобием. Мне по сю пору чудятся смутные отголоски ожесточенных родительских споров. Вся Северная Германия, объявлял мой отец, населена дикими йети, немецкий язык – бесплодный язык, лишенный будущего, он ничем не обогатил культуру, по крайней мере в обозреваемый период, в чем и уподобился латыни, на которой изъяснялись римские солдаты, завоевавшие Грецию. «Это импортная литература!» – восклицал он. Вообще, у него было множество разнообразных и довольно путаных идей и концепций: он ратовал то за проект реставрации старинной Лотарингии, то за полную изоляцию не закрытые границы герцогства Лотарингского, маркграфства Баденского, старого графства Вюртембергского, утверждая, что подобное дробление страны будет препятствовать возрождению фашизма, навсегда ослабит Германию и обеспечит народам всеобщее и долгое счастье. Уж не помню, что ему отвечала моя мать – вернее, что скрывала под своим молчанием моя мать, несомненно блистательная в своей красоте и упрямо замкнувшаяся в своем нежелании говорить или в коротких, сухих, раздраженных, даже злых репликах, произносимых торопливым шепотом. Но отец не унимался: «Берегитесь, дети мои, берегитесь стран, не познавших Ренессанса или классицизма! Одна из них – Пруссия!» Подобные воззвания – или, по крайней мере, их тон, не говоря уж об их глупости, – до сих пор наводят на меня робость, до сих пор повергают в дрожь.
Мы собирались провести в Маране еще пять дней, но они свелись к трем: нотариус сократил свой отпуск. Однако нам не удалось созвониться с Изабель. Первого сентября мы с самого утра ползли по дороге под буйным грозовым дождем, настигшим нас возле Азэ-ле-Ридо. Мало сказать, дождь – это был настоящий потоп. Временами машина просто не могла продвигаться вперед. На подъезде к Версалю у нас лопнула шина. Зонтика не было. Пришлось менять колесо прямо под ливнем. В Шату мы приехали только к трем часам дня. Небо так почернело, что казалось, наступила ночь. Выйдя из машины, мы помчались к дому и, насквозь мокрые, с разбегу ввалились в переднюю. Я сказал Сенесе: «Хочу принять ванну. Или давай ты первый». Мы взбежали на второй этаж. Я поднимался по лестнице вслепую, пытаясь на ходу стащить через голову мокрый, облепивший тело свитер. Сенесе, шедший впереди меня, распахнул дверь спальни.
Внезапно я ткнулся головой в спину Сенесе, замершего на пороге. На его лице был написан ужас. Я перевел взгляд с него на то, что повергло его в столбняк.
Они кричали от наслаждения.
Флоран вошел в комнату. Но они ничего не видели и не слышали, их стоны звучали все громче, тела сливались все тесней. Сенесе протянул руку к выключателю и погасил свет. И тут они смолкли, в комнате воцарилась мертвая тишь. Сенесе вернулся к двери, мягко прикрыл ее, прошел мимо меня, сжав зубы, белый как стена – как руки его матери на белой простыне постели, – направился к ванной и заперся там.
Я не знал, что и делать. С меня ручьями текла вода. Вдруг дверь ванной приоткрылась, и мне просунули в щель полотенце. Я взял его. Флоран снова запер дверь на ключ. Я никак не мог решить, что же мне делать. Так и стоял, машинально вытирая полотенцем волосы, лицо. Потом я увидел, как из спальни выскользнула смутная тень: мужчина торопливо прокрался но стенке к лестнице и сбежал вниз. Послышался сухой щелчок захлопнутой входной двери. Я подумал, что самое лучшее – оставить мужа и жену наедине, тем более что Сенесе, дважды повернув ключ в замке, ясно давал мне понять, что хочет остаться один. А Дельфина наверняка гостила у мадемуазель Обье. Я неслышно покинул дом и выбежал на улицу, под дождь, яростно растирая волосы махровым полотенцем. Сел в машину и поехал в Сен-Жермен-ан-Лэ, к Дельфине и мадемуазель Обье.
Всякое земное счастье, всякая, даже самая малая радость, что выпадает на долю человека, пробуждает зависть богов, усугубляет страдание того, кто был распят на кресте, бередит его раны. Сенесе был ужасен в своей ревности, в безумных галлюцинациях, рождавшихся по самым ничтожным поводам. Я часами с болью в душе выслушивал его сумасшедшие бредни. Смерть матери, нежданная измена жены – все его предали, все хотят его смерти. Я не осмеливался прерывать его, но мечтал об одном – сбежать подальше, не видеть всего этого. Мне ведь тоже особенно нечем было гордиться. Я думал о животных-паразитах. Тело моего друга было раковиной, к которой присосались паразиты. И я в том числе.
Лично я никогда не чувствовал себя «в руце Божией» и до того дня не становился – и, надеюсь, не стану (стучу по дереву!) – жертвой мистических видений и прочих чудес. Но мне кажется, что я уловил в бредовых измышлениях Сенесе нечто близкое к таким феноменам: это было подобие божественной ревности, это говорил оскорбленный бог. Открывшаяся измена причинила ему невыносимые страдания; к счастью, он ни на миг не заподозрил в предательстве меня самого. Каждая мелочь причиняла ему боль. Каждое слово Изабель ранило как стрела. Каждая минута ее отсутствия подтверждала наихудшие подозрения.
Мучительное – и вполне понятное – сознание того, что не он разбудил в жене безумную страсть, заставляло его уподоблять себя постной пище, безвкусному леденцу, жалкому отребью. В его душе рычала ненасытная свора терзаний. Он жаждал больше, чем забытья, – позора, больше, чем печали, – горя, и больше, чем горя, – страха, ненависти, презрения к себе. Он был одержим этим и наяву, и даже во сне. Ему требовались ночные кошмары, холодный пот, сердечные перебои, вопли ужаса. И чтобы все это не давало спать Изабель.
Меня иногда посещает довольно страшная мысль: уж не изобрели ли мы испуг и депрессию, чтобы утешаться? Все окружающее служило Сенесе тайным посланием: сочувственная нотка в голосе, ласка во взгляде, заминка с объятием. Он стал частным детективом, гением сыска, зорким, как сова в ночной тьме.
У меня есть некоторые причины верить в метампсихоз. Я и сам побывал в другой жизни раковой клеткой и слезой, слепнем и ослом. А также устрицей, ветром, страхом, комком масла, вздохом. Однако в его случае это были, скорее, крохотные личинки, которые росли, стремясь, подобно инфузориям и спрутам, заполонить все свободное жизненное пространство; вот так же душевнобольные, рисуя, замазывают красками всю площадь холста, весь лист бумаги. Можно сказать, что между ним и его страданиями то и дело вставали бурные крещендо, внезапные, страстные аччелерандо. От него ничто больше не укрывалось. Самая легкая гримаса тут же вызывала возглас: «Вот видишь!» – самый легкий намек на аромат духов – «Я так и знал!», самое легкое ласковое прикосновение ранило. А вздох и вовсе расценивался как тяжкое оскорбление.
Я старался приходить только тогда, когда он был один. Но его одержимость не знала границ, и я часто становился невольным свидетелем поистине водевильных сцен. Он работал день и ночь. Но все было напрасно. Водка и коньяк, сигареты, бесчисленные чашки кофе, леденцы всех сортов, побуждавшие его пить снова и снова, лишали его сна. Закончив диссертацию, он написал целую кучу научных статей, – не помогло и это.
Начался учебный год. Изабель преподавала немецкий язык в Рюэйле. Ибель не верила в искренность страданий мужа. «Да он просто пыль в глаза пускает! – говорила она, пожимая плечами. – Разыгрывает тут пошлую драму с наказанием виноватых!» На мой взгляд, Сенесе был оскорблен гораздо глубже, чем ей хотелось думать. Он ревновал Изабель к прошлому, к настоящему, к будущему, к ее родителям, к их дочери Дельфине, к своей только что умершей матери, ко всем знакомым, к окрестным торговцам, к снам, которые она могла видеть и которые, по его словам, скрывала от него.
«Это все, что ты можешь мне сказать? – вопил он. – Что ты молчишь, тебе ответить нечего?»
Бывали у него взрывы почти комического толка: «Зачем я кричу? Если хочешь знать, я кричу, чтобы заставить себя услышать!» Это звучало неслыханной банальностью – хотя, может быть, не такой уж и неслыханной?! Еще одна часто повторяемая фраза – загадочная, абсурдная и душераздирающая – провоцировала бесконечные перепалки:
«Лучше молчи, Изабель! Не заставляй меня говорить то, чего я не сказал!»
Он произносил это со свирепой угрозой, придававшей его словам мрачный, зловещий смысл. Высказавшись таким образом, он несколько минут молчал, тяжело переводя дух.
По вечерам, если Изабель прибегала домой с небольшим опозданием, Сенесе подходил к ней и спрашивал театральным шепотом:
«Где ты была?»
«Да нечего было сидеть и ждать меня!» – отвечала она, стараясь говорить весело.
И тут опять начинались бесконечные монотонные причитания:
«Значит, ты не хочешь сказать, где была?»
И снова раздавался крик: «Ты лжешь!» Я спешил исчезнуть. И появлялся в Шату лишь после звонка Сенесе. А в остальное время, укрывшись в своей квартире, играл на виолончели. Или переводил. По ночам я будил Дидону, сажал ее к себе на колени и спрашивал: «Как мне следовало поступить?» Она отказывалась открывать глаза. Отворачивалась от меня. Не желала отвечать. Не удостаивала ни коротким мяуканьем, ни взглядом, ни касанием лапки. Всем своим видом выражала решительное осуждение. Я сильно подозревал, что она ревнует меня к Изабель.
В нашем подлунном мире всякое существо влачит за собой неотвязную тень. У тени есть имя – воспоминания, и это довольно бесцеремонные гости. Воспоминания помогают человеку быть, помогают привлекать к себе других людей; так у младенцев есть извечные приемы, помогающие им обратить на себя внимание окружающих, получить пищу и вызвать восхищение собственной персоной.
У меня есть свой способ понравиться: я упрямо стараюсь, как это ни смешно, умилить окружающих своей неуклюжестью и, таким образом хотя бы воззвать к их снисходительности, к их доброте. Этот способ всегда казался мне безотказным: чтобы понравиться, следовало выглядеть беспомощным неумехой, эдаким тюфяком. Впрочем, если вдуматься, такое поведение свойственно не столько маленькому человечку в колыбели, сколько луковице в горшке или хризантеме в кладбищенской вазе.
Я питал нежную привязанность к зеленому внедорожнику, купленному несколько месяцев тому назад. По субботам, в десять утра, после четырех-пяти часов игры на виолончели, я ехал в Шату. К одиннадцати я уже добирался либо туда, либо в Сен-Жермен. Я был готов вспыхнуть, как груда сухих листьев. Я и сейчас похож на эти листья – только чуть более пыльные чуть более съеженные, но зато более яркие – красные, желтые, белые – и словно отлакированные дождями и порывами ветра. И однажды искра вспыхнула: это случилось в тот миг, как я подъехал к дому. Ибель была одета в легкое шелковое платье черного цвета – и как же она была красива, как величественна, как царственно-небрежна!
«О, Карл, вы с ними разминулись буквально на минуту! Дельфина и Флоран поехали на праздник в школу Дельфины. Они вернутся не раньше половины первого. На обед у нас баранья лопатка, а к ней… – добавила она так торжественно и напыщенно, словно речь шла о каком-то редком изыске, – будет овощное ассорти!»
Я поцеловал ее в щеку. Я сильно опасался, что под красивым словом «ассорти» скрывается обыкновенная фасоль. Она приготовила две чашки кофе. Ее шелковое платье облегало тело и подчеркивало каждое движение этого тела. Я сидел неподвижно, стараясь не глядеть на тело Ибель. Стараясь глядеть только на облекавший его черный шелк. Она подошла к низкому столику. Передвинула лежавший на нем камешек. Передвинула цветы.
«По правде говоря, – сказала она как бы про себя, чуть брюзгливо, подбирая слова и отчеканивая эти слова, – я не думаю, что нужно провести всю жизнь в ожидании, когда рак на горе свистнет, чтобы в один прекрасный день убедиться, что нет никакой горы и никакого рака».
«Вы правы, Ибель. Я с вами согласен».
Я сидел в оцепенении, без сил, без единой мысли в голове. Она опустилась на корточки перед журнальным столиком, спиной ко мне, и стала вынимать цветок из вазы. И вдруг произнесла – тихой, приглушенной скороговоркой:
«Карл, мне хочется раздеться перед вами, здесь, прямо сейчас. Мне очень этого хочется».
Наступило молчание – как теперь мне кажется, именно мое. Этот дрожащий, тоскливый голос, это предложение потрясли меня. Она не двигалась, продолжая сидеть на корточках, спиной ко мне. Я подошел, схватил ее за плечи, поднял, привлек, прижал к себе. И начал целовать ее плечи.
Она отстранилась и повторила:
«Я хочу раздеться».
Я невнятно пробормотал «да»; замешательство – или желание – пресекло мой голос. Она смотрела на меня, склонив голову к плечу, с бесстыдным торжеством, которое трудно описать. Я взглянул на ее платье, на это длинное черное полотнище, упавшее кучкой к ее ногам: скомканный шелк еще хранил тепло и нежность форм, которые только что скрывал от взгляда. Потом я поднял глаза на Изабель; не могу передать, как прекрасно было это тело и как я любил ее.
Ты заключаешь в объятия горячее тело, оно для тебя – центр вселенной. Страстно обнимаешь его. Сам ты в этот миг – всего лишь точка в пространстве, почти мысль. Единственное тело, существующее в мире, принадлежит пылкому существу, которым ты стремишься овладеть.
Мы удивленно раскрываем глаза. Мы безмерно поражены. Мы никак не можем поверить собственным ощущениям. Никак не можем привыкнуть к тому члену, что символизирует наш пол, к метаморфозам этого члена, к притягательной силе, которая в нем таится; всякий раз это так неожиданно, всякий раз приводит в изумление. И мы не устаем – год за годом, тысячелетие за тысячелетием – подвергать его испытанию. И никогда не находим в нем ничего, что насытило бы наше любопытство, а оно снова и снова распаляет наше вожделение. Вот почему мы заводим, одну за другой, связи, которые, будучи изначально абсурдными, все-таки заставляют наше сердце трепетать, глаза – гореть, а горло – сжиматься. И всегда с недоумением, а потом и с яростью убеждаемся, что наш член сам по себе не имеет никакого смысла.
Она протянула руку и включила лампу «carsel». На улице снова зарядил дождь. Он начался уже после наших объятий. Я лежал, уткнувшись лицом в ее живот. Она гладила меня по спине и вдруг спросила:
«Карл, что за шрам у тебя на плече?»
Я чуть смущенно рассказал ей про то памятное утро 1946 года. Мне было три года. Мне показалось, будто мама с размаху бросает мне прямо в лицо вазу братьев Дом. Я попытался увернуться, и ваза угодила мне в плечо, а не в голову. Рана оказалась довольно серьезной, меня отвезли в больницу. Там я страдал не столько от боли, сколько от больничной обстановки и от разлуки – не с фройляйн Юттой, конечно, а со своими сестрами. Возвращение домой стало для меня, без сомнения, самым прекрасным воспоминанием в жизни. Я страшно гордился перед сестрами тем, что мать отличила меня среди всех прочих, пусть даже таким образом. Приезд из больницы вылился в настоящий триумф и стал поводом для грандиозного пиршества с горами песочных, кремовых и шоколадных пирожных.
Рассказывая Ибель эту историю, я обнаружил одну поразительную вещь, которую раньше не замечал. Я жадно вгляделся в ее лицо.
Она улыбнулась мне. Я изучал ее взгляд, ее глаза. И внезапно я понял, что меня зачаровывало, хотя я тогда еще не постиг всего значения своего открытия – сходства Ибель с моей матерью: обе они были высокие, стройные, с сумрачным, жестоким взглядом.
Любострастные игры волшебно преображают тела. Люди, желающие нравиться, притягивают свет, накапливают его в себе. Тела любовников излучают сияние. Их движения легки и уверенны – по крайней мере, вначале, до того, как они долго занимались любовью, или до того, как обнаружили, что желание, влекущее их друг к другу, вовсе не так уж исключительно, как им прежде казалось. Вообще, всякий любовный роман заканчивается примерно так: «Ах, простите меня, я ошибся. Я принимал вас за кого-то, кто… за кого-то, кому… Я обознался…»
Я силился представить себе что-нибудь огромное, сравнимое с огромными золотисто-голубыми очами Изабель. С ее прозрачными, колдовскими, бездонными очами. Затуманенными, влажными (такими же влажными, как нередко бывали ее ноздри) от слез гнева или безудержного хохота. Ее глаза, ее зрачки, и этот светлый блик на голубой эмали… Крошечная Австралия, затерянная на голубоватом земном шаре.
Я хочу описать взгляд Ибель, но это значит описать невозможное – все равно что выразить в звуках безмолвие. Я набрасываю на бумаге короткие заметки. И никак не могу связать их воедино. Мало-помалу во мне всплывают воспоминания о нескольких сценах – смутные, расплывчатые, подобные странным пузырям, всплывавшим на поверхность стылой воды Пфуля, озерца в глубине бергхеймского парка, где обитало множество сомов, маленьких черепах и лягушек; гомон этих последних вызывал у меня в детстве и восхищение, и смутную боязнь. Я наверняка записываю эти сцены-миражи потому, что они – и они тоже – наводят на меня страх не столько самой своей сутью, сколько внезапным, сбивающим с толку возникновением в памяти. Все, что я пишу, кажется мне лишенным вымысла, кажется мне необходимым и словно продиктовано каким-то призраком. Я набрасываю эти записи, потому что рассказать об этом невозможно. Любовь не поддается пересказу, любовное страдание не поддается пересказу, любовное счастье тоже не поддается пересказу. И сияние любви также не поддается пересказу: оно чудесно, но ничего не освещает, и в конечном счете кто знает, может быть, это чувство, этот проблеск истины, страсти, откровенности, наготы, естественности – всего лишь ложь во плоти, в человеческом теле, на миг ставшем пылающим костром, ставшем солнцем, – сами эти образы вызывают сильные сомнения. Нет, любовь не поддается пересказу. Можно ли сказать: «У нее были груди, которые… ноги, которые… ягодицы, которые…» – и тут же, следом, заговорить о неопалимой купине? О Боге? О солнце? Мы просто безумны.
И все же я любил ее. Любил ее глаза – быть может, сильнее, чем все остальное, – расширенные, голубые, сияющие, жестокие, ужасные (какие дурацкие, ровно ничего не говорящие эпитеты!), – ее огромные голубые глаза, ее черные волосы, гордую посадку головы. И звук ее голоса, слегка дрожащего, вибрирующего, чуть глуховатого, с неожиданными звонкими нотками, не то чтобы сдавленного или ломкого, но, скорее, гортанного; а зимой, когда она часто простужалась и ходила с влажным, покрасневшим носом – что делало ее еще прекраснее, – в этом гортанном голосе, теперь действительно сдавленном и ломком, слышалась дополнительная хрипотца, трогательная и волнующая.
Я сохранил леденящее воспоминание о сентябре 1964 года. Мне вспоминается Дельфина, в клетчатой юбочке и толстом зеленом шерстяном свитере. Она сидела на корточках – как и ее мать, – бережно держа большую гроздь мускатного винограда, на терраске с цементным полом в ничем не примечательном садике Шату. Она выплевывала пустые виноградные шкурки, стараясь, чтобы они отлетели как можно дальше, а потом кидалась к самым «удачным», чтобы обвести их мелом.
Меня тянуло в домик Шату, к телу Изабель. Но я запрещал себе ездить туда, а старался сидеть дома, на улице Пон-де-Лоди, и играть. Изабель пребывала в мрачном настроении, требовала, чтобы я все рассказывал ей, требовала от меня того, что я не мог исполнить, – требовала, чтобы я посвятил всего себя исключительно ей одной, чего я, может быть, и не хотел. Я плохо спал. Бывая в Шату, занимался слежкой. И страдал. В отличие от Сенесе, который ревновал Изабель ко всему свету – кроме одного меня, – я начал ревновать ее к нему. Меня так и тянуло следить за ними, и я боролся с собой, боролся с этим наваждением. Но как бы мы ни гордились собственным благородством, наши уши не бездействуют, – прямо диву даешься, что они еще не отросли у нас наподобие ослиных и что мы не наступаем на них при ходьбе. Домик в Шату был мал, и в нем был явственно слышен каждый звук. Я ночевал в мансарде на третьем этаже.
Я безумно желал Ибель. Сон у меня вообще скверный, а проводя ночь в Шату, я не спал вовсе. Не могу спать, когда мир залит светом. Светом, который повелевает всем живым существам открыть глаза и смотреть. По ночам мне иногда чудилось, будто я слышу их стоны. И эти стоны были тем самым светом, что заливал и будоражил мир. Глухой стон Ибель, короткий, хриплый, рыдающий вскрик Сенесе, который он тщетно пытался сдержать, – эти звуки, воображаемые или реальные, были для меня мучительной пыткой.
Звуки вообще имеют надо мной безграничную власть. Вся любовь, все ссоры, все семейные сцены, приводящие к разводу, воплощаются для маленьких детей, которые никак не могут заснуть, именно в звуки. Когда мы – Марга, Цеци и я – были детьми, то прятались за старой айвой с мощными, темными, изогнутыми ветвями. Ее шершавые плоды были безобразны на вид. Я не любил варенье, которое из них варили, и, еще менее того, приторный розовый айвовый пат, который выкладывали на мраморную доску и нарезали на кубики. Мы следили, чем занимаются в кухне Хильтруд или Беата и Винценц, а позже, на берегу озера, за тем, что делали Лизбет, Люиза и их друзья. При этом мне случалось закрывать глаза – «следить ушами». По правде говоря, я не вовсе отказывался от зрения и то смотрел, то слушал, но с опущенными веками «видел» зорче.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































