Читать книгу "Салон в Вюртемберге"
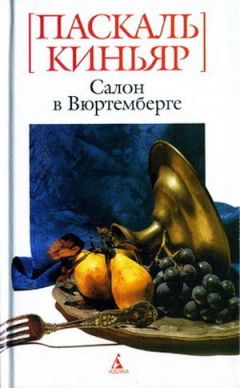
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
«Ну как поживают мои дорогие каледонцы?» – спрашивала она у своих родителей, когда звонила им из Сен-Жермен-ан-Лэ или когда они приезжали к ней в Пренуа; эта шутка – по-моему, крайне неудачная – означала, что они живут в Лон-ле-Сонье.[9]9
Лон-ле-Сонье (Франция) находится в горном массиве Юра. У побережья Шотландии (которая в старину называлась Каледонией) есть остров Юра.
[Закрыть] Вначале это уменьшительное – Ибель – постоянно напоминало мне имя Лизбет, и это сходство меня сильно коробило. Моя старшая сестра Элизабет жила в Кане и была замужем за другом нашего детства Ивоном Бюло, с которым мы встречались каждое лето на пляже Реньевилля, близ Кутанса. Лично я всегда считал нелепым и почти жестоким это намеренное искажение имен. Ребенком я недоумевал, почему меня зовут то Карлом, то Шарлем. Сестра Лизбет чаще всего звала меня Шарлем. Луиза, Цецилия и Маргарете – Карлом и даже просто Ка, да и Касилия переделала имя самой младшей сестры Маргарете в «Га» или «Марга», ко мне же обращалась не иначе как «майн Ка». Мать неизменно предпочитала имя Шарль. Я изобретал сложные ходы, стараясь понять, в какой момент мне выгоднее назваться Карлом, и мысленно составлял список преимуществ, которые можно было из этого навлечь. Но чаще всего я запутывался в своей, на самом деле нехитрой системе и «тонких» расчетах, объявляя себя Шарлем, когда нужен был Карл, и наоборот. Такая же нелепая и постоянная путаница происходила с Бергхеймами, которых было три – один во Франции, возле Верхнего Кенигсбура, в пятнадцати километрах от Кольмара, и два в Германии – на берегу Эрфта и на берегу Ягста. Это казалось мне дикой несуразицей. И выглядело тем более несправедливо, что самый маленький из них – хотя вряд ли самый безвестный – находился ближе всего к югу. В нем-то мы и жили. Не знаю, страдали ли мои сестры в той же мере, что и я, от искажения их имен. Мне трудно утверждать наверняка, но думаю, что Марге это не нравилось. Элизабет и Лизбет, Луиза и Люиза, Сесиль и Цецилия, Маргарете и Марга, Шарль и Карл – имена менялись очень легко, тем более легко, что смена имен объяснялась соглашением между мамой и папой, то есть устраивала окружающих, но не нас самих. Взяв перочинные ножички, мы вырезали свои имена на стволах старых буков и вязов – последние встречались крайне редко, – и ныне, вспоминая большой сад Бергхейма, я в первую очередь думаю не о деревьях, а о наших именах. Только не о буквах, процарапанных на коре, а о звуках, что составляли эти имена, произносимые чужими устами и оттого как бы материализованные, безжалостно врезанные в наши души и такие же реальные, как дыхание, вылетающее зимой изо рта белым облачком. Я до сих пор чувствую дискомфорт, стеснение при мысли об этом самоуправном и переменчивом «крещении». И еще мне иногда случается долго рассматривать какой-нибудь старый ствол – бука, вяза или дуба, – стоя в двадцати-тридцати шагах от него, со смутной уверенностью, что, вглядевшись хорошенько, я смогу увидеть… сам не знаю, что именно, – не лицо одной из сестер, и, уж конечно, не ее имя, и не фигуру, а нечто, возникающее из тайника, из-за куста, из-за угла старинного особняка, – совсем как в детстве при игре в прятки, когда все время кто-то чудится за деревом, где на самом деле никого нет (быть может, мои детские игры в прятки, или в веревочку, или в «найди предмет» перевоплотились в эти страницы?), и когда кричишь, топая ногой и призывая покинуть укрытие: «Эй, не жульничай! Я тебя видел! Давай выходи!» Мне и теперь кажется, будто я явственно вижу Маргу, Люизу, Цеци и Лизбет. И я кричу: «Выходи! Выходи!» Как будто можно вызвать из прошлого Изабель-Ибель, Дельфину или крошку Жюльетту. А впрочем, почему бы и нет, – нужно только долго-долго смотреть на самые толстые, самые мшистые деревья, окликая тех, кто давно уже мертв: Мадемуазель, Сенесе, Люизу, мою мать, Дидону или Понтия Пилата.
Все тонет в забвении. Моя жизнь, эти лица, эти короткие сценки – все безвозвратно тонет в забвении, если я не пишу. Я вытаскиваю на свет божий хоть какие-то краски, а иногда и их переливы. Но чаще всего это не мерцание и не аромат, а обрывки звуков. Неслышные, живущие внутри звуки. Все музыканты страдают этой болезнью – этой напастью, от которой не могут отделаться даже во сне. Стоит мне сосредоточиться, чтобы вспомнить дом в Сен-Жермен-ан-Лэ, как я слышу стрекотание швейной машинки мадемуазель Обье; вот так же неумолчное стрекотание цикад мгновенно вызывает у меня в памяти маленький домик в Борме. Своей любовью к музыке я обязан Люизе. Я до сих пор могу петь наизусть, целыми сборниками, сонатины Кулау и Клементи, которые она играла в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, – мне же было в ту пору года три-четыре. Я тоже учился игре на пианино, наряду с виолончелью, вплоть до тринадцати лет. Это был «Erard» с корпусом желтого цвета. И лишь одно обстоятельство заставило меня бросить эти занятия, а именно шумное дребезжание медных розеток подсвечников в четыре свечи с их терпким, душным запахом расплавленного воска: в возрасте четырнадцати лет Люиза, ударившись в романтику, решила, что ноктюрны, «возвышенные» этюды или аппассионаты следует разыгрывать только при свечах. И решительно убрала лампу с учебного инструмента. Правда, мое воспоминание об этом событии зыбко и не очень надежно. Едва мне исполнилось двенадцать лет, как отец усадил меня за орган. И в том же году, по случаю дня рождения, мне купили первую «взрослую» виолончель: посредственную, но прочную «Markneukirchen» начала XIX века. Кстати, эта виолончель имела четыре маленьких колка, – они были удобны для настройки инструмента, но иногда вдруг «оживали» и начинали потрескивать или гнусаво вторить соседней струне, приводя меня в неистовую ярость. И вот таким образом я вдруг осознаю ошибку, которую совершал в течение всей своей жизни, а теперь допустил снова, – в чем, несомненно, являюсь прямым потомком героя Гриммельсхаузена, даром что Симплициссимус играл не на виолончели, а на волынке, желая напугать то, что его пугало. Я долго полагал, что страсть к виолончели и виоле да гамба[10]10
Виола да гамба – род старинной виолончели.
[Закрыть] внушила мне великолепная коллекция виол, выставленных в Мерзебурге, вкупе с портретом самого герцога Мерзебургского, который несколько напоминал чертами лица нашу фройляйн Ютту. Но это было отнюдь не так: мои сестры уверяли, что к виолончели приобщил меня папа, и приобщил, по их выражению, истинно по-тевтонски. У Лизбет была скрипка, на которой она играла очень плохо; у Люизы – пианино, и она играла на нем превосходно; Цецилия играла на скрипке – настолько скверно, что ей перенастроили инструмент на квинту, ниже обычного, чтобы ее скрежет был не так слышен и чтобы она могла исполнять партию альта; зато Марга играла на скрипке великолепно и, кроме того, обладала в детстве чудесным голосом; я же с той минуты, как научился стоять на ногах и кое-как читать буквы и ноты, исступленно держался за свою виолончель-четвертушку. Думаю, что при таком положении вещей шестой ребенок, появись он на свет из чрева моей матери, был бы просто обречен, следом за мною, играть на второй виолончели и наверняка завершил бы эту свою карьеру, встав в отрочестве за контрабас. Так что я расстался с пианино отнюдь не по вине дребезжащих розеток. Мы охотно измышляем воспоминания или мифы, в которых выглядим самоотверженными героями. Владение вторым инструментом считалось обязательным, и я бренчал на фортепиано, подчиняясь этому правилу, а также нерушимой традиции, по которой все мужчины нашей семьи становились церковными органистами. Словом, выбор виолончели, не говоря уж о виоле да гамба, свершился и стал моим уделом – или хотя бы профессией – не по моей воле.
Я всегда обостренно воспринимаю речь каждого человека, этот сложнейший инструмент звукового соотношения между им самим и его семьей, местом обитания, социальным кругом, языком детских лет, – без сомнения, оттого, что провел первые годы жизни в семье, говорившей по-французски в маленьком немецком городке и, что хуже всего, сразу после войны. И конечно, именно этому единственному обстоятельству я обязан тем, что стал более внимательным слушателем, чем другие, более опытным экспертом по части мельчайших нюансов устной речи. Мадемуазель Обье изъяснялась устаревшим, цветистым языком. Стоило Дельфине влезть в тарелку пальчиками, как Мадемуазель раздраженно восклицала: «Ну вот, Дельфина, деточка, теперь вилка папаши Адама вся грязная!» – и, смочив салфетку водой из графина, обтирала ее крошечные ручки, как после рисования акварелью. Сенесе говорил изысканно и витиевато, не боясь впадать в педантизм. Более того, он специально уснащал свою речь неожиданными, редкими, грубоватыми, даже шокирующими оборотами и неизменно прерывал сам себя напыщенным вопросом: «Да можно ли эдак выражаться?» – с одной целью: проверить грамматические познания собеседника. Дельфина лепетала, как и положено ребенку – надоедливо, но очаровательно; язык Изабель был довольно эклектичным, словно она, – не желая смиряться с законами речи, подмешивала к ней то наивность, то провокацию, то высокомерие – и при этом неизменно поглядывала на нас с вызовом, настороженно, прикусив уголок нижней губы. «Ну конечно, – говорила она нам воскресными вечерами, разозленная необходимостью отъезда, а может быть, еще и обиженная тем, что мы недостаточно грустили по этому поводу, – конечно, вы-то здесь живете-поживаете, горя не знаете!»
Подобные воспоминания, с их нюансами, умиляют одного лишь вспоминающего – и совершенно непереносимы в чужих устах. Они обладают еще одним недостатком, а именно рождаются мгновенно, по первому слову, бурно изливаясь и опьяняя подобно ароматам, которые восхищают, если исходят от тех, кого мы любим, но отвратительны у тех, кто нам безразличен. Поговорки, которые Изабель изрекала со свойственным ей апломбом в пылу споров, чаще всего противоречили всякой логике. Мне помнится, например, как во время дискуссии о войне во Вьетнаме или о покушении на горе Фарон[11]11
Имеется в виду неудавшееся покушение на президента де Голля во время его поездки на юг Франции, в район Тулона, в 1964 г.
[Закрыть] она зловеще объявила: «Кто умрет от меча, тот погибнет в огне!»; мы ответили бурными аплодисментами, и это ликование уязвило ее тем сильнее, что она никак не могла понять причины нашего хохота: она-то была уверена, что ее пословицы безупречно верны и общеизвестны, и не чувствовала всей нелепости своих промахов, – так надушившийся человек не чувствует аромата собственных духов. Но эти-то ошеломляющие поговорки и были ароматом Изабель. Кстати, Изабель никогда не пользовалась духами. Когда я увидел ее вторично – кажется, все в том же мае или в начале июня, словом, одним очень теплым майским или июньским деньком, – она шла вниз по улице, уже с легким загаром на лице и руках, в розовых сандалиях – не то «состаренных», не то заношенных, в белом облегающем, уже летнем платьице с довольно короткой, выше колен, юбкой. Изабель держала в руках коричневый портативный приемничек; рядом семенила, громко разглагольствуя, мадемуазель Обье. «Представляете, – рассказывала она, – у меня была тогда горжетка из выдры и чудесная шляпа сиреневых тонов, украшенная такими бледными, меланхоличными, но очаровательными цветиками и листочками…» Мы ее не слушали: Изабель говорила со мной о Сенесе. Вообще-то, она не упускала случая вывернуть наизнанку заплесневелые, времен Третьей республики, пословицы мадемуазель Обье. Так, например, Мадемуазель строго объявляла Дельфине, пытавшейся, елико возможно, отодвинуть неприятную процедуру мытья рук перед едой: «Ленивые гости, немытые гости найдут в нашем замке объедки да кости!» Каковую сентенцию Изабель переиначила, придав ей, несомненно, менее жестокий смысл: «Ленивых гостей и немытых гостей у нас ожидает обед без сластей!»
Тот, кому не довелось жить в шестидесятые годы в Сен-Жермен-ан-Лэ, может быть, и познал счастье жизни, но уж точно не изведал счастья жить, словно рождаясь заново каждый божий день. Вдали слышалось пение мадемуазель Обье, мурлыкавшей песенку Девьенна «Благоволите, сударь мой, от прочего меня избавить…». Новая «кухня» – иными словами, бывшая кладовая на первом этаже, наконец-то доставшаяся Изабель после долгих и трудных дипломатических переговоров, достойных правителей древней Византии, – несмотря на скверное освещение из-за прикрывавшей ее лестницы, выглядела светлой и очень уютной. Малышка Дельфина готова была часами сидеть здесь за столом и болтать. Она старательно нарезала ломтиками хлеб. Затем придвигала к себе горшочек с маслом, щедро намазывала тартинки и медленно обмакивала их в чашку, разглядывая золотистые капельки жира, собиравшиеся вокруг ложки. Внезапно она вскакивала с места и, не спросив разрешения, гасила огонь под кастрюлькой с молоком. Она боялась как ужасного несчастья – я так и не понял причины этого страха, – что молоко вскипит и убежит через край. Обеденный стол вечно был занят липкими баночками варенья всех цветов, садовыми абрикосами, желтыми сливами, яркими пакетиками карамели, которые Сенесе не успел сунуть в карман и перед которыми меркли грустные, блеклые краски лесных орехов, прованских роз и коричневатых горбатеньких конфет-пралине. Изабель часто донимала Сенесе упреками. Если ее пословицы бывали неуместны, а иногда и просто бессмысленны, то в этих случаях она могла быть жестокой и выражаться весьма хлестко, пользуясь при этом изысканными оборотами, которые делали ее речь еще выразительнее. «Когда я размышляю обо всем этом – о своей жизни подле тебя, об унылом будущем, что ты мне уготовил, о монотонном существовании, лишенном всяких, даже самых мелких, приятных сюрпризов, но зато полном бесконечных наваждений и неизлечимых маний, мне вдруг становится ясно, что, во-первых, солнце, озаряющее мою жизнь, – всего-навсего карманный фонарик, а во-вторых, давно пора изобрести дезодорант, защищающий от отсутствия запаха». Сенесе возражал, как всегда, глухой скороговоркой, превознося радости повседневной работы и серьезных изысканий, любовь к точности, свойственную великим людям, одержимым страстью к науке, но Ибель не желала внимать его доводам и удалялась с видом разгневанной королевы, бросив мне по дороге, если я оказывался рядом: «Не слушайте его, он сегодня не в духе!» или: «Он что-то разворчался сегодня, оставьте его, пускай себе ворчит!»
По субботам после обеда, если погода была мало-мальски теплой, она облачалась в одну из длинных рубашек Флорана и шла в таком виде загорать на солнышке. Ее груди мягко колыхались под рубашкой. Шарканье тапочек по плиточному полу, волосы, смоченные под кухонным краном, пикники в лесу или в дальнем уголке сада, вдали от стыдливых очей Мадемуазель – но не от влажной черной «пуговки» Понтия! – долгие беседы на природе…
Эти утехи отчасти напоминали мне Бергхейм в середине августа, когда мы возвращались из Кутанса. Точно так же мы забирались поглубже в кусты, раскладывая там плетеные шезлонги, чтобы проводить наши тайные сборища с комфортом. Бергхейм был маленьким городком, расположенным в долине близ берегов Неккара, среди виноградников, пшеничных полей и плантаций хмеля, на полпути между Бад-Фридрихшаллем и Нойенштадтом. В моей памяти этот городишко, где я провел все свое детство, остался скоплением церквей и романских часовен, круто взбегающих улочек, деревянных распятий, чугунных печурок и розоватой мостовой; все это казалось мне таким же древним, как челюсть Мауэра, Венера Виллендорфская или антилопа на стене пещеры в Кельхейме. Швабская флегматичность и любовь к выпивке, несомненно, оставили во мне свой след. Я никогда не думал о возвращении в Бергхейм. И решительно отказался бы от этого, предложи мне кто-нибудь поехать туда. Я унаследовал ненависть к этому городу от матери. В моих воспоминаниях наш дом – с его слуховыми оконцами на крыше, с большими трехгранными эркерами на первом и втором этаже, глядевшими в сад подобно корабельной рубке, со сборчатыми шторами, которые больше не поднимались доверху (если предположить, что их вообще когда-нибудь поднимали так высоко), и нижними атласными занавесочками, нанизанными на медные прутья и позволявшими взрослым видеть сад, а детям – надеяться дорасти до этого, с красно-белыми маркизами и обширным парком, спускавшимся к маленькому озерцу, – казался мне старозаветным, как дороги, как пещера Ласко. Озеро в глубине парка, Ягст, Неккар были для меня все равно что воды каменноугольного периода. Так можно ли думать о возвращении в такие безнадежно доисторические места?! Эта мысль мне и в голову не приходила. Я с удовольствием жил настоящим. Военная служба близилась к концу, и вскоре это испытание – ненужное, бессмысленное, противоестественное – должно было остаться позади. Стоял июнь, притом июнь в Иль-де-Франс, – сияющий и погожий, как нигде. Я встретил первых своих друзей. Я обитал в райских садах. Тогда я еще спал. Спал по пять, по шесть часов кряду, не просыпаясь, глубоко, долго, без снов…
Над нашими глазами непрерывно опускаются и поднимаются веки. В короткие, но регулярные промежутки между первым и вторым мы не очень-то много успеваем увидеть. Дельфина толкала перед собой большую тачку, полную червивых яблок и пучков травы: это был подарок ко дню рождения. День рождения Сенесе приходился на 19 июня. Он рассказывал, что в течение всего детства бабушка донимала его воспоминаниями о том, как она получила телеграмму с известием о его рождении в тот самый день, когда Япония объявила ультиматум Франции. Сенесе подхватывал дочь на руки и целовал; затем воздвигал из ее замечательного подарка – содержимого тачки, которое она вываливала наземь, – нечто вроде кургана и приносил жертву своему гению-хранителю, выливая стакан вина на пучки травы, а также богам Ларам и богам Манам, рассыпая вокруг кротки засохших конфет и миндального печенья. Затем он бережно разбирал пакеты с подношениями от Мадемуазель и Ибель и три свертка, чья доставка из Невера стоила мне величайших усилий; на посылках стоял штамп этого города. Сенесе был из той же когорты сентиментальных глупцов, что и я сам. Он праздновал все, что давало повод к празднику. Дельфина взбиралась ко мне на колени и, умостившись поудобнее, начинала атаковать меня бесконечными загадками сфинкса. «Шар! – так она звала меня. – А рыбки пьют много водички?» Я сидел с несчастным видом, не находя ответа. Сенесе торжественно разворачивал свертки, приветствуя каждый подарок восторженным ревом. Там были редкие монографии, лампа времен Второй империи от Мадемуазель, «абиссинцы» и «негусы» в темном, тягучем шоколаде под плотной блестящей корочкой из жженого сахара, напоминавшей цветом лак старинных скрипок. И наконец, «лолотты» из Невера – сочные фруктовые пирожные в твердой сахарной оболочке, любимое лакомство Мадемуазель.
«Ах, эти неверские „лолотты"!» – в экстазе восклицала она. Да и сам я под влиянием Флорана начал открывать в карамели определенные достоинства, а именно возможность укрыть под наслоениями сахара ореховое ядрышко, или правду, или отчаяние, или желание, или промах. Эти конфетки чем-то напоминают пилюли: пока мы их не рассосем или не разжуем, они внушают нам легкий страх. Так же обстоит дело с сонатами, теориями, религиями, любовью и даже самим страхом – все они подобны тем сахарным, сладким или горьковатым оболочкам, под которыми скрыты обнаженные истины, сами по себе жестокие или тривиальные. Честно говоря, именно поэтому я питаю больше любопытства, нежели истинного пристрастия, к лакомствам типа карамелек, леденцов и прочих сластей, которые нужно сосать или грызть. Зато я люблю сладкие пироги – уж они-то не скрывают никаких секретов, никаких сюрпризов, если не считать того особого случая, когда небо очищается от туч и можно идти за путеводной звездой: я имею в виду боб в пироге.[12]12
7 января во Франции на праздник Трех царей (или волхвов) пекут пирог, в котором прячут боб. Того, кто его найдет, объявляют «королем» или «королевой».
[Закрыть] В каком-то смысле наша с Сенесе конфронтация, которая, впрочем, тесно сближала нас, была конфронтацией конфет и выпечки. Он любил рыбу и любил удить, а это опять-таки невидимый, скрытый сюрприз – скользкое, пестрое, странное тело, снующее в воде. Я же очень люблю дичь, – иными словами, видимую добычу, стремительную, теплую, увертливую, но которую можно догнать и схватить. Таким образом, это был еще один пункт нашего несходства: рыбалка против охоты. Из моей нелюбви к конфетам я сделал одно-единственное исключение, да и то когда был ребенком. Однако речь шла не о засахаренном миндале, анисовых леденцах, вишнях в шоколаде или конфетах со скрытым внутри ликером, – меня интересовали только жестяные коробки для сладостей. Я терпеть не мог лакрицу, но притворялся, будто люблю ее потому что коллекционировал коробки из-под лакричных леденцов – чудесные красно-черные коробки из Юзеса или Тулузы, красивые коробки фабрики «Флоран», фабрики «Зан», фабрики «Кашу-Лажони», фабрики «Лоретта», фабрики «Мийе», фабрики «Атос». Увы, Марга с Люизой не жаловали эти конфетки – что в виде палочек, что конусообразные, липнувшие к кончику языка, что грушевидные, – предпочитая всем им лакричный корень, который упрямо мусолили во рту, невзирая на все мои уговоры отдать предпочтение леденцам, в интересах моей коллекции.
Я помню, как во дворе бергхеймской школы несколько моих товарищей по классу стягивали черную, словно траурную, ленту с конфетной коробки, купленной за бешеные деньги в Штутгарте, – в Хейльбронне такие не продавались, ведь то действительно были самые «черные» годы; розетку в середине ленты украшала перламутровая пуговка. Эта бархатная лента, свернувшаяся, точно египетская змея, неизменно напоминала мне старинный смычок с выгнутой горбом, но прочной тростью: в ее торец мастер тоже вставлял маленький перламутровый кружочек.
Я до сих пор храню эту коллекцию жестяных коробок; в них по-прежнему лежат сокровища, достойные галеонов Кортеса: канцелярские скрепки, иностранные марки, которые я собираю для малыша Винценца и Эгберта, мелкие иностранные монетки, не истраченные в путешествиях, – пенсы, сентаво, шиллинги, драхмы, злотые…
Но главная прелесть этих «лакричных» коробок, ценимая нами превыше всего – когда мы были маленькими и еще не доросли до зеркал, – состояла в том, что мы пользовались их крышками как карманными зеркальцами.
Изабель готовила великолепно, хотя приступы кухонной лихорадки одолевали ее крайне неравномерно и чаще всего в самое неподходящее время. Например, она распахивала дверь и громко звала:
«А ну-ка быстрей к столу! Я вам приготовила такое жаркое, что…»
«С какой стати, ведь мы же приглашены к Мадемуазель», – удивлялся Сенесе.
Изабель приходила в ярость, вопила, рыдала, била мужа кулачками по спине и плечам, дулась, всхлипывала.
«Ладно-ладно, все вы тут заодно против меня, как… как полицейские и воры!» – выкрикивала она сквозь слезы. И жалобно причитала, что, мол, так любовно, так заботливо стряпала, и вот теперь все насмарку, все к чертям свинячьим – что звучало вполне уместно, если речь шла о большом куске жареной свинины.
Мы пытались ее утешить, и очень скоро начинали смеяться все втроем. Флоран шел надевать рубашку и завязывать галстук. В этом последнем пункте мы с ним принципиально расходились: покидая Генштаб и переодеваясь в штатское, я отвергал галстуки. Флоран же не мог устоять перед всем, что завязывалось вокруг шеи, на поясе, на башмаках; его соблазняли даже эти слова – завязывать, связь, привязанность. Мне помнится ослепительно белый свет, казалось благоухавший не то эстрагоном, не то лавром. Его источала голая лампочка, висевшая над столом в этой полуподвальной комнате, которая ни на что не была похожа – ни на жилую, ни на погреб, ни на кухню. Такие помещения, замаскированные высоким крыльцом, называют дворницкими. Я провожал Изабель в кухню. Она выключала газ. Из чугунка, стоявшего на двух конфорках сразу, поднимался легкий пар, исходил запах лаврового листа. Я до сих пор вижу этот пар, благоухавший лавром. Не знаю, стоит ли вспоминать все, что мы пережили. И не знаю, к чему я с таким удовольствием записываю эти сценки из прошлого.






























