Текст книги "Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма"
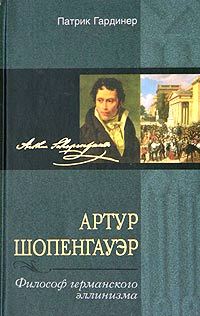
Автор книги: Патрик Гардинер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 2
Возможности метафизики
Человек становится философом вследствие некоторого удивления, от которого он старается освободиться… Но именно следующее отличает настоящего философа: его удивление рождается в процессе созерцания самого мира, в отличие от удивления неподлинного философа, у которого удивление возникает при чтении какой-либо книги или изучении некой философской системы. Шопенгауэр не был единственным, кто определял метафизический склад ума как происходящий от некоторого изначального удивления или (как он называет в некоторых своих работах) изумления; изумления, которое возникает при «рассмотрении мира и нашего собственного существования, поскольку они предстают перед разумом как загадки, ответы на которые постоянно занимают человечество» (том II).
Удивляться тому, что вещи являются такими, какие они есть, а не иными, находить странным или невероятным то, что они вообще существуют, означает, настаивал Шопенгауэр, обладать определенным мировоззрением и особым, далеко не всем свойственным темпераментом. И для того, кто не в состоянии понять такого рода отношения или проникнуть в них, кто считает «мир и существование само собой разумеющимся», для него – теории и доктрины, предлагаемые для обсуждения метафизикой, кажутся не только непознаваемыми, непоследовательными, но и вообще не имеющими никакого смысла; сам поиск метафизической истины будет для него загадкой, и он в состоянии лишь с безразличием наблюдать за безуспешными попытками разрешить несуществующие, с его точки зрения, проблемы и сложности.
Тем не менее, Шопенгауэр полагал, что полная неспособность почувствовать всю серьезность фундаментальных вопросов, которые в той или иной степени испокон веков занимали философов, встречается сравнительно редко. То, как он рассматривает мир, считал Шопенгауэр, не является сложным; такой же взгляд имеют простолюдины и невежды, хотя, несомненно, их взгляд на мир выражается абсолютно по-иному. Наше восприятие мира основывается на нашем опыте. Другими словами, оно зависит от нашего характера и всего того, что составляет сущность человека, и именно этому метафизическая мысль обязана своей жизненностью. Метафизическое размышление – это такой род деятельности, который занимает мысли человека, овладевает его воображением и подобно «маятнику поддерживает механизм метафизики в движении».
Необходимость метафизики
Одно дело – говорить о том, что существует глубоко укоренившаяся в человеческой природе склонность задавать фундаментальные вопросы и отыскивать смысл и цели человеческого существования, другое – объяснить эту склонность, и уж совсем другое – обосновать ее. Когда возникает необходимость объяснить ее, Шопенгауэр в своих различных сочинениях выдвигает ряд предположений, но все они могут быть сведены к гипотезе о различных основах взгляда на мир как на проблему, требующую решения. Однако одному из предположений он уделяет особое внимание. Речь идет о том, что люди обладают знанием о неизбежности смерти, а также о «страданиях и ничтожестве жизни». Это сочетание рассматривалось им как один из самых мощных стимулов для поиска метафизического толкования реальности и существования. «Если бы наша жизнь была бесконечна и в ней не было страданий, то никто не стал бы спрашивать, зачем существует мир и что это вообще за мир, все принималось бы как само собой разумеющееся» (том II). Но смерть и боль – неизбежная реальность. Возможно и такое предположение, что даже если бы мы и знали о существовании смерти и страданий, то они не сильно бы волновали нас, если бы «мир был абсолютной реальностью» (как утверждали многие философы), тогда это было бы нечто, включающее в себя «не только все реальное, но все возможное бытие и, вследствие этого, как писал Спиноза, его возможность и действительность были бы одним и тем же» (там же). Мы рассматривали бы его как нечто, не могущее не существовать, и, более того, что не может рассматриваться как отличное от того, что оно есть: его существование и характер никак не могут мыслиться подобным образом.
В той же мере это относится к нашему месту в мире и нашему к нему отношению. Таким образом, хотя в этом случае мы, без сомнения, будем рассматривать мир как «значительную, сложнейшую, непостижимую и вечно тревожащую загадку», мы, напротив, «как можно меньше будем задаваться вопросом о его существовании, как таковом, другими словами, как о поводе для размышления, точно так же как мы вряд ли задумываемся о невероятно быстром вращении нашей планеты» (там же).
Подобные идеи, однако, помимо логических затруднений, которые они порождают, кажутся очевидным заблуждением по отношению к тому, что мы инстинктивно принимаем за факт. Мы можем представить мир отличным от того, каким он является, мы можем представить его вообще никогда не существовавшим, и то и другое вполне возможно. Отсюда и возникают вопросы об основах и смысле существования мира. Они постоянно преследуют нас «не только потому, что мир существует, а скорее потому, что он так несчастен» – в этом и заключается мучительный для метафизики вопрос.
Помимо всего прочего, рассуждения, подобные вышеприведенным, помогают объяснить, полагает Шопенгауэр, почему различные системы, которые принимают или стремятся доказать реальность вечного существования после смерти, возбуждают такой живой интерес и вызывают всеобщее одобрение. Как правило, подобные системы предполагают существование создателя или правителя, то есть высших сил, за пределами мира: например, богов. Но не следует думать, что только присутствию этих сил они обязаны своей привлекательностью. На самом деле вера людей в Бога нераздельно связана с верой в свое бессмертие. Однако они вполне различимы по смыслу; и если кто-либо сможет доказать реальность бессмертия таким образом, что ему не придется прибегать к помощи богов или других сверхъестественных сил, которые подразумевают божество, сохраняющее нас после смерти, то теперешний восторг множества людей по отношению к
своим богам может сильно поостыть, утверждает Шопенгауэр. По этой же причине он убежден в том, что «материалистические» или «скептические» системы и теории, которые отрицали или ставили под сомнение обоснованность доктрин о бессмертии, никогда надолго не овладевали умами людей.
Из всего этого можно предположить, что Шопенгауэр стремится определить то, что называется скорее «религиозными», а не философскими теориями сущности мира. Он был уверен в том, что потребность человека как в религии, так и в философии происходит от беспокойства, которое он испытывает при восприятии и при размышлении над той реальностью, с которой сталкивается, и теми обстоятельствами, которые управляют его жизнью и переживаниями. Философия, как и религия, возникает из необходимости «объяснить жизнь», и если это обстоятельство не принимается в расчет, то невозможно понять основные философские системы прошлого, поскольку их невозможно оторвать от тех глубоких психологических и моральных потребностей, которые они призваны удовлетворять в большей или меньшей степени.
Несмотря на все вышесказанное, он был далек от отождествления философии и религии. Но говорить о том, что некоторые идеи имеют общее происхождение, не означает не понимать, что они могут сильно расходиться в других аспектах; и, хотя Шопенгауэр и называл (зачастую непоследовательно) как религию, так и философию «метафизикой», он, тем не менее, проводил между ними вполне четкое разграничение. Так, религия может быть названа «народной метафизикой» по аналогии с «народной поэзией» (балладами, например) и «народной мудростью» (мудрость, вошедшая в пословицы). Ее достоверность и очевидность лежат «за пределами ее самой», в том смысле, что она скорее зависит от «откровений, которые проявляются в чудесах и «предзнаменованиях», а не от размышления и разума. Поэтому религия предназначена для тех, кто, как полагает Шопенгауэр, составляет бóльшую часть человечества, которое «способно верить, но не размышлять», и руководит ими некий властелин, а не здравый смысл.
Когда же необходимы доказательства, утверждает Шопенгауэр, то защитники религиозных течений прибегают к тем или иным угрозам («ultima ratio theologorum» – порочный аргумент теологов), таким, как страх наказания вечными муками в ином мире или более земными наказаниями, например «смерть на костре и тому подобное». Тем не менее, это утверждение не ведет к отрицанию положительной роли, которую могут играть религии в жизни человека и общества, а потому нельзя отказывать им в определенной обоснованности.
Однако, рассматривая их как нечто очевидное и истинное, мы приходим к неразрешимым проблемам; мы сталкиваемся с фантастическими утверждениями, а также с догмами «совершенно немыслимыми» (том II).
Следует признать и то, что расцвет большинства религий приходится на те периоды, когда общий уровень знания низок, и следствием этого являются невежество и предрассудки, когда проще согласиться с тем, что проповедуют, и с теми ценностями, которые провозглашают как истинные: подобно «жукам-светлячкам, которым необходима темнота, чтобы было заметно их свечение» («Parerga», II, с. 369). В такое время желание людей получить то, чего у них нет, а также их страх перед явлениями, от которых они не в состоянии защитить себя, заставляют их больше, чем когда бы то ни было, ухватиться за надежду на существование высших сил, которые возможно вызвать молитвами и просьбами и которые могут вмешаться в ход событий. Поэтому привлекательность большинства религиозных доктрин, несомненно, в том, что они обращаются к человеческим страстям и желаниям, а не к рациональным и разумным аргументам.
Но в то же время можно создать более привлекательный образ религии, и Шопенгауэр делает предположение, в его время куда менее распространенное, чем сейчас, о том, что религии могут быть вполне правдоподобно объяснимы как «аллегории». Рассматривая их таким образом, в первую очередь в этическом смысле, приходишь к выводу, что они внушают нам в яркой и запоминающейся форме нравственные нормы поведения по отношению друг к другу, поэтому можно сказать, что многие религиозные догмы связаны, прежде всего, с земным существованием и жизнью общества. В связи с этим в работе «О религии» Шопенгауэр вкладывает в уста одного из оппонентов в своем вымышленном диалоге следующие слова: «Должен существовать единый критерий оценки, что правильно и что добродетельно, который всегда должен стремиться к чему-то более высокому. В конце концов, не важно, под какими геральдическими знаками он провозглашен, а главным условием является то, что эти критерии должны иметь один и тот же смысл» («Parerga», II, с. 354).
Но это еще не все. Религии также можно рассматривать как выражение, хотя достаточно своеобразное, неопределенного чувства, которое мы постоянно испытываем в связи с тем, что у нас есть ощущение, как будто «за границами физического мира должен существовать метафизический», причем это чувство практически невозможно четко выразить или ясно определить с помощью обычных слов или иных известных нам средств языка. Приняв это во внимание, мы больше не должны удивляться тому обстоятельству, что многие положения той или иной религии представляют собой абсурдные утверждения, а порой и полные противоречия. Более того, именно это обстоятельство позволяет понять эти утверждения, придавая им, как может показаться, вполне разумный смысл. Так как религия направляет все свои усилия на то, чтобы установить порядок вещей, которые находятся за пределами нашего обычного опыта и повседневных рассуждений, не только противоречивые, «но в то же время понятные догмы религиозных учений» на самом деле есть не что иное, как «аллегории и другие приспособления к человеческой способности понимания» (том II).
Объясняя проблему подобным образом, мы выявим причину неправильного понимания роли и назначения религии, которые заключаются в том, что мы требуем ясности и последовательности, в то время как смысл ее учений заключается в том, чтобы заставить людей почувствовать то несомненно существующее, что лежит за пределами их чисто интеллектуальных способностей, и для того, чтобы достичь своих целей, она использует все возможности воображения.
Шопенгауэр, однако, утверждает, что с философией дело обстоит противоположным образом. Философия содержит свою очевидность «в себе», и этим утверждением он в определенной мере хочет показать, что, поскольку философия пытается разрешить проблемы мира и нашего собственного существования, она должна осуществлять свое намерение таким образом, который подвластен размышлению и оценке, а не слепо апеллировать к властелину или религиозному
откровению. Суть философского исследования состоит в том, что его результат должен быть выражен ясно, последовательно и понятно, даже если истины, в поисках которых находится философ и которые он пытается объяснить, au fond – по сути своей – просты (как Шопенгауэр не раз замечает, они должны быть Simplex sigillum veri).
Далее он подчеркивает, что философские выводы и утверждения всегда истинны в самом строгом смысле этого слова – истины sensu proprio – в собственном смысле, в противоположность sensu allegorico – аллегорическому смыслу, – и должны рассматриваться именно как таковые. Если это так, то становится очевидным, что непонимание четкого различия между философским способом мышления и выражения и религиозным приведет к полному беспорядку и неразберихе, что легко можно проиллюстрировать, обратившись к истории метафизической мысли. Так, с одной стороны, философы постоянно пытались каким-либо образом объединить эти два способа, в результате чего они переносили идеи и понятия из одной сферы в другую, не задаваясь вопросом об обоснованности подобного действия. С другой стороны, представители крупных религий вторгались в сферу философии с нескрываемой целью найти «внутреннюю» и разумную достоверность своих учений, таким образом доказывая их истинность sensu proprio.
Например, вера в то, что мир был создан неким богом с определенным умыслом, который возможно постичь, должна восприниматься так же, как вера в то, что вселенная состоит из тысяч звезд. Подобное притязание, по мнению Шопенгауэра, должно казаться бессмысленным и лишенным всякого основания. Разве установленная государством утвердившаяся религия нуждается в помощи философии, если в ее пользу уже говорит следующее: «откровение, документы, чудеса, пророчества, покровительство сильных мира сего… всеобщее признание и поклонение» и последнее (но не менее важное) – «ни с чем не сравнимая привилегия иметь возможность внедрять свои доктрины в умы людей, начиная с самого нежного раннего детского возраста, вследствие чего они становятся почти врожденными идеями» (том II)?
Разумеется, он прекрасно осознавал, что эти язвительные заявления не удовлетворят верующего, который желает видеть положения своей веры как окончательные и бесспорные, выраженные таким образом, чтобы они могли быть приняты и поняты широкой публикой и повсеместно. Тем не менее, остается бесспорным тот факт, что любая попытка удовлетворить это требование неизбежно приведет к тому, что ни ее цели, ни ее суть несовместимы с природой философии и сферой ее исследований. Философию нельзя рассматривать ни как инструмент, который служит чему-либо иному, чем себе самому, ни как средство, подтверждающее какие-либо уже признанные и утвердившиеся понятия; религиозные учения никогда не принимаются философом как нечто данное, а его задачей не является их подтверждение и объяснение. Хотя выводы, к которым он приходит в ходе рефлексии, могут быть аналогичны, в некотором отношении, тем идеям, которые в завуалированном и аллегорическом виде находят выражение в некоторых религиозных доктринах. Но очень важно и необходимо, чтобы он пришел к ним независимо и самостоятельно, без принуждения и без малейшего желания доказать уже принятые догмы и вероучения.
Это, помимо всего прочего, говорит о том, что ход его размышлений должен в корне отличаться от того, в приверженности к которому Шопенгауэр обвиняет современных ему профессоров университетов. Они, будучи очарованы гегелевским «пустословием», взяли моду заимствовать принятые догмы и понятия из религии своей страны и переводить их на двусмысленный специальный язык «Абсолюта», в результате оказалось, что они не говорят «ни о чем, кроме Бога, когда объясняют, как, почему и зачем, посредством какого волевого или бессознательного действия Он создал или зародил мир, присутствует ли Он в нем или за его пределами, и так далее, как если бы философия была теологией, и цель ее исследования – прояснить все, что касается Бога, а не мира» (ЧК, 20).
Так в чем же причина этого? В христианской религии существование Бога – есть нечто, предрешенное с самого начала и не подлежащее сомнению. В философии, напротив, «нет ничего предрешенного», а ход исследования, цель которого – поиск истины, sensu proprie, «должен быть понятным и последовательным, вследствие этого она не имеет права основываться на таких понятиях и силах, сущность и природа которых непонятна. Немецкие профессора, однако, не придали этому значения; а вместо того чтобы стремиться объяснить те понятия, на которые они ссылались в своих излюбленных темах, предпочитают прятать их в словесных конструкциях, да так, что не видно даже намека на них.
Такого рода наблюдения, касающиеся религиозного и философского мышления, содержатся во всех основных произведениях Шопенгауэра. В их основе – убеждение в том, что религии не являются тем, чем их часто считают: то есть сосредоточием знания о вещах, лежащих «за пределами мира», поскольку о подобных вещах не может быть никакого знания. В то же время он полагал, что нельзя полностью отрицать предположение о том, что в качестве таковых они оказывали значительное влияние на выбор направления, в котором двигалась философская спекуляция, и, только учитывая все вышесказанное, возможно ясное понимание большинства традиционных метафизических выводов. Также представляется очевидным, что метафизические системы на самом деле создавались в уверенности, что они смогут сделать важные выводы исключительно для этики и религии, успокаивая скептиков и укрепляя доверие верующих. В этом смысле заслуга Шопенгауэра в том, что он особенно выделял то, как теологические интересы повлияли на подобный образ мышления. Но независимо от того, принимается ли его диагноз и верен ли он как правильный, именно приняв во внимание отрицание им мысли, что философия должна обеспечивать теоретическое основание для религиозных догм, помогает нам лучше понять его позицию по отношению ко всем рассматриваемым им философским проблемам и их целям.
Кант и Шопенгауэр
Я уже отмечал, что именно Кант, по мнению Шопенгауэра, с наибольшей ясностью объяснил, как философы были сбиты с пути при попытке установить истину в таких вопросах, как природа и существование Бога, что неизбежно сделало их попытки бесплодными. Шопенгауэр признавался, что всем лучшим, что есть в его философии, он обязан впечатлению, которое произвели на него идеи Платона и Канта, причем влияние последнего неизменно ощущается в большинстве его работ. Было бы, однако, неверно утверждать, что его восторженное отношение к Канту чуждо всякой критики. Напротив, в виде приложения к работе «Мир как воля и представление» он написал обширную и очень подробную «Критику кантовской философии», в которой попытался выявить и исправить некоторые серьезные, с его точки зрения, ошибки Канта, которые искажали формулировку его доктрин; а по отношению к основным принципам этического учения Канта он был настроен враждебно всю свою жизнь.
Но по отношению к Канту как «всеразрушителю», сметающему все на своем пути бунтарю, боровшемуся с притязаниями «догматической» философии, против которой и была написана «Критика чистого разума», о которую «самая изощренная теологическая аргументация разлетается вдребезги, как стакан, брошенный в стену», он не испытывал ничего, кроме восхищения; а также не уставал он указывать и на то, что лишь благодаря полному игнорированию истинного понимания кантовской теории знания профессиональным философам удавалось изобретать доктрины, за распространение которых в университетах Германии они получали деньги, «производя книгу за книгой о Боге и душе, как если бы они были их добрыми знакомыми, с которыми они имели дружеские отношения» (ВП, предисловие).
Но что же именно Кант, по мнению Шопенгауэра, доказал с помощью своих разрушительных аргументов? Несомненно, что нападение, предпринятое Кантом, было направлено не просто против попыток доказать истинность некоторых теологических положений, а против всей «трансцендентной метафизики» в целом. Он доказывал, иными словами, что невозможно вывести никаких позитивных умозаключений касательно того, что лежит за пределами возможного опыта, и, следовательно, любые претензии на познание природы неэмпирической реальности всегда лишены оснований, пусты. Более того, важно помнить, что Кант никогда не утверждал, что подобные ограничения наших возможностей познания связаны с какими бы то ни было практическими или техническими сложностями, которые не позволяют нам узнать что-либо из-за недостаточного уровня развития в данный момент, например, мы не можем говорить о том, есть ли жизнь на Марсе. Однако он настаивал на том, что существуют вещи, которые невозможно познать in principle (в принципе). Но на чем основана подобная уверенность?
Поскольку невозможно подробно изложить сложные и исчерпывающие аргументы Канта на нескольких страницах, то я коснусь лишь тех элементов его теории, которые выделил как оказавшие наиболее глубокое влияние на развитие его собственных взглядов сам Шопенгауэр.
«Величайшее достижение Канта, – писал он, – состоит в том, что он разграничил область явлений и «вещи в себе»; это разграничение основано на положении о том, что между людьми и вещами всегда находится интеллект, поэтому вещи не могут быть познаны таковыми, какие они есть на самом деле» (том II). Предшествующие мыслители, одним из выдающихся представителей которых является Локк, утверждали, что, исследуя происхождение наших знаний, мы должны, прежде всего, принять в расчет то, каким образом особенности деятельности органов восприятия влияют на сам характер нашего восприятия, и на этом основании уже можно провести границу между вещами, как они есть на самом деле, и вещами, как они являются нам. Так, Локк доказывал, что, несмотря на то что мы можем воспринимать цвет вещей, а также их вкус или запах или ощущать их влажность, тепло или холод и тому подобное, на самом деле такие характеристики им несвойственны.
Единственные свойства, которые мы можем назвать истинно существующими, – это так называемые «первичные» свойства, присущие им изначально, и к таковым относятся протяженность и расположение частей, то есть размер и форма. Кантовский же анализ, согласно Шопенгауэру, проведен на куда более глубоком уровне и имел для философии намного большее значение. Для Канта, в отличие от Локка, было очевидно, что человеческий рассудок не есть простое вместилище чувственных впечатлений и идей; его нельзя рассматривать как пассивного посредника, благодаря которому мы смутно осознаем наличие чего– то «вне» нас. Грубый материал нашего чувственного опыта (настаивает Кант) упорядочен и организован совершенно определенным образом и в соответствии с совершенно определенными правилами и принципами; и эта упорядоченность и организация есть наша собственная работа, то есть это нечто, которое мы выносим из внутренних впечатлений. И оно является условием единства нашего обыденного опыта с объективно познаваемым миром. В результате такой деятельности рассудка, рассматриваемой скорее как активная деятельность, нежели как простое восприятие отдельных чувственных впечатлений, мы воспринимаем вещи в их пространственно-временной форме, как взаимодействующие друг с другом по законам казуальности и т. д. Другими словами, даже те свойства, которые в теориях, подобных локковской, могут быть приписаны физическим объектам, как присущие им и независимые от нашего восприятия, должны быть в итоге объяснены как следствие вмешательства человеческого рассудка. Но если это так, то очевидно, считает Шопенгауэр, что традиционная манера философствования должна быть подвергнута радикальному пересмотру.
Так Кант представляет в новом свете различие между апостериорным (a posteriori) знанием и априорным (a priori) – между (грубо говоря) знанием, получаемым нами из опыта, и знанием, которым мы обладаем независимо от всякого опыта, и, сделав это разграничение, он впервые определил, по каким признакам необходимо искать истинные связи между этими видами знаний.
Очевидно, прежде всего, то, что Кант был далек от отрицания или преуменьшения роли априорной составляющей нашего мышления, как это пытались делать некоторые эмпирики. Напротив, он придавал ей первостепенное значение. Юм и многие вслед за ним были готовы допустить, что существуют положения, доступные а priori, но он подразумевал, что подобное знание возможно лишь благодаря тому, что истинность таких убеждений зависит исключительно от взаимосвязи идей и понятий, которые в них содержатся. Эти утверждения не относятся к реальной действительности, и, таким образом, не может быть и речи о том, чтобы установить их истинность или ложность, обращаясь к чувственному опыту, как это присуще апостериорным (a posteriori), или «синтетическим», суждениям.
Кант не отрицал существование априорных суждений в этом смысле, называя их аналитическими. Он считал утверждение аналитическим, если субъект такого суждения уже имплицитно «содержит» в себе предикат, предназначенный ему, и если отрицание такого суждения приводит к бессмысленности. Таким образом, суждение «Все матери – женщины» является аналитическим, а суждение, его отрицающее, – «Некоторые матери не являются женщинами» – является противоречащим самому себе. Однако Кант не признавал, что аналитические суждения являются единственными утверждениями, которые мы можем объявить как известные нам, независимо от нашего опыта.
Как мы видели, Кант, указав на существование определенных форм и категорий, которые мы скорее привносим в свой опыт, чем абстрагируем из него, далее показывает, что эти формы и категории фигурируют в утверждениях, истинность которых мы признаем независимо от нашего опыта, например, утверждения такого рода: «У каждого события есть причина». Но такие утверждения – Кант называл их «синтетические a priori» – не являются, тем не менее, таковыми, о которых мы можем говорить как об установленных или доказанных опытом, как мы обычно говорим об эмпирических утверждениях. Их можно скорее объяснить как выражение условий, при которых, как нам известно, единственно возможен объективный опыт. И поэтому они не могут быть подтверждены теми суждениями, которые основаны на таком опыте, поскольку подобное обращение к таким суждениям заранее подразумевает их достоверность. Напротив, они должны рассматриваться как определяющие характерные особенности, которыми всякий опыт, если это опыт объективного мира, необходимо обладает. В этом смысле они лежат в основе всего нашего здравого смысла и научного знания о мире и заранее предопределяют наиболее общие пути понимания того, что мы воспринимаем с помощью чувств.
Согласно этому, в дополнение к чисто аналитическим истинам мы также должны признать существование отдельной категории синтетических априорных положений, и, таким образом, можно сказать, что Кант значительно расширил область знаний, на которые мы можем претендовать независимо от нашего опыта. И можно подумать, что он невольно поддерживает веру в то, что метафизическое «трансцендентное» знание – знание, лежащее за пределами нашего опыта, – возможно. Ибо не он ли сам писал в своей работе «Parerga und Paralipomena», что «начало метафизики должно быть исключительно не эмпирическим; ее фундаментальные принципы и концепции ни в коем случае не должны быть взяты ни из внешнего, ни из внутреннего опыта»? И, признав присутствие в нашем мышлении и знании определенных априорных категорий, а также то, что не тавтологические принципы являются частью нашего опыта, но не возникают из него, разве он не имел в виду, что имеется все необходимое для того, чтобы достичь требуемых результатов в метафизике?
Шопенгауэр обращает внимание, что ответом на эти вопросы должно быть решительное «Нет», а утверждать обратное – все равно что признаваться в полном непонимании кантовских положений. Прежде всего, рассмотрим статус синтетических априорных принципов, о которых говорит Кант. Несомненно, они должны рассматриваться как «законы, неотвратимо господствующие в нашем существовании и абсолютно неизбежно управляющие нашим существованием, то есть опытом вообще», но это не означает, что их можно «применить для того, чтобы установить происхождение или объяснить само существование». Напротив, они действительны только в связи с опытом и, следовательно, имеют силу, лишь когда «опыт в целом сформирован и присутствует… Следовательно, эти законы не ведут к объяснению мира и нас самих» (том II).
Главная ошибка предшествующих мыслителей состояла именно в игнорировании этого фундаментального положения. Они утверждали не только что есть некие непреложные истины (veritates aeternae), достоверность которых очевидна сама собой и признается всеми независимо от опыта, но также и то, что эти истины можно применить ко всему без ограничения: «вознесенные над богами и судьбой», они остаются непреложными истинами не только в границах возможного опыта, но и относятся ко всему, что лежит за его пределами. В связи с этим представляется вполне обоснованным, в свете наших знаний этих истин, задать и попытаться дать ответы на такие фундаментальные вопросы, как: имел ли мир как целое начало во времени, была ли причина его возникновения, обладаем ли мы бессмертной душой и т. п.
Кант, однако, не пошел по проторенной дороге, ведущей прямо к трансцендентной метафизике и «догматизму», он пошел «за пределы вечных истин (veritates aeternae), на которых был основан предыдущий догматизм» с тем, чтобы сделать сами эти истины предметом исследования. Наметив ход своих исследований, таким образом, он убедительно доказал, что их априорная достоверность лежит только в сфере того, что может быть предметом нашего опыта, поэтому их использование для получения доказательств о внеопытном – есть грубая ошибка, они попросту не могут быть применены в этой области. Таким образом, как только Кант показал истинное значение и роль априорных принципов, лежащих в основе нашего мышления, стало понятно, почему раньше философы, пытавшиеся выйти за пределы опыта, прибегая к чисто рациональным исследованиям, всегда терпели неудачу. Это связано с тем, что принципы, которые они брали за основу, относились только к явлениям и, таким образом, были не способны вывести их за пределы эмпирической реальности. Этих философов можно сравнить с белкой в колесе, которая пытается из него выбраться, но на самом деле лишь бегает по замкнутому кругу; или же с людьми, которые считают, что если они будут жить достаточно долго, то увидят конец света. Кант же, напротив, «представил мир шарообразным и показал, что если он круглый, то невозможно достичь его пределов, двигаясь горизонтально».









































