Текст книги "Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках"
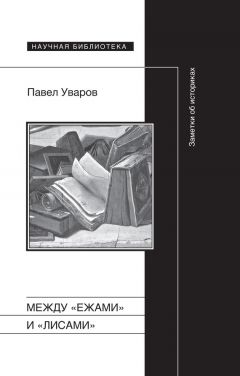
Автор книги: Павел Уваров
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Павел Юрьевич Уваров
Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках
Наташе
ПОПЫТКА ОБЪЯСНЕНИЯ
Я люблю называть себя «практикующим историком». Занимаясь вполне конкретными сюжетами, в основном связанными с историей Франции XVI века, я с известной иронией (хочется надеяться – добродушной) относился к профессиональным историографам и специалистам по методологии истории. Позволю себе процитировать мой же текст десятилетней давности; речь в нем шла о посвященных судьбам социальной истории работах, которые
«…в основном написаны “извне”: либо профессиональными знатоками историографии и методологии истории, либо историками, некогда практиковавшими на ниве эмпирических исследований, но затем с головой ушедшими в распутывание хитросплетений когнитивных наук, в бездны эпистемологии. В любом случае рассуждения – порой в высшей степени интересные и познавательные, – о природе исторического знания, о судьбах того или иного исторического направления, слишком быстро и слишком далеко отрываются от серых будней работы с конкретным эмпирическим материалом. Конечно, рефлексия по поводу особенностей работы историка вполне естественна и закономерна; она, как всякое самопознание, чрезвычайно привлекательна для всякого исследователя и весьма востребована обществом. Но определенная опасность состоит в том, что? раз вступив на этот путь, историки зачастую уже не возвращаются назад, к практике. Это явление англоязычная публика назвала бы one way ticket, а тюркоязычная – барса-кельмес. И дело, надеюсь, не только в видимых выгодах, сулимых на пути эпистемологических или историографических исследований, но и в “эффекте сороконожки”. Раз задумавшись над механизмами и правилами чужого, а тем более своего творчества, историк перестает работать с источником – подобно сороконожке, парализованной вопросом о том, что делает ее тридцать восьмая нога, в тот момент, когда она шагает своей двенадцатой парой лап. Все это вполне оправданно, закономерно и вызывает уважение. Но вот только уводит размышления от эмпирической реальности источника все дальше. Не потому ли в нашей стране, да и не только в ней, все меньше и меньше становится “практикующих” историков и все больше историографов, методологов и эпистемологов? Но если перспектива того, что число людей, изучающих историков, может значительно превысить число людей, изучающих историю, характерна лишь для некоторых областей исторического знания, то разрыв между историками-практиками и “эпистемологизирующими” историками представляется делом вполне реальным. Вторые образуют свою субкультуру, свой язык и свою ценностную иерархию и, занятые интенсивной полемикой друг с другом, не замечают того, что первые их в лучшем случае перестали понимать, а в худшем – понимать не желают. Причем оба семейства, похоже, вполне довольны такой ситуацией…»11
Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М.: Наука, 2004. С. 17—18.
[Закрыть]
Из этой длинной самоцитаты нетрудно догадаться, что мои симпатии были на стороне «практиков», к каковым я себя и причислил. Однако теперь, десять лет спустя, приходится признать, что многое изменилось. В архивах я появляюсь реже, труднее даются исследовательские тексты, зато накопилось немало статей, посвященных историкам и анализу историографической ситуации, рассуждениям о ремесле историка. Это происходит само собой: статьи для юбилейных сборников, некрологи, предисловия, интервью, тексты, адресованные широкой публике, – все это нарастает, как ракушки на днище корабля. И вот теперь их столько, что стоит задуматься, не приобрел ли я ненароком тот самый «билет в один конец»? Посмотрев свой индекс цитирования в базе РИНЦ, с удивлением обнаружил, что на мои статьи об историках набралось ссылок значительно больше, чем на «настоящие» исследования.
Что же касается «пресловутого» билета, то, думаю, что нет, не приобрел. Профессиональным историографом я не стал, и предлагаемые тексты не соответствуют критериям историографического исследования. Они не носят научно-аналитического характера, с трудом поддаются верификации и уж вовсе не претендуют на исчерпанность.
Решив собрать их воедино, я столкнулся с проблемой критериев отбора текстов. Понятно, что я не включил в список собственно исследовательские работы. Отложил до лучших времен и популярные статьи, посвященные конкретно-историческим сюжетам, а также главы из обобщающих исторических трудов, вроде «Всемирной истории».
Но отложил также и историографические обзоры специальных проблем (посвященные, например, современным трактовкам Варфоломеевской ночи, изучению французского дворянства, концепциям французских Религиозных войн), рецензии на монографии. Они написаны более или менее по правилам, оснащены сносками, все как полагается. Но, приведи я их, тогда и остальные статьи пришлось бы переделывать, придавая им более научный вид, ведь жанровое единство – великая вещь.
Речь идет именно о заметках историка об историках, некие наблюдения, сделанные «изнутри профессии». Так к ним и следует относиться.
Редактировались ли эти публикации? Не особенно радикально. Потому заранее прошу прощения за повторы. В некоторых случаях в этом нет ничего страшного, благо repetitio est mater studiorum. В других – за повторы приходится краснеть, ведь что может быть постыднее остроты, повторенной дважды? Но, убери я ее из второго текста, он – посыплется, его придется в лучшем случае сильно редактировать, а то и переписывать заново, а я твердо решил этого не делать.
Стоит помнить, что заметки написаны в разное время. Я не менял их. Порой прогнозы, сделанные в них, – не оправдались или же, напротив, оправдались в полной мере. Какие-то пассажи утратили остроту, контекст забылся и намеки стали непонятны, другие – что еще хуже – стали банальностью. В таких случаях я решил составлять концевые примечания и каждому тексту дать небольшую справку об обстоятельствах его публикации. Первоначально я даже думал пояснять непонятные слова. Но потом подумал, что сегодня, благодаря всезнающей «Википедии», каждый сам может посмотреть, что такое «Касталия», «аллод», или «Институт красной профессуры». Иначе – зачем было бы откликаться на просьбы Джимми Уэйлса о пожертвованиях?
АПОКАТАСТАСИС, ИЛИ ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ ИСТОРИКА
Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что, вот: ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский… Да если эдак и государю придется, то скажите и государю: в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
Н.В. Гоголь. Ревизор
Всех людей можно разделить на две группы. Одним от слов, приведенных в эпиграфе, хочется плакать. Другие – или посмеются (комедия все-таки), или пожмут недоуменно плечами (комедия, а не смешно). Но почему же для Гоголя так важно, чтобы мы узнали об этих интенциях Бобчинского и, главное, – о нем самом, о пустом, в сущности, человеке?
Когда долго препарируешь исторический источник (дневниковые записи, актовый материал, полиптики) и стараешься сделать его пригодным для сериальной истории, загоняя сведения в графы таблиц, готовя их для банка данных, то сталкиваешься с нарастающим сопротивлением материала. И вдруг делаешь открытие, что перед тобой – живые люди, со своими судьбами, своими неповторимыми особенностями – добродетелями, пороками и маленькими недостатками. И тогда внезапно возникает удивительное и незабываемое ощущение первого живого контакта – перед тобой реальный человек, и сейчас произойдет что-то очень важное. Затем продолжаешь работу, и возникает множество проблем, связанных чаще всего с оценкой репрезентативности материала («Нет, вы скажите, а сколько процентов от этой выборки думали и поступали именно таким образом?»), с механизмами генерализации (как, перейдя к общему, сохранить и передать ценность уникального/частного и, с другой стороны, как из этой уникальности можно вообще извлечь что-либо общее?). Но за всеми хлопотами остается незабываемым изумление от первого контакта. И по здравому размышлению непонятно, чему удивляешься больше: самому ли контакту или своей реакции на него. Ведь, в сущности, что здесь необычайного – разве историк не знал заранее, что за источником стоят конкретные люди?
Не осмелился бы делать предметом рефлексии свои эмоции, если бы опыт многолетнего общения с историками, составившими авторский контингент альманаха «Казус», не показал, что нечто подобное испытывают некоторые (однако далеко не все) из моих коллег. На заседаниях22
Речь шла о заседаниях семинара по истории частной жизни и повседневности, начавшего действовать в Институте всеобщей истории под руководством Ю.Л. Бессмертного с 1994 года. Одним из «побочных результатов работы семинара стал как сборник «Историк в поиске», так и сама идея альманаха «Казус».
[Закрыть] часто можно было услышать фразу: «Что может быть для человека интереснее, чем другой человек», или термин «Оживление бумажных человечков», или декларацию: «Моя задача – увидеть французов XVI века во плоти», а то и крик души одного из самых уважаемых наших участников: «Да вы что, не понимаете, что перед вами живые люди!» И в ответ на этот «оживительный пафос» – неизменный и резонный вопрос другой части участников: «А зачем?» Вытаскивать из небытия, материализовывать и сообщать Петербургу и миру о существовании в истории Петра Ивановича Бобчинского можно и даже должно (с этим теперь согласны почти все мои коллеги), но только если за этим стоит какая-то видимая исследовательская цель. Можно на его примере реконструировать тип мелкопоместного провинциального дворянина николаевской эпохи или можно порассуждать о норме и отклонении в поведении личности в ту же эпоху; на худой конец, включить полученные данные в обширное просопографическое исследование.
Но если же последующей генерализации не происходит, если усилия по реинкарнации Петра Ивановича являются самоцелью, если историк будет лишь набирать побольше информации о каждом встреченном им персонаже, то под угрозой оказывается сам метод микроисторического, да и всякого другого исторического исследования. Тогда лучшим образцом для историка может считаться телефонная книга.
И это разговор «среди своих». Когда же приходится выходить на более широкую аудиторию, пусть даже состоящую из коллег-историков, не вкусивших еще плода от древа микроистории, то здесь недоумения будет куда больше; и даже в альманахе «Казус» увидят в лучшем случае коммерческое предприятие, популяризацию, потакание вкусам толпы.
Возражать на это можно долго и со вкусом. Сослаться на сенсационный успех у публики «Песни о Волге» Резо Габриадзе: Сталинградская битва на фоне трагедии муравья, потерявшего своего муравьенка в бомбежке!33
В конце 1990-х годов в Москве прошли гастроли театра марионеток Резо Габриадзе с его «Сталинградской битвой» (в первом варианте – «Песня о Волге»). Там, конечно, повествовалось не только про муравьев; но в финале муравьиха голосом Лии Ахеджаковой причитала по погибшему муравьенку…
Вот, кстати, вопрос об изменении времени: сейчас был бы возможен такой спектакль?
[Закрыть] Указать на возрождение биографического жанра – как нового, обогащенного методологическими находками последних лет, так и вполне традиционного, проверенного веками. Напомнить о таинственном «мормонском проекте», о котором вполголоса судачат архивные работники во всем мире (зачем это предприимчивым американцам из штата Юта понадобились «мертвые души» наших предков?)44
Тогда, в 1990-е годы, мормонская Церковь Иисуса Христа святых последних дней через основанный ею Центр семейной истории активно заключала договоры с обнищавшими восточноевропейскими архивами для микрофильмирования метрических книг и другой генеалогической документации. Микрофильмы свозились в особое хранилище в Скалистых горах. Дело в том, что для блаженства мормона в следующей жизни ему надо обеспечить правильное крещение для как можно большего числа людей, причем не обязательно живых. Первоначально «задним числом» крестили в основном своих предков, а затем круг «обращаемых посмертно» расширился.
[Закрыть]. И наконец, сослаться на пространную библиографию всевозможных Gechichte von unten, microstoria, personal history. Последний ряд аргументов, как правило, оказывается решающим, ведь историографическая ситуация, историографическая мода – это то, что магически действовало на коллег еще в советские времена.
Итак, разочарование в глобалистских моделях, привлекательность «человеческого измерения», конец великих идей и идеологий, повлекший за собой неизбежное мелкотемье. Все это верно, но в данном случае недостаточно. Ведь «комплекс Бобчинского» (назовем так этот шок, вызванный осознанием, что перед тобой – живой человек, и рождающий стремление к максимально полному восстановлению этого человека) возникал и у меня, и у моих коллег независимо от знакомства с трудами Карло Гинзбурга и, возможно, был свойствен нашим предшественникам задолго до микроисторических парадигм.
Весьма поучительно обратиться к поискам, которые вел в этом направлении столь чтимый ныне Л.П. Карсавин. В монографии «Основы средневековой религиозности в XII—ХIII веках преимущественно в Италии» (1915) он декларирует свою задачу: «…выделить, а затем изучить объект религиозности в ХII—ХIII веках. Он останется в вере за вычетом ее окаменевших формул, с одной стороны, за вычетом результатов чисто богословской работы над нею, с другой… При этом изучению подлежит не религиозность того или иного представителя названной эпохи, великого или малого, а религиозность широких кругов, которая проявляется и в великих, и в малых»55
Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках преимущественно в Италии. СПб., 1915. С. 6.
[Закрыть].
Это дало возможность говорить о его приоритете в изучении «ментальности»66
См., например: Ястребицкая А.Л. Историк-медиевист Лев Платонович Карсавин (1882—1952). М., 1991.
[Закрыть]. Конечно, видеть в нем провозвестника школы «Анналов» и соратника Марка Блока не более обоснованно, чем в случае с творчеством Эрнста Канторовича77
Эксле О.Г. Немцы не в ладу с современностью. «Император Фридрих II Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики // Одиссей, 1996. М., 1996. С. 212—235..
[Закрыть], – слишком различными были методологические и мировоззренческие установки. Однако ориентация на изучение коллективных религиозных представлений вполне очевидна. Этому же способствует введенное Карсавиным понятие «средний человек», перекликающееся с «идеальными типами» Вебера. Любопытный парафраз модному ныне «исключительному нормальному» можно найти в карсавинском понятии «типический человек». Сюда относятся выдающиеся личности, которые оказываются особо полезными и удобными для познания среднего. «В них та или иная черта достигает высшего напряжения и развития, а следовательно – и наглядности». Подобное замечание повторялось и повторяется сторонниками микроисторических подходов – но трудно не заметить, что и в данном случае Лев Платонович отнюдь не склонен увлекаться уникальностью чьей бы то ни было личности. У гения «есть и некоторые только ему присущие черты. Но такие черты нас не занимают и не входят в область нашего изучения»88
Карсавин Л.П. Основы… С. 13.
[Закрыть]. И как бы ни оценивать взгляды и методы его в тот период, ему вполне можно переадресовать те упреки в обезличенности, которые бросают сейчас не только социальным историкам, но и историкам ментальностей.
Прошло всего пять лет (но каких лет!), и во «Введении в историю», являвшемся, по замыслу автора, руководством для начинающего историка, акценты уже расставлены иначе. Карсавин не отказывается от своих любимых детищ – от «среднего человека эпохи и типического человека», но они занимают в его новой системе положение явных аутсайдеров. О них упомянуто буквально на последних страницах этой брошюры и говорится вскользь, с глухой отсылкой к книге 1915 года.
Автора в первую очередь занимает мысль совсем иного рода: «История изучает единичный процесс развития во всей его конкретности и единичности не как экземпляр развития родового и не как родовой или общий процесс, проявляющийся в частных и являющийся для них “законом”… Объект исторического исследования всегда представляет собою некоторое органическое единство как таковое, отличное от окружающего и в своеобразии своем незаменимое – неповторимо ценный момент развития»99
Карсавин Л.П. Введение в историю (теория истории). Пг., 1920. С. 33—34
[Закрыть].
Иными словами, г-н Бобчинский мог бы быть ценен для Льва Платоновича сам по себе, а вовсе не как частный случай действия глобальных законов и не как объект для генерализации. Более того, начинающему историку так прямо и рекомендуется заняться изучением тайн его души в первую очередь: «…предметом истории является изучение социально-психического процесса. Понимание его, как и понимание чужой души возможно только путем сопереживания или вживания в них»1010
Там же. С. 15.
[Закрыть]. Вчувствование (Einfuhlung), сопереживание лежит в основе исторического мышления. Подкрепляя эту декларацию ссылками на мнение самоновейших по тем временам Зиммеля и Дильтея, Карсавин категорически не согласен с субъективизмом последнего. Субъективные переживания и самоощущение историка никоим образом не должны отвлекать от главного: «Речь идет не только и не столько о субъективном переживании исследователя, но о реальном проникновении в душевный процесс, подлинное слияние с ним, как бы ни называлось такое вживание в чужую индивидуальную или коллективную душу. Несомненно, что, изучая данный конкретный процесс, мы постигаем строение единого исторического процесса как единства. И постигаем не путем отвлечения от данной конкретности, а путем вживания в само это единство»1111
Там же. С. 26.
[Закрыть].
Как организовать это «вживание», можно только догадываться. Возможно, то была дань интуитивизму – ведь коллега Карсавина П.М. Бицилли записал его в заядлые сторонники Бергсона1212
Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. Прага, 1925.
[Закрыть]. И действительно, интуиции историка Карсавин отводит большую роль. Но это не какое-то врожденное качество. Тем Лев Платонович и привлекателен для нас, что он не был чистым методологом или историософом. Проведя много времени в архивах, он понимал, что мастерство историка и его интуиция рождаются от того, что он уже «кончиками пальцев» знает материал, погружен в него. И подробные инструкции о том, как писать историю, ему, в сущности, не нужны. Отсюда его скептическое отношение к пуризму «французских методологов, пытающихся спасти научность истории предъявлением ригористических и зачастую невыполнимых требований»1313
Он ссылался при этом на перевод широкоизвестной книги: Ланглуа Ш., Сеньобос Э. Введение в изучение истории. СПб., 1899.
[Закрыть].
Но для «вживания» в социально-психическое единство одного упорного труда и протертых в архивах брюк недостаточно – нужно еще некое озарение: «При понимании чужой душевной жизни как целого, при постижении чужой индивидуальности в ее единстве накопление наблюдений само по себе дает еще очень мало – можно знать о другом весьма большое количество фактов и все-таки его не понимать. Напротив, часто одна какая-нибудь черта, даже незначительная частность: тон голоса, движение, поворот головы и т.п. – позволяют сразу охватить и понять всю личность, всю индивидуальность этого человека, почти чудесным и неожиданным образом постичь необходимость его внутреннего развития, подлинно понять его. Такое понимание другой индивидуальности возможно и при малом с нею знакомстве, по “первому впечатлению”, но, как правило, оно появляется в процессе наблюдения, освещая и объединяя познание дробно и отрывочно…»1414
Карсавин Л.П. Введение в историю… С. 25.
[Закрыть]
Уверен, что многие из моих коллег с энтузиазмом согласятся с подобными наблюдениями. Причем Лев Платонович вполне осознанно балансирует на той грани, что отделяет историка от литератора. В 1920 году он опровергает Дильтея: «Конструирование иного душевного процесса по аналогии с моим и только из моего… сближает историю с поэзией, но не дает возможности серьезно отнестись к выводам истории и обосновать ее как науку»1515
Там же. С. 16.
[Закрыть]. Но три года спустя, в фундаментальной и уже куда более сложной «Философии истории», он охотно делает шаг навстречу литературе, поясняя вводимое понятие «момента всеединства»: «Хорошим и вдумчивым художникам-романистам, историкам и даже читателям написанных теми и другими произведений не трудно пояснить взаимоотношение моментов во всеединстве – мы познаем человека не путем простого собирания сведений и наблюдений о нем: подобное собирание, само по себе, совершенно бесполезно, или полезно лишь как средство сосредоточиться на человеке. Во время этого собирания, а часто и при первом знакомстве “с первого взгляда” мы вдруг, внезапно и неожиданно постигаем своеобразное существо человека, его личность. Мы заметили только эту его позу, эту его фразу и в них, в позе или фразе, сразу схватили то, чего не могли уловить в многочисленных прежних наблюдениях, если таковые у нас были. И не случайно любовь, которая есть вместе с тем и высшая форма познания, возникает внезапно. Определить, передать словами схваченное нами “нечто” мы не в силах»1616
Карсавин Л.П. Философия истории. СПб., 1993. С. 65.
[Закрыть].
Разрыв, который наметился между ним и сообществом коллег-историков уже в 1915 году, стал, таким образом, необратимым. Признаться в том, что историк должен полюбить объект своего исследования, чтобы понять его, – такие откровения не прощаются учеными1717
Так, археологи, за редчайшим исключением, никогда не признаются в своих монографиях в том, что они очень любят ездить в экспедиции.
[Закрыть].
Но, рассорившись со всеми (и с нахрапистыми марксистами, и с чопорной петербургской профессурой), автор, наделенный от природы едким критическим умом, по-прежнему снисходителен к бывшим коллегам. Декларируя необходимость методологии, системы четких исторических понятий, он признает, что у большинства историков (и блестящих историков) нет не только системы понятий, но и системы мировоззрения, но это им нисколько не мешает. Ведь историк довольствуется интуицией, называя ее чутьем, «девинацией»1818
Карсавин Л.П. Введение в историю… С. 29.
[Закрыть].
Упорное нежелание историков определять исследуемую историческую индивидуальность, будь то «французский крестьянин», «немецкий народ» или «Япония», «может побудить теоретика истории к весьма решительному шагу. Он скажет, что история не должна считаться наукою, а если хочет быть ею – должна усовершенствовать свой метод. Он, может быть – теоретики вообще отличаются категоричностью и смелостью своих действий – выдумает новую науку… Историки же теоретика и слушать не станут, а будут продолжать свое дело»1919
Карсавин Л.П. Философия истории. С. 115—116.
[Закрыть]. И такую беззаботность Карсавин не осуждает, поступая с собратьями куда великодушнее, чем его современник (и во многом единомышленник) Коллингвуд, настаивавший на том, что всякий историк должен быть еще и хорошим философом2020
Киссель М.А. Р.Дж. Коллингвуд – историк и философ // Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. М., 1980. С. 424.
[Закрыть].
Пока все сказанное, как представляется, вполне понятно читателям, близким к «Казусу», где мы обсуждаем примерно те же проблемы. Но что же все-таки произошло между 1915 и 1920 годами: почему Лев Платонович вдруг уверовал в приоритеты изучения неповторимой индивидуальности; почему он отныне не боится того, что история рассыплется на мозаику несвязанных фактов и фактиков; почему он, знаток средневековой философии, не опасается теперь номиналистического искуса? Дело в том, что в этот период ему открылось величие идеи Абсолюта как всеединства: «Чтобы могли существовать развитие и наука о нем, субъект развития должен быть всевременным и всепространственным единством. Единство субъекта должно совмещаться с многообразием его проявлений, быть многоединством… Мы познаем и всеобщую значимость данного процесса, не в смысле причинной его связанности с другими, а в смысле укорененности его в общеисторическом»2121
Карсавин Л.П. Введение в историю… С. 10.
[Закрыть]. Поэтому индивидуальность – личная или коллективная – является лишь моментом всеединства. Но это не мало, это придает любому объекту огромную ценность. «В истории всякое, даже самое частное исследование взаимоотношений между несколькими рукописями одного источника само собою будет исследованием общеисторического характера и возможно только на почве его связи с познанием целокупности социального развития»2222
Там же. С. 26.
[Закрыть].
Достаточно подняться до осознания этого всеединства, и историк освобождается от груза неразрешимых ранее проблем, снимая противоречия общего и частного, объективного и субъективного. «Через постижение самого частного и ограниченного процесса происходит приобщение наше к нему и в нем к единому общеисторическому процессу развития или, вернее, опознание нами нашего с ним и в нем единства. Этою живою связью нашей со всем прошлым и со всем социально-психическим развитием и объясняются обогащение нашего сознания в исторической работе и тот интерес, с каким мы относимся к фактам минувшего»2323
Там же.
[Закрыть].
Не знаю, как моих коллег, но меня, например, все это вполне устраивает. Да и путь к постижению этой истины вполне понятен и достоин уважения. Творческая работа в архивах вызывает у молодого исследователя неудовлетворенность господствующими позитивистскими и нарождающимися неопозитивистскими интерпретационными моделями. Предвосхитив интерес к ментальности и к «исключительному нормальному», русский историк на этом не останавливается, но в годы социальных катаклизмов и личных испытаний продолжает гносеологические искания и обосновывает собственную метафизическую систему, основываясь на традициях неоплатонизма и на средневековом философском наследии (в особенности на учении Николая Кузанского об «exglomeratio et conglomeratio centri», о свертывании и развертывании Абсолюта как Всеединства). Лежащее в основе системы Карсавина онтологическое отношение Бога и человека дает возможность обосновать исключительную ценность индивидуального для понимания органического единства исторического развития.
Какая величественная исследовательская перспектива! Историк может, отбросив всякие сомнения, заняться казусами, персоналиями и придать наконец фигуре Петра Ивановича Бобчинского подобающие ей космические масштабы в качестве момента стяженного всеединства; и теперь профессиональное мастерство заключается в том, чтобы показать укорененность его в эпохе и эпохи в нем, а не гоняться за призрачными «причинами» и «факторами». Да, лозунг, выдвинутый М.А. Бойцовым, вполне можно было бы дополнить слоганом: «Вперед, к Карсавину!»
Но историографический хеппи-энд получился не слишком убедительным. Ведь сам автор, создав стройную систему и применив ее в замечательной книге о Джордано Бруно2424
Карсавин Л.П. Джиордано Бруно. Берлин, 1923. Книга была написана значительно раньше и должна была печататься в Петрограде, но выдворение автора на «философском пароходе» 1922 года сделало ее издание в России невозможным.
[Закрыть], повел себя затем несколько странно. Всесторонне оснащенный, этот одаренный исследователь, историк милостью Божией, казалось, должен был горы свернуть. Да и биография его сложилась счастливее, чем у большинства современников. Советская власть добралась до него лишь четверть века спустя, ему удалось устроиться профессором всеобщей истории в университете Витаутаса Великого, сложностей с работой в архивах и библиотеках у него не было. Вот только как «практикующий историк» он кончился. Его философские и богословские труды, его «Поэма о смерти», его диалоги и уже лагерные записи глубоки и талантливы, но историку там поживиться нечем2525
Остается, правда, надежда, что когда-либо переведут с литовского его пространный курс «Истории европейской культуры», но, по всей вероятности, и он относится скорее к историософии, чем к конкретной истории.
[Закрыть].
Что же произошло: биографический перелом или органическая эволюция талантливого и ироничного историка в самобытного деятеля русского религиозно-философского Возрождения?
Проницательный М.А. Бойцов отмечает значение экспериментальных стилизаций Карсавина – «Saligia» и «Noctes petropolitanae»2626
Карсавин Л.П. Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах. Пг., 1919; Он же. Noctespetropolitanae. Пг., 1922.
[Закрыть] – и вспоминает о страстном его увлечении театром. «Не оттуда ли и идея вживания в прошлое как главного средства его познания?»2727
Бойцов М.А. Не до конца забытый медиевист из эпохи русского модерна // Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992. С. 14.
[Закрыть] Но, как истинный сын своего Серебряного века, Карсавин не мог видеть в игре лишь игру, а в театре лишь театр. Ведь «оргиастические барабаны», которые, по мысли Стефана Георге (учителя2828
В первом издании вместо слова «учитель» стояло – «гуру», несколько более емкое слово. Но редактору это показалось неуместным. Можно, конечно, было побороться за «гуру», но это потребовало бы дополнительных экскурсов в биографию Э. Канторовича, и древо повествования рисковало превратиться в ветвистый куст.
[Закрыть] Эрнста Канторовича), должны были преобразовать мир, вполне созвучны пророчеству Вячеслава Иванова – «страна покроется фимелами и орхестрами». Культурный контекст эпохи подсказывал, что игры Льва Платоновича свидетельствовали о его куда больших амбициях, чем чисто академические штудии. Хороший историк в России всегда, увы, больше, чем историк.
Но вернемся к «Введению в историю». Критикуя там теорию прогресса (что ныне также весьма популярно), он пишет, что сей идеал, т.е. полнота жизни человечества во всех ее проявлениях и счастье, несостоятелен: «Для того чтобы стать нравственно приемлемым, идеал должен сделаться достоянием всех людей, как еще не рожденных, так и нас и умерших. С другой стороны, из него нельзя устранить ни одного из достижений прошлого, которые в силу их неповторимой и конкретной индивидуальности не могут быть так же воспроизведены грядущими поколениями и должны быть реальностью, а не образами воспоминания. Все это достижимо лишь во всевременном и всепространственном реальном синтезе исторического развития»2929
Карсавин Л.П. Введение в историю… С. 33.
[Закрыть].
Незабвенная коллежская регистраторша Коробочка при этих словах непременно перекрестилась бы: не просто сохранить добрую память о Бобчинском, но его самого сделать реальностью? Так и слышится ее вопрос: «Да как же, я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?» Петр Иванович, выходит, не зря просил замолвить за него словечко – не только его неповторимая индивидуальность важна для нас и для наших целей, но и наш скромный труд, оказывается, очень важен и для него.
А Карсавин продолжает: «Развертывающийся ныне перед нами и воспринимаемый нами во времени и в пространстве процесс, процесс удручающий нас видимым погибанием и умиранием, должен стать для нас реальным во всей своей конкретности, во всех своих моментах. А это возможно только, если «мы изменимся», если преодолеем пространство, если “небеса совьются в свиток”, а время преобразуется в вечность. И такое понимание идеала или “прогресса” не только согласуется с принципами истории, из них вытекая, но и устраняет все отмеченные нами противоречия. Оно вместе с тем оправдывает смысл и назначение всякого момента истории и всякого индивидуального труда… Оно, наконец, позволяет понимать историческое познание как приближение к истинному всевременному познанию и приобщение ко всевременному единому бытию»3030
Карсавин Л.П. Введение в историю… С. 33.
[Закрыть].
Не надо было быть медиевистом, чтобы в 1920 году чувствовать, что небеса вот-вот совьются в свиток. И все же не эсхатологический ужас перед «Концом истории» (и не по Фукуяме, а по Асахаре) занимает мыслителя, равно как удручают его не ужасы большевизма, голод или тиф сами по себе, а смерть как явление, как философская проблема. Смысл деятельности историка, да и всего человечества, – в победе над смертью.
Через десять лет Карсавин написал прекрасное произведение – «Поэму о смерти». Там можно найти все старые идеи бывшего историка: и «вчувствование» – поэма открывается образом женщины на костре, и всеобщую связь людей, и важность индивидуального для всеобщего; и проклятие смерти. «Какие-то нежные тоненькие ниточки связывают всех нас, и живых и мертвых, весь мир, становятся все тоньше и не рвутся. Не ниточки – тоненькие жилки, по которым бежит наша общая кровь. Нам неслышимые вздохи сливаются в один тяжелый вздох. Наши слабенькие стоны – в невыносимый вопль всего живого, в бессильные проклятия страданиям и смерти. Разве необходимо, чтобы стон человечества был одноголосым? Он может быть и полифоничным. Так еще величественнее»3131
Карсавин Л.П. Поэма о смерти. Каунас, 1932. С. 15.
[Закрыть]. И, конечно, в этом лабиринте любовь становится путеводной нитью, и он рассуждает о судьбе своей возлюбленной Элените после смерти:
«Нет, не существует души, которая вместе с тем не была бы и вечно умирающим телом. Тело же твое лишь один из центров и образов безграничного мира… В другом мире и в другой плоти не может быть в этот момент души. Только из этого тела сознаю я свой мир. Только в этом моем теле он так сознает себя и страдает…»
«У Элените, как у Габсбургов, несколько выдается нижняя губа, и на верхней маленькая бородавка. Найдется ли этим “недостаткам” место в “совершенном” эфирном теле? – Если захочешь, будут тебе и Габсбургская губа, и бородавка.
Хочу, чтобы она во всем была лучше других. Но хочу, чтобы она осталась и такою, какой была. Придумай-ка подобное тело! При одной мысли о нем смутится даже св. Григорий Нисский»3232
Там же. С. 24.
[Закрыть].
Этот «великий каппадокиец» вспоминается Львом Платоновичем в наивысший момент его творчества далеко не случайно. Григорий Нисский чрезвычайно важен для мировоззрения Карсавина. В 1926 году в Париже он издает учебное пособие для русской семинарии «Святые отцы и учители церкви». Лучшие страницы посвящены были этому отцу церкви. Вот как излагаются его взгляды:
«Все мировое развитие завершится “восстановлением всяческого” (αποκατάστασις των πάντων). Однако земное бытие не теряет при этом <…> своего единократного и центрального значения <…> Когда все люди родятся, но не все еще умрут, оставшиеся в живых изменятся, а мертвые воскреснут: и те и другие для возвращения в нерасторжимое единство ранее объединенного в одном целом и по разложении вновь соединившегося. Ведь, как пишет святой, если управляющая вселенною Сила даст разложившимся стихиям знак воссоединиться, душа восстановит цепь своего тела. Причем каждая часть будет установлена вновь согласно с первоначальным обычным для нее состоянием и примет знакомый ей вид…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?







































