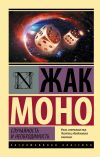Текст книги "Второй меч"

Автор книги: Петер Хандке
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
В дни накануне моего похода во имя мести лес на Вечном холме – как в замедленной съемке, постепенно – зеленел, а в последнее утро, под ярким солнцем и ветерком, заколыхалась, заиграла, побежала, от дерева одной породы к дереву другой, переменчивая и бесконечно разнообразная зелень, ни одного дома, так чтобы закрывать вид, к небу с его однородной ровной синевой. И не просто светилась, мерцала, блестела, даже брезжила зелень везде по-разному, по-другому у ивы, у ольхи и тополей у подножия холма, у буков и ясеней на склонах, у берез, дубов, акаций, рябин, благородных каштанов повсюду. А еще листва разных пород, то густая, то скорее редкая, шевелилась, вибрировала, дрожала, поднималась и опускалась от дерева к дереву по-иному, как будто волны и изгибы неслись вверх по холму по невидимым путям сквозь свежую листву.
«Вот оно! – думал я в тишине. – Вот оно творится. Вот оно происходит». И тут же запнулся: «Происходит что?» – «Это». И вот уже я увидел, холм на мгновение пропал из вида, с закрытыми глазами, чего мне, и уже давно, не только в эти дни, а еще сильнее – ночами, так вопиюще не хватало: так не хватает – мне ли одному? – того, что вечно ускользает и теряется. «Как это: видеть то, чего не хватает?» – «Да! И к тому же еще и не предмет, а слово!» – «Быть может, вечное возвращение?» – «Нет! То, что я увидел, как слово и как действие, было продолжение». – «Вечное?» – «Ничего, кроме просто продолжения. За продолжение!»
Я остался сидеть у открытого окна, долго, опять же очень долго, далеко за полдень. Пальцем не пошевелил. Крона каждого отдельного дерева на вершине холма казалась ветряной мельницей. Мельницы, они мололи и мололи. То, что они делали, – это продолжение? Да, продолжение. И как от дерева к дереву господствовала разных оттенков зелень, и тоже от кроны к кроне все мололо, крутилось, вращалось, кружилось, и все по-разному. «Все птицы летают по-разному?» Да, так и каждое дерево-мельница клонится, выпрямляется, качается, извивается, тянется вверх и раскидывается, очевидно, совершенно по-своему.
Потеплело, и на пространстве между открытым окном и Вечным холмом запорхали парочкой первые в году те крошечные бабочки, которые мне – когда они мелькают в воздухе туда-сюда, отчего кажется, будто их становится три, а то и четыре, – напоминают балканскую игру в наперстки, их и зовут балканскими мотыльками. В своем парном танце – или что это было – бабочки неуклонно двигались по направлению ко мне, все более неистово и бурно кружась по спирали – или что это было, – и в конце концов, на расстоянии вытянутой руки от меня на уровне моих глаз, с такой скоростью, что светлые круги у них на крыльях ярко засияли, как вспышки света, при этом мгновенно, как в ряду внезапно меняющихся картинок, когда скорость достигает наивысшей точки, казалось, что их кружение останавливается и они замирают на месте, без движения или по ту сторону всякого движения. И меня охватила безымянная радость от моего бездействия теперь и дальнейшего бездействия тоже, так можно и дальше бездействовать и позволять бездействовать, и так далее, и так далее.
Впоследствии мне весь день вспоминались – какая наука объяснит мне, отчего и почему так? – виды и названия мест, городов и прежде всего деревень, в которых я побывал в течение своей жизни. При этом речь шла вовсе не о воспоминаниях. Потому что о некоторых из этих мест вспоминать было совершенно нечего. Я там ничего не пережил. Ничего не бросилось мне в глаза, никакой мелочи, ни с чем я там не столкнулся, даже никакая шальная дверь не ударила меня по пяткам. Что меня всегда снова и снова задевало – это были больше названия мест, и лишь за названием смутно тянулись образы, картинки, запомнившиеся все больше из-за спусков и подъемов улиц, полей, или, в качестве исключения, запоминался какой-нибудь узенький мостик без перил, переброшенный через ручей, или продырявленная доска для игры в дартс в каком-нибудь трактире. Да, часто названия мест, как правило многосложные, сами по себе более красочны и ярче очерчены, нежели туманные картины и неясные виды этих мест, привешенные к названиям, как брелоки. «Сёркл Сити, Аляска», «Мионица», «Архея-Нимея», «Навальмораль де ла Мата», «Бразано ди Кормонс», «Питлохри», «Горни-Милановач», «Худый Лог» (переводится как «Дурное место»), «Локмарьяке»: со мной там вовсе ничего не случилось, ни худого, ни доброго, ни любви, ни страха, ни опасности, никаких мыслей, никаких познаний, не говоря уж о взаимосвязи или, господь наш на небеси или где он там еще, никаких видений. Я прошел эти места по касательной, случайно, а если где и оставался на ночь, то это только от растерянности и нерешительности (или в размышлении, поскольку это место как раз соответствовало моей нерешительности?).
И вот гляди-ка! В последний день накануне моего непредвиденного похода я знал, что у меня в голове тихо роятся названия и образы мест со всех концов земли, где я только проезжал, проходил и проковылял, как доказательство существования, если даже не знак благоволения. Ты и тебе подобные – вы существовали и будете, по крайней мере сегодня и завтра еще продолжите, существовать. То, что на меня налетели и закружили меня эти картины и названия, было для меня внутренним удовлетворением своего рода, все вот эти «Фишаменд», «Окрестности Инсбрука», «Генсбах в Шварцвальде», «Виндиш-Минихоф», «Мюрццушлаг».
Еще до конца того же дня все это прошло. Как в любой вечер всякой недели, шел я в пору (уже в то время позднего) заката, после удачного и-далее-ничегонеделания, в «Бар трех вокзалов». Хозяин, это была его привычная игра, приоткрыл передо мной недра своего нового костюма, где, что-то уж подозрительно крупно, читалось «Армани», на что я, подыгрывая, отвечал: «Солидно!», а он в свою очередь: «Как и я сам!»
Где-то с час не происходило ничего особенного. По обе стороны барной стойки смотрели молча, разве что с парой восклицаний, ежевечерний футбол, обычно англичане против испанцев, или играла команда Марселя, города, куда хозяин пятнадцатилетним сиротой без отца, неграмотным и без профессии, полвека назад прибыл на корабле из Северной Африки в Европу, и где вскоре, говаривал хозяин, благодаря многим ночам под открытым небом прочно встал на ноги.
Близились выходные, и «Бар трех вокзалов» («двух выстрелов из лука» от автобусной остановки и «трех выстрелов из лука» от станции пригородных и региональных поездов) был по-выходному полон, особенно по сравнению с обычной будничной пустотой и внутри, и на всем пространстве между баром и собственно «нашим» вокзалом в предместье. Впечатление переполненного заведения подкреплялось еще и тем, что гости почти все стояли если не у стойки, то в паре шагов от нее, ближе к окну. Сидящими можно было увидеть, как и в этот вечер, отдельные пары, позади, в углу, как будто они специально уединились и даже отвернулись от окна.
Каждый из нас стоял или присел на корточки поодиночке, отдельно от прочих, явно желая от них отличаться, и не только нарядом, цветом кожи и чем-то там еще. Редкие, почти удивительные исключения составляла одна группа, совсем маленькая, двое, много трое, вроде как рабочие после окончания трудовой недели, точно иностранцы, поляки, португальцы, кто-нибудь еще. И всем нам вместе никак не светило одно и то же, или, как это еще можно назвать, никогда и никуда: никаких нам выездных каникул – смотри обезлюдевшую привокзальную площадь. За пару недель выбраться сюда из ближайшей деревни и тут же обратно, либо провести каникулы здесь на месте, но никакой поездки в отпуск. Никуда и никогда? Кто знает.
Я знал почти всех гостей этого вечера, и некоторых даже по имени. На месте постоянного гостя стоял бывший хозяин другого, закрытого вокзального кафе – год за годом все больше ржавели опущенные жалюзи – как один из гостей, самый тихий, при этом самый общительный и искренний из всех, и как инкогнито, некто, выдающий себя за другого. Иногда, когда я днями проходил мимо его бывшего заведения, я хлопал рукой по железным ставням, отбивая быстрый звонкий такт, слог за слогом, в надежде, что мое приветствие как-нибудь отзовется мне в пустом брошенном помещении.
Не то чтобы это было правилом, но после окончания футбольного матча или иногда уже в перерыве затевались разговоры. Адам, португальский каменщик, электрик, кровельщик, плотник, печник и прочее, на прошлой неделе, впервые за бог знает сколько времени, встретил женщину, шесть дней назад это было, и рассказывал мне теперь о каждом из этих шести дней буквально на пальцах снова и снова. И как же Адам при этом сиял, как светился, и это не только потому, что он после работы вымыл голову и отражался в стеклянной двери. Она уже дважды бывала у него дома. Он даже пригласил ее уже один раз на ужин, но потом ей пришлось самой заплатить за проезд домой, автобус, трамвай, поезд, одиннадцать девяносто, дороже, чем ужин. «А сегодня она мне уже четырнадцать раз звонила! Первый раз женщина не хочет от меня денег, да к тому же сама из Бразилии!»
Менеджер, или кто он там, с одного из верхних этажей финансового небоскреба из Ла Дефанс, который в любом случае – он дал это понять – зарабатывает лучше всех присутствующих и вообще, в отличие от нас дураков, «посвященный», рассказывал, хотя его никто не просил, что он как раз сейчас пытается уволиться из своих высших сфер, только вот его не отпускают. «Пока не отпускают». Его «компетентность» столь уникальна и особенна, в нем так нуждаются. И все же он чувствует себя в подчинении у тех, кто «выше уровнем», и не имеет других забот, кроме как побеждать и убивать, да, «Я еще не на высоте! Я хочу прочь. Куда? Не знаю. Если б я знал. Знаю только одно и всегда знал: я хочу вести рыцарскую жизнь, rune vie chevaleresque, а такую жизнь эти, там, за холмом, вести не дают, она им неведома, они не имеют ни малейшего понятия о vie chevaleresque. Освободиться – вот только как? Прочь от убийц в верхних этажах к рыцарству – вот только как?»
По своему обыкновению я то и дело переводил взгляд с происходящего внутри на улицу, куда хватало глаз, и все больше не на небо, а на землю. Снаружи взгляд упирался в самую дальнюю точку – детскую площадку, если следить глазами от вокзальной площади к западу, в тот конкретный вечер – буквально по направлению заката. Но еще довольно долго после того, как солнце скрылось, там качались на качелях двое детей, и как давеча утром с мотыльками, казалось, будто детей не двое, а трое, так быстро они качались, видимо наперегонки, и чем более бледнел и мрачнел горизонт, тем все выше и сильнее раскачивались дети. «Дальнокачающиеся отроки», – подумалось мне, и тут же: «Гомер», но ни военный эпос вроде «Илиады», ни блуждания Одиссея, даже не его в конце концов возвращение домой к своим, скорее некий третий гомеровский эпос, которого никогда не было на свете и никогда не будет. Или все-таки будет – пусть и не в песнопениях? Нет, ты погляди, а: вот сейчас один из детей взлетел вверх, теперь второй. И чем ближе ночь, тем выше они подлетают на качелях.
Ночь уже давно наступила, и я обнаружил, что компания в «Баре трех вокзалов» постепенно редеет, а рядом со мной, как нередко и происходит в выходные, оказался Эмманюэль, что красит автомобильные кузова и время от времени присылает мне на телефон стихотворения собственного только что сочинения, как правило, об утренних сумерках, прежде чем отправиться в свою мастерскую в одном из новых пригородов в дюжине железнодорожных перегонов отсюда.
Маню в субботнем баре был тем, кто если не более всех, то уж точно серьезнее всех рассказывал о себе. Мне ли одному, как теперь тет-а-тет, просил ли я его об этом или нет, – не могу сказать. Как бы то ни было, мог и я в свою очередь кое-что рассказать о нем, вот, к примеру, что он всегда носил только рубашки, если вообще носил, которые не требовалось гладить.
Сегодня я узнал, какого свойства и откуда у него на предплечье не то след от ожога, не то несводимое пятнышко туши. Это была татуировка, его единственная. Он сам ее себе наколол сорок с лишним лет назад еще подростком, как образец rune paquerette (от paques – пасха?), маргаритка. И какова причина такого самотатуирования? Это он так на закате детства перешел рубеж, оставил позади всех – ровесников, семью, отца, мать, братьев и сестер. Этой татуировкой он подал явный знак: я здесь свой! Знак кому? Другим мальчикам? Да они – и неудивительно, маргаритка и сама по себе едва заметна, а татуировка и подавно – и не заметили ничего. Знак «я здесь свой» был адресован самому себе. И что, подействовало? С тех пор ты стал одним из всех и таким, как все? – Mais oui, ну да!
Он отслужил в армии в заморских краях, в джунглях Гайаны, вернулся в родные места, где вырос, и с тех пор тут и живет, и работает, и вряд ли Эмманюэль когда-либо снова пересекал границу департамента. За прошедшие десятилетия он едва ли даже побывал за холмами в ближайшем Париже и уж точно не бывал больше на море. Женился? Нет. Дети? Не-а. Женщины? Он их уважал и если о какой из них рассказывал, то с неизменным почтением и только хорошее. Впрочем, очевидно, уже давно ни одна с ним «не ходила», потому что то, что он рассказывал о последней встрече, звучало как в целомудренной песне: он с детским восторгом указывал на своей по-выходному бритой щеке то место, куда «она» его поцеловала, и этому событию уже было много месяцев.
Ребенок и лукавый пацан – вот он кто был. И одновременно я мог себе представить, и не только в ту конкретную ночь, и больше я ни о ком в нашем предместье так не думал: этот Эмманюэль кого-нибудь, и весьма скоро, может убить. (Но разве не было еще одного, третьего убийцы и душегуба? Об этом, наверное, позже…) И я не находил никакого объяснения для подобного «видения», и уж точно не подходило то, что используется в детективах, особенно в старых, когда убийцу якобы можно опознать, а мой приятель как раз был такой случай, по тому, что они зрачки закатывают вверх, отчего у них глаза становятся почти совсем белые.
Я однажды приступил к нему с расспросами, он меня высмеял. Но его первой реакцией на мой, во многом наигранный, призыв был едва заметный рывок, резкое движение от-чего-то-отодвинуться. И теперь рядом с ним в баре, на расстоянии от прочих, в том числе от хозяина – хотя у него везде уши – я спросил Эмманюэля: «Ты уже когда-нибудь кого-нибудь убил?»
Сам не знаю, как я так спонтанно сам дернулся и задал этот вопрос. Безо всякой задней мысли. Но только это была уже не шутка. Это я серьезно. «Наконец, это уже всерьез!» – произнес внутри меня кто-то. «Прощай, любимое безделье».
«Да, однажды, – отвечал он, – в Гайане, не специально, конечно, но мне до сих пор больно, змею убил. Это был подарок одной женщины, в мой последний день на службе, змея из джунглей, смирная, безвредная, красивый зверь, с окраской вроде древесной коры. Женщина повесила мне на шею эту змею в таком контейнере для перевозки, повесила на поводке, чтобы я дома, здесь, во Франции, выводил эту змею погулять. В ту же ночь я, сам того не желая, даже не знаю, как это произошло, заигрался, что ли, в темноте, потянул за поводок, а наутро моя змейка оказалась задушенной. Я теперь навсегда виноват!»
«А я тогда в Оране ласточку подстрелил, – вмешался хозяин с другого конца барной стойки, – хотя вообще-то даже не уверен. Их много сидело на проводах, а я стоял далеко у окна моей матери и целился из рогатки, не то в птиц, не то в провода. И вдруг камушек сам собой сорвался, полетел, и там, где сидела одна из ласточек, – раз и пусто! Господи, как же я испугался, я даже не стал протестовать, когда мать отвесила мне оплеуху». (Обе истории приведены в переводе на немецкий[8]8
В скобках – комментарий автора П. Хандке.
[Закрыть].)
Дальше разговор с Эмманюэлем шел все тише и тише, и я говорил так тихо не потому, чтобы меня не услышал Джилаль, «великий и могучий». Да, я говорил тихо, но тем четче выговаривал каждый слог: «А для меня смог бы кое-кого убить?» Он помотал головой, улыбнулся с таким видом, что, мол, если это шутка, то дурная. И Эмманюэль отвернулся от меня. Я не отстал: «А если я тебе за это заплачу? Десять тысяч? Пятнадцать?» На это мой друг-жестянщик, обратив ко мне через плечо свое лицо: «Что эта персона тебе сделала, что ты хочешь ее убить?» Я ему: «Она не мне сделала, то есть и мне тоже, в первую очередь даже мне, но я-то к этому привык, мне даже если за дело, так это только к лучшему. Она обидела, даже больше, чем обидела, мою покойную, мою святую мать!»
Серьезно, и от слова к слову все серьезней стало тогда, в ту ночь, то, что я все эти годы молча держал в себе (если и не постоянно, то уж точно регулярно), я тогда разом все высказал и еще больше: «Тот, кто обидел мою мать, да еще такими словами, что была поругана ее честь, пусть убирается прочь из этого мира. Время настало – если не сегодня ночью, то уж точно завтра, самое позднее – послезавтра!»
Хозяин издалека, вытирая бокалы, голосом диктора на стадионе: «Mata! Убить! Мечом! Mah al-saif! Голову долой!» И не важно, в чем именно состоит оскорбление. В его глазах тот, кто обидел мать, заслуживает смерти. Эмманюэль тоже не стал спрашивать об оскорблении, и, хотя он сам не ладил ни со своей матерью, ни с матерями вообще, судя по его взгляду через плечо, он меня или, по крайней мере, мою причуду – хотя это была не причуда вовсе – кажется, понял. И он не сказал: «Сам иди убей», а сказал, правда, опять с нотками этой групповой игры, в которую превратился наш диа– или триалог: «Для этого нельзя нанимать киллера». Я на это воскликнул: «Нет, это должен сделать наемный убийца. Я, как сын, не должен и не хочу сам нападать на женщину!» Гость и хозяин на это почти хором: «Так речь идет о женщине!» Долгое молчание. И вдруг встает незнакомец, который незаметно слушал наш разговор, и предлагает убить преступницу бесплатно, на полном серьезе. Тут я перепугался и объявил: «Это просто игра!»
Мы просидели в баре все вместе до полуночи, и не только мы трое, но и более поздние гости, например, трое мусорщиков после рейда по долине, которые бог знает почему на этот раз меня и других пригласили выпить с ними по последней – нет, никогда не говорить «последний». По телевизору без звука шел фильм «Рио Гранде» с Джоном Уэйном, при этом у одного из нас вырвалось: «Гляди, как красиво ходит!», на что от хозяина прилетело его вечное «Как я, comme moi!»
Домой я шел через вокзал. Последний поезд на Сен-Кантен-ан-Ивелин, через Версаль и Сен-Сир, еще не ушел. Я кружил по переходам и платформам в поисках того, кого я, кроме Маню, представлял себе орудием моего возмездия. Искал я вяло, этот человек мне давно уже не попадался, я уже счел, что он исчез, совсем сгинул. Обычно же он почти по часам, каждую полночь, вроде этой, после предпоследнего поезда, стоял где-нибудь в полумраке, за выступом стены или за колонной, невидимый для камер наблюдения. Всякий раз, как он меня видел, внезапно раздавался его голос, спокойный, тихий, как будто он обо мне тревожился и спрашивал о моем самочувствии. Когда однажды я его, вышедшего из-за колонны – он полагал, что рядом со мной не внушает подозрений – спросил в ответ, где он живет, я получил обыкновенный ответ бездомного: «A gauche et à droite, раз налево, раз направо». И зимой и летом он одет был в одно и то же, легко и опрятно, и в своей «зимней куртке» (удачное слово) дрожал от холода, и не только в декабре, причем голос у него всегда был неизменно мягок, ровен и внушал доверие, как у семейного доктора. Он служил поваром во многих кафе, не в Париже, в окрестностях и предместьях, на юге, на севере, на востоке, на западе, уже тогда, неделю там, неделю тут, раз справа, раз слева. Давно это было, и уже давно он живет непонятно чем, прячется дни напролет, по ночам выходит из тени стен, из-за колонны или из ниши на этом вокзале или на соседнем. Его уделом были теперь крошечные кухоньки, теснее, чем в кафе или на корабле. Они находились, как правило, в подвалах или туалетных комнатах, и когда он в очередной раз обозревал меня из одного из своих подземных вокзальных укрытий, с его огромными глазами, я увидел его, его голову, позади застекленного люка одной такой кухонной двери, в поварском колпаке поверх его черно-африканского черепа, и в фас, и в профиль, то ли над сковородой на плите, не видно было, то ли еще над каким прибором, к тому же нечетко, через запотевшее покривившееся стекло, а между тем он выглядел весьма ощутимо как прирожденный повар при деле, хотя он уже был никакой не повар, и он еще готов был усердно рассказать мне о своей стряпне, рецептах собственного изобретения, которые уже никогда не станут готовыми блюдами. А хотя, кто же знает? Он был далеко не старый еще человек. Вернуться в Африку? Разве там не нужны вот такие волшебники, как он? Заколонносвятые, как он?
При последней полуночной встрече Усман меня напугал, я испугался не за себя, а скорее, за него. Скорее неопределенный страх без конкретного объекта. Вот он ютится тут днями, годами, ночами, прозябает (или не прозябает), это же в любом случае не то состояние, или скоро станет не то, в один момент, в один ужасный момент, уже будет больше не то состояние. Что-то происходит, то есть кто-то вдруг принимает в нем участие. И этот кто-то – я, уже давно его единственный собеседник. Откуда я это знал? Просто знал. А принять в нем участие означало сделать ему заказ. Заказ за деньги? Он, Усман, всегда отказывался брать у меня деньги, так, между делом, не из гордости, но строго. В крайнем случае время от времени просил купить ему полуночный стаканчик кофе в кебабной лавке, единственном открытом ночном заведении на вокзале. Вот и теперь он не возьмет денег за выполнение моего заказа. Ему важен только сам заказ. «Я давно уже дожидаюсь от тебя заказа. Дай мне, наконец, поручение! Это твой долг по отношению ко мне!» Он не высказал этого вслух, он дал мне это почувствовать, не просто выразил своими огромными глазами без ресниц и еще тем, что он мне, с каждым разом все настойчивей и в конце концов исключительно настойчиво, вместо приветствия и вообще вместо лишних разговоров, окольными путями напоминал о себе: «Ты все еще живешь один в доме? У тебя большой дом? Сколько комнат? Сколько конфорок на плите? Дом на общей улице или в частном квартале?» Он хотел, чтобы я взял его к себе домой, не как выброшенного жизнью на обочину, из человеколюбия, но как компаньона и товарища, для чего сейчас, после бессмысленных ночных бесед на вокзале, самое время! Он не просто желал жить со мной в одном доме, он этого требовал. Мы будем заниматься общим делом, провернем вдвоем такое, чего еще никому не удавалось. Пусть я выдумаю для него что-то такое, а он это выполнит, свершит, обстряпает! В самую нашу крайнюю встречу, когда он меня, как водится, в тех же словах выспрашивал про мой дом, случилось так, что Усман пихнул меня из-за своей колонны и пнул, как боксер, по-дружески конечно, так сказать, на африканский манер, но при этом так сильно, что чуть не сбил с ног. И я тогда впервые заметил, какие у этого щуплого и худого человека непомерно огромные кулаки, предлинные пальцы, это мне бросилось в глаза еще больше из-за белесых его ладоней.
И я скоро забыл об этом случае. Как бы то ни было, а в Усмане я принимал участие. Он был мне дорог, как один из тех, которые в мгновение ока из «он» и «она» превращаются в «я», а «я», наоборот, в «ты, да, ты!», непредвиденные, незапланированные переселения душ, на один тот миг, о котором я вечно мог бы рассказывать. Мне Усмана не хватало. Я скучал по нему. Но в ту ночь я был рад, что не встретил его ни за одной из колонн. То, что мне предстояло, было не для него, вообще не его, ничего общего с ним, это было только мое, для меня одного. Это я никому не мог поручить. А поручение было: я сам себе это поручил.
Домой с вокзала я возвращался не по пешеходному тротуару, а по разделительной полосе междугороднего шоссе, что ведет от нашего предместья на юг; именовалась эта дорога у меня по-разному, то «шоссе», то «магистраль». Разделительная полоса, днем просто белая, а ночью фосфоресцирующая, сначала разделяла две встречные полосы, потом, после подземного перехода, постепенно сужалась по мере приближения к городу, как стрела, пока, еще до ответвления, ведущего к моему дому, не переходила в обычную линию дорожной разметки. И я шел по ней, не заботясь об автомобилях, которые, пусть и редко, шныряли туда и сюда, и каждый из них – ни один не стал мне гудеть или мигать – объезжал меня, как будто гуляющий по разделительной полосе – обычное дело.
Добрался до кровати и сразу уснул. Спал без снов. Вытолкнутый из этого сна, скорее нежели вырванный из него, я пробудился неожиданно и одновременно мягко. Никаких ощущений от вчерашнего дня и вообще от прошедшего времени. И все же часы с подсветкой в углу комнаты показывали, что проспал я больше двух часов. Не так, как всегда, потому что я не только днем, но и ночью, когда бы ни проснулся, точно знал, который теперь час, зачастую с точностью до минуты – еще в детстве удивлял этим всю деревню, – а вот теперь не угадал, промахнулся, просчитался на солидный отрезок времени. Виноват ли лунный свет? Я так провалился в сон, что не успел опустить жалюзи. Но тогда не было никакой луны, уж точно никакого полнолуния. Или это виноваты крики совы, что отзываются в моем доме, долетая с Вечного холма? И снова нет: крик совы никогда бы меня не разбудил, невозможно, протяжные голоса этих полуночных птиц меня всегда, наоборот, лишь еще глубже усыпляли.
А теперь сна ни в одном глазу, и вот лежу я, воплощенное спокойствие. Обычно всякий раз, случись мне в первой половине ночи принять какое-нибудь бесповоротное решение или в чем-либо неоспоримо увериться, пробуждение, при свете ли дня или, гораздо чаще, во второй половине ночи, снова ставило все под вопрос. Более того: все, что я накануне вечером думал, ясно видел, осознал и считал уже безоговорочно решенным, вдруг разом, будто меня разбудили ударом здоровенного кулака, представлялось теперь полнейшей нелепостью, бессмысленным и бесплотным самонадеянным проступком, «смертным грехом высокомерия». И вот эта резкая перемена в последние ночные часы, уже предрассветные, стала уже правилом, в моем представлении почти законом (о чем я в те конкретные наступающие ночные часы успел забыть).
А между тем необычные это были часы. Вот и ночь на исходе, и утро брезжит, а решение-то прошлого вечера – вот оно, никуда не делось! Решение отомстить обидчице моей матери – не сон. Отправиться в путь и не отступать до конца! Все эти годы всего лишь игра воображения, более или менее серьезная, смертельно серьезная игра в трагедию; наконец с игрой покончено. Но разве у преступления нет срока давности? Бред: для такого преступления нет срока давности!
Теперь никаких поспешных опрометчивых шагов, я этим всегда грешил. Оставаться в кровати стало невыносимым, но я лежал, окна были распахнуты. Шум шоссе на плато позади леса долетал еще тише, чем в пасхальные недели, приглушенный свежей листвой, и по сравнению с грохотом грузовиков зимой превратился в шелест. Безветренно, но в окно сквозит, как будто на меня повеяло самой стихией воздуха.
С первыми лучами солнца я начистил свои самые старые и самые надежные ботинки, в которых, хотя они и не походные, пересек испанские Пиренеи и исходил вдоль и поперек Сьерра-де-Гвадаррама и дальше Сьерра-де-Гредос. Я позволил себе выпить с утра молотый своими руками ямайский кофе «Синяя гора», которому равных по вкусу и целебным свойствам не встречал ни в одном кафе на свете, задолго до этого утра. Удивительно, как в час перед отправлением в поход приобретают особенное значение вкусы и запахи, хотя обычно для меня важны зрение и слух, наблюдение и слушание. Запах гуталина и еще не молотых зерен «Синей горы» пронизали все мое существо, тогда как утренние виды и звуки, даже самые тонкие, ничего мне в это утро не значили. Были они, конечно были, только ничего не означали. Не важно, какая картинка, все равно, какой звук – они утратили силу. И еще примечательно: точно так же, как я потерял ощущение и счет времени, я, кажется, еще стал как-то по-особому чувствовать вес. Без всякого умысла я взвешивал в руке каждую пару вещей, которые упаковывал в рюкзак, перекладывал из руки в руку и ощущал неведомое прежде удовольствие от того, что эта вещь для моего похода имеет «как раз правильный» вес или «идеально» легковесна. И наконец у меня – это у меня-то, который не то что утром, а и до самого обеда ни куска не мог проглотить, – появился солидный аппетит, и я с великим удовольствием в саду под липой поглотил яблоко сорта «онтарио», а следом – поджаренный хлеб под названием «хлеб праздничный» (из местной пекарни), оценил каждый откушенный кусочек (так мне было вкусно), когда он прокатывался по нёбу, и голова невольно запрокидывалась вверх, к небу, и назад, – трапеза богов. Я умял яблоко, как иногда груши, с огрызком и хвостиком.
Ни дня без чтения книг, складывания букв, расшифровки. Которую из книг, что я теперь читал, взять с собой в экспедицию? «Труды и дни» Гесиода? Евангелие от Луки? «Люди напротив» Жоржа Сименона (ни один из его детективов – и теперь никаких детективов! – уж точно не в этот особенный день)? Не надо Гесиода: он жаловался, что, после того как минует золотой век, уже не так радостно, после серебряного еще хуже, а после пятого и последнего, я думаю железного, хуже уже некуда, и вот тогда-то поэт как раз и видит – а было это уже две с половиной тысячи лет назад, – свой собственный век – современность. Нет, никаких «Трудов и дней», в пути они ни к чему. И благие вести от Луки тоже не надо, вместе с воскрешением и вознесением на небеса, а в конце самые гнусные злодеи, наверное, «сегодня же еще будут со мною в раю» – в другой раз, может быть потом, не сегодня, только не сегодня! А Сименон меня в своей виртуозной хитрой манере будет отвлекать от моего дела – хотя я не против иной раз немного отвлечься, я умею ценить такие моменты – но в предстоящие дни такой способ отвлечься мне не подойдет, опять же – нет! Пусть это будет день без чтения, в лучшем случае пусть это будет случайное чтение, походя, мимолетно, надпись на каменной стене. И все же мне уже теперь не хватало шелеста книжных страниц, хруста тонкой бумаги, этой несравненной музыки. Сегодня никаких книг. No book today, my love is far away[9]9
Никаких книг сегодня. Моя любовь далеко (англ.).
[Закрыть].
В отличие от предыдущих походов, когда я уходил из дома, сада, предместья, в этот раз я не искал никаких знаков – ни тех, ни других, никаких (или они просто мне не попадались?). Что у меня порвался шнурок, когда я завязывал ботинки, не означало ни того, что мне рекомендуется остаться дома, ни того, что это предприятие будет для меня невыносимо тяжким и гибельным, это ничего не означало, ничего и еще раз ничего, просто нужно вдеть новые шнурки, старые потому что совсем истлели. А угольно-черная кошка, что перебежала мне дорогу? На ее месте могла быть любая другая кошка. И рюкзак за плечами – не реплика ли это того дорожного мешка, с которым Лев Николаевич Толстой сто десять лет назад пустился в путь из Ясной Поляны и в конце концов умер в задней комнате железнодорожной станции – как бишь ее там? – Ну и что? – А там вверху, в небе, два самолета вплотную один за другим: не преследовал ли второй самолет первый, не начнет ли он вот сейчас стрелять, не обернется ли это войной? – Так было когда-то.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?