Читать книгу "Театральные записки"
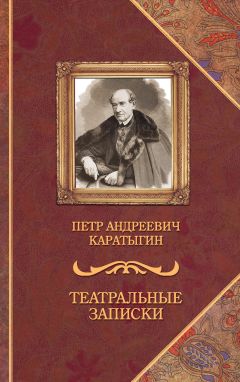
Автор книги: Пётр Каратыгин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава VI
В продолжение этого времени мне довелось сыграть на нашей школьной сцене несколько значительных ролей; в публичном же театре я в первый раз играл в 1818 году – роль Вильгельма в драме «Эйлалия Мейлау», сочинения Коцебу в бенефис актера Боброва, который сам проходил со мною эту роль. В одном или в двух местах мне даже аплодировали. Первый аплодисмент, первое одобрение публики! Боже мой, как я был счастлив! Я думал, что этот строгий, беспристрастный ареопаг не может ошибаться. Я был тринадцатилетний мальчишка, мальчишку же играл и был в полном восторге!
С этого времени мне начали давать небольшие роли пажей, крестьянских мальчиков и другие подходящие к моему возрасту. Отец мой просил капельмейстера Кавоса учить меня пению. Я раза три был у него в классе, но так как голос мой находился тогда в переходном состоянии, то есть из сопрано изменялся в другой, неопределенный (или лучше сказать, у меня тогда Кавос не доискался просто никакого голоса, форсировать же неокрепший голос не только бесполезно, но даже вредно), опытный капельмейстер посоветовал мне переждать это критическое время. Не могу при этом случае не посвятить нескольких строчек памяти этого необыкновенного человека.
Грустно становится, что в нынешнее время мы не встречаем уже более таких бескорыстных жрецов искусства, какие были прежде. Катарино Камилло Кавос был итальянец, уроженец Венеции, и с молодых лет переселился в Россию. Он был прекрасный композитор, отличный знаток музыки и учитель пения с большим вкусом и прекрасною методою. Кроме занятий своих в театре, он двадцать пять лет занимал должность учителя пения в Екатерининском институте и в Смольном монастыре. Кавос написал несколько опер, музыку для балетов, романсов, русских песен и проч. Лучшие его оперы – «Иван Сусанин», «Князь-невидимка», «Любовная почта», «Илья-богатырь» и «Вавилонские развалины». Он вполне может называться основателем русской оперы в Петербурге, потому что до него игрались у нас оперы только иностранных композиторов.
Кто бы мог поверить, что большая часть певцов и примадонн того времени не знали почти вовсе музыки и только благодаря неусыпному, тяжкому труду Кавоса пели (по слуху) в операх Моцарта, Паизиелло, Чимарозы, Спонтини, Керубини, Мегюля и других первоклассных маэстро. Чего ему стоило с каждым отдельно выдалбливать его партию, налаживать ежедневно то как канарейку, то как снегиря и потом согласовать их вместе в дуэтах, трио, квартетах, квинтетах и, наконец, в финалах! Непостижимый труд, дивное терпение, просто геркулесовский подвиг! Зато всё время дня, чуть ли не иногда до глубокой ночи он посвящал своим ученикам и службе.
Кавос был человек необыкновенно доброй и сострадательной души, готовый на всякую услугу. Впоследствии, когда он сделался директором оперных оркестров, беднейшие музыканты находили в нем своего покровителя и отца: он всегда не только радушно ходатайствовал за них у начальства, но зачастую помогал им своими деньгами. Этот итальянец по бескорыстию своему был просто выродок из среды своих единоземцев. Чтобы дать понятие, до какой степени Кавос был далек от интриг и зависти, столь обыкновенных в закулисном мире, я напомню только о его деятельном участии при постановке «Жизни за царя» Глинки. Несмотря на то, что Кавос сам написал оперу на тот же сюжет под названием «Иван Сусанин», он усердно принялся разучивать оперу своего соперника и хлопотал о ней как о своей собственной. Сам Глинка печатно сознался в этом в своих «Записках».
Осенью 1819 года у нас в школе произошли некоторые перемены: к нам определили двух-трех новых учителей. В числе их был профессор русской словесности Северин, преподававший нам риторику и отечественную литературу. Я был у него одним из первых учеников. Он заставлял нас писать небольшие сочинения, и я за них часто удостаивался его особенных похвал. Мне также чрезвычайно нравился класс фехтования. Учителем у нас был Кальвиль, служивший фехтмейстером при театре. Впоследствии он учил весь гвардейский корпус и дослужился до майорского чина. В то время почти ни мелодрама, ни опера, ни балет не обходились без военных эволюций, и я был в числе самых отчаянных бойцов. Редкое театральное сражение обходилось без кровопролития, и всевозможные царапины и рубцы на лице и руках служили знаками нашего удальства и усердия к службе.
К этому периоду времени я должен отнести свою первую любовишку. Совместное жительство мальчиков с девочками, разумеется, не могло не подавать повода к нежным увлечениям. Кто молод не бывал! Многие из моих товарищей, избрав себе предмет страсти, хаживали, бывало, в майский вечер под окошком, подымая глаза к небу или вернее, на окна 3-го этажа, откуда бросали на них благосклонные взгляды нежные подруги их сердец. В темные же осенние вечера иной влюбленный Линдор бренчал у открытого окна на унылой гитаре, купленной в табачной лавке, и на эти сигнальные аккорды являлась у своего окна миловидная Розина с белым платочком на голове, который имел двоякое значение: во-первых, чтобы не дуло в уши, а во-вторых, чтобы Линдору легче было разглядеть впотьмах свою Розину. Часто жестокая дуэнья в виде надзирательницы прогоняла Розину и с шумом запирала окно; а альгвазил[24]24
Альгвазилы выполняли в средневековой Испании функции полицейских.
[Закрыть] в образе дежурного гувернера отгонял бедного Линдора.
В то время курительный табак начинал входить в общее употребление. У нас в школе также появились трубки, и часто влюбленный юноша, подобно мусульманину, с чубуком в зубах и красной феской на голове, сидя у окна, вместе со вздохами пускал густые клубы дыму. Те и другие неслись к заветному окну из которого выглядывала затворница-одалиска. Они не нуждались в «селяме», то есть языке цветов, а объяснялись балетными пантомимами: ни малейший взгляд, ни единый жест не ускользали неприметно.
Был у нас один взрослый воспитанник, Ефремов, готовившийся уже к выпуску из училища. Он для своих любовных проделок приспособил странную манеру. Сидеть у окна без дела неловко – и Ефремов, чтобы отвлечь внимание любопытных, стоя у окна, обыкновенно чистил на колодке свои высокие сапоги. Предмет его страсти садился у своего окна с шитьем в руках, задумчиво поглядывая на влюбленного шута. Ее нежные взгляды, как в черном зеркале, отражались в голенищах ее любезного, руки которого были запачканы ваксой, но всё же любовь оставалась чиста! По выходе из школы Ефремов предложил своей даме руку и сердце и сочетался с нею законным браком.
Иная влюбленная пара садилась у окна с книжками в руках: перевернется листок в верхнем окошке, перевернется и в нижнем; она закроет книгу и он закроет свою… Между ними велся книжный разговор, но тут была своя грамота.
Пришла пора и моей первой любви.
Мудрено было не увлечься 16-летнему мальчику примерами старших. На гитаре я не играл, табаку еще не курил, сапог не чистил; но на окошко 3-го этажа стал также умильно поглядывать.
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь!
– сказал Пушкин и отчасти был прав. Первая любовь бывает всегда вспышкою юного сердца, порывом души, жаждущей нежного чувства. Всё это холостой заряд, без всяких последствий; это дебюты, в большинстве случаев неудачные… Но зато как сладостны эти впечатления первоначальной любви! Каким нежным, наивным чувством тогда бывает полно молодое сердце… (А наивность, замечу в скобках, есть грация глупости!)
Да, и я, глядя тогда на одно из окон 3-го этажа, уносился на седьмое небо; читая «Кавказского пленника», я воображал себя на его месте, а она представлялась мне страстною черкешенкою. Я выучил эту прелестную поэму наизусть: любовь без поэзии немыслима! Я был счастлив, мне отвечали взаимностью… отвечали не словами, не пантомимою; нет! у нас был особый язык – глазами: недаром же и говорится, что любовь начинается с глаз.
Но это была любовь – ультраплатоническая. Кто бы поверил в нынешнее реальное время, что я, любя ее более полутора лет, живя в одном доме, встречаясь ежедневно, не сказал с нею ни слова, не смел подойти ближе пяти шагов? Да и к чему было говорить? Слова казались мне тогда слишком ничтожными: они не высказали бы моих чувств; а она… она так отлично умела говорить глазами! Бывало, стоя за кулисами, где-нибудь в темном уголку, я взорами следил за нею, и она, в этой кордебалетной толпе, отыщет меня, взглянет долгим, пронзительным взглядом, и я счастлив – до новой встречи! Во время обеда я садился так, чтобы мне можно было ее видеть; даже в церкви глаза наши часто встречались.
Бывали между нами и размолвки: то она сердилась, что я долго не подходил к окну, у которого она меня ожидала; то мне покажется, что она кокетничает с другим. В последнем случае у меня на лице изображались грусть и ревность, но одного ее ласкового взгляда было достаточно, чтобы оно прояснилось! Эта немая любовь способствовала, может быть, развитию нашей мимики.
Мне никогда не приходилось танцевать с нею: она, как солистка, танцевала на первом плане, я же в качестве фигуранта был первым «от воды» то есть, говоря не закулисным языком, танцевал на заднем плане, у декорации, изображающей море. Но что значат моря и пространства для истинной любви? Она уничтожает всевозможные расстояния.
Пора, однако же, для полной моей исповеди сказать, кто такая была эта она. Она была воспитанница, Надежда Аполлоновна Азаревичева, побочная дочь директора А.А.Майкова и одной старой фигурантки, бывшей уже на пенсии. Старшая ее сестра Марья окончила училище в одно время со мною.
Наружность моей Лауры действительно была прекрасна, несмотря на рыженькие волоса, миниатюрный рост и довольно неправильные черты лица. Ее карие глазки были полны огня, жизни и необыкновенно выразительны: их огненный блеск способен был, как телячью печенку, испепелить мое юное, неопытное сердце.
В это же самое время брат мой Василий был влюблен в другую воспитанницу по фамилии Эрикова. Эта девица была необычайно малого роста. Если моя любовь была нема, то любовь брата была слепа, так как избранница его сердца не отличалась ни умом, ни красотой, ни дарованием. По выпуске из школы она поступила в хористки и затерялась в толпе бездарностей. Школьные мои товарищи подсмеивались над этим неудачным выбором и, видя брата и Эрикову за кулисами, называли их Кириком и Иулиттой[25]25
Кирик и Иулитта – раннехристианские мученики, причислены к лику святых.
[Закрыть].
Брат был огромного роста: разговаривая с любимой, он вынужден был сгибаться в три погибели… Но как быть: Геркулес прял у ног Омфалы, Самсон дал себя остричь Далиле! Крайности сходятся. Брат более году вздыхал по ней. И его любовь, как и моя, была пустоцветом, фальшфейером!
Приятно под старость вспомнить и детские шалости, и юношеские проделки! Лет через пять, когда моя обманчивая Надежда была уже невестою другого, мы с нею простодушно смеялись над нашей безмолвной юношеской любовью. И это немаловажная отрада, когда ни слезы, ни угрызения совести не мучат нас при воспоминании об увлечениях молодости.
Глава VII
Дальнейший мой рассказ о Театральном училище и моем житье-бытье, едва ли кому-нибудь интересен, и потому перехожу к первому дебюту старшего моего брата Василия.
Он явился в первый раз на сцену 3 мая 1820 года в Большом театре, в бенефис нашего отца в роли Фингала (в знаменитой трагедии Озерова). Помню я, как в этот вечер, за час до начала спектакля, вся наша семья собралась в маленькой уборной, окно которой выходило на сторону, где находился тогда комиссариат. Матушка наша сама одевала брата, прилаживала ему костюм[26]26
Полный костюм со всеми аксессуарами отец наш сделал за свой счет, потому что директор, князь Тюфякин, отказал дебютанту в новом костюме. Князь, как я уже говорил выше, был большой эконом. – Прим. автора.
[Закрыть], причесывала, белила и румянила нашего дебютанта; на ней же самой лица не было: этот час решал судьбу ее сына. Тут пришел и Катенин осмотреть своего ученика, туалет которого был почти окончен. Храбрый капитан тоже побаивался, хотя и старался ободрить робкого юношу.
Наконец пришел и отец наш, спросить, готов ли брат и можно ли начинать. Матушка со слезами на глазах дрожащим голосом отвечала «можно» и, перекрестив сына, поцеловала его.
Через несколько минут раздалась громкая увертюра Козловского, и невольная дрожь пробежала по жилам дебютанта и его родных. Брат в полном вооружении вышел из уборной, и мы все со страхом и трепетом пошли за ним.
Театр, несмотря на прекрасную майскую погоду был полон сверху донизу. Всё наше семейство осталось за кулисами, никто из нас не имел бодрости пойти смотреть представление из зрительской залы, а бедная матушка наша со страха убежала за самую заднюю декорацию. Вот наконец Старн прочел монолог, предшествовавший появлению Фингала:
Но плески в воздухе народа раздались;
Конечно, к сим местам царь шествует Морвена…
Еще минута – и Фингал является на сцену. Единодушный гром рукоплесканий в тот же миг раздался в воздухе, и дебютант, а за ним и мы вздохнули свободнее. Он, по принятому обычаю, преклонил голову перед снисходительными зрителями, и новые продолжительные аплодисменты вторично его приветствовали. Наконец всё умолкло, и Василий начал свой монолог. Голос его дрожал, слышно было, что он еще не может с ним совладать, не может осилить свою робость, но когда он произнес последние стихи первого монолога, громкие рукоплескания были уже не знаком ободрения дебютанту, но наградой и одобрением.
Первый акт прошел с успехом, и мы вполовину были успокоены. Но в первом акте одна только декламация; второй акт этой трагедии самый трудный: он требует и душевного жара, и сильного чувства, а вместе с тем и сценических движений. Новые мучительные ожидания, новые опасения! Второй акт произвел эффект больше первого; во многих местах роли публика не давала брату кончить его речи, и взрывы аплодисментов, и крики «браво!» были лестной наградой счастливому дебютанту. По окончании трагедии, разумеется, его вызвали несколько раз, и дебют брата моего, по справедливости должен быть внесен в театральную хронику как один из самых удачных на русской сцене.
Само собою разумеется, что брат мой не мог быть без погрешностей и недостатков: первые роли в трагедиях требуют столько важных условий, что мудрено их удовлетворить начинающему актеру, 18-летнему юноше. Кроме чувств, душевного жара, ясного произношения, правильной дикции, мимика и пластика составляют необходимую принадлежность трагика. Хотя рост моего брата был высок не по годам, но вся фигура его тогда еще не сложилась; ни орган его, ни физические силы не могли быть в полном развитии. В нем заметен был также недостаток сценической ловкости, которая, конечно, приобретается только опытностью. Но при всем том большая часть данных говорила в его пользу, и по первому дебюту можно было тогда судить о будущих его успехах.
В 3-м акте я смотрел из первой кулисы. Подле меня стоял старший театральный плотник Ананий Фролов, который уже сорок лет служил в этой должности. Он оборотился к другому плотнику, низенькому, черноволосому парню, и сказал ему вполголоса: «Ну брат Васюха, насмотрелся я на дебютантов-то, перевидал их на своем веку… Вот помяни мое слово, что этот молодец далеко пойдет и будет важный ахтер. После Алексея Семеновича (Яковлева) мне не доводилось встречать здесь такого лихача!» Парень, к которому относились эти слова, был Василий Жуков, впоследствии известный табачный фабрикант, миллионер, купец 1-й гильдии, коммерции советник, с. – петербургский городской голова и проч., и проч., который тогда служил плотником в Большом театре. К чести Василия Григорьевича Жукова надо сказать, что он не только не скрывает прежнего своего звания и горемычной бедности, но, как человек правдивый и чуждый тщеславной гордости, зачастую вспоминает о ней в кругу своих гостей, и, вероятно, многим из его знакомых доводилось слышать от него самого о рассказанном мною закулисном анекдоте. Старик Фролов в одном Василии (моем брате) угадал будущего знаменитого артиста по первому его дебюту; но какой прозорливый мудрец мог бы тогда предвидеть, глядя на другого Василия, Васюху Жукова, что он сделает себе такую блестящую карьеру!
По окончании спектакля я отпросился из школы домой ради нашего семейного праздника. Из театра к нам собралось несколько наших коротких знакомых поздравить брата с успехом. Первый почетный гость был, разумеется, Катенин; с ним пришел также его двоюродный брат, Александр Андреевич Катенин, товарищ моего брата по гимназии, бывший тогда еще юнкером Преображенского полка. Но так как юнкерам в то время не дозволялось ходить в театр, он, переодевшись в статское платье, забрался куда-то в верхнюю галерею. Не мог не быть также в нашем семейном кругу и наш неизменный друг князь Сумбатов; он только молча потирал руки и добродушно улыбался.
Весело и шумно сели мы за ужин, выпили за здоровье учителя и ученика, которому, конечно, желали дальнейших успехов. Майская ночь в Петербурге и так коротка; но для нас она промелькнула вовсе незаметно. Давно уже взошло солнце, а никто из нас и не думал о сне. Мы не могли еще наговориться, нарадоваться, припоминая, в каких именно местах были рукоплескания и где кричали «браво!»; все шумели, перебивали друг друга, но надо же было наконец дать отдохнуть дебютанту, измученному потрясениями прошлого дня, надо было дать покой отцу и матери, которые, вероятно, не менее него были утомлены вчерашними хлопотами, мучительным ожиданием рокового спектакля и, наконец, избытком радости.
Смолкнувший на время уличный шум возобновился, по мостовой начали снова дребезжать экипажи, послышался людской говор, крики мясников, разносчиков и зеленщиков с их обычными «вот салат, шпинат, петрушка, огурцы зелены!» и проч. Поэтические восторги должны были уступить жизненной прозе, и одушевленная беседа и разговоры о будущих лаврах Мельпомены были заглушены профанами-зеленщиками.
На следующее утро театральный люд собрался, по обыкновению, на репетицию. Составились отдельные кружки актеров, актрис, танцоров и т. д. Разумеется, о чем же им было говорить, как не о вчерашнем спектакле? Дебют новичка – дело не ежедневное: он всегда служит предметом толков, суждений и споров.
Бóльшая часть закулисных судей хвалили дебютанта; но тут, конечно, не могло обойтись без оппозиции; эту оппозицию составляли некоторые из учеников князя Шаховского, во главе которых находился актер Брянский. Он имел некоторый авторитет между своими товарищами, во-первых, как человек, учившийся кое-чему, а во-вторых, он поступил на сцену из чиновников и вообще слыл за образованного и умного малого. Брянский, как и следовало ожидать, остался недоволен моим братом… Дело понятное: такой дебютант был для него не свой брат. По смерти Яковлева Брянский занял решительно все его роли и сделался первым трагическим актером; так мудрено же ему было равнодушно отнестись к будущему своему сопернику.
Брянский и товарищ его по оружию, Борецкий (тоже ученик князя Шаховского), были главными антагонистами вчерашнего дебютанта. Оба они не скупились на насмешки и по косточкам разбирали новичка. Небольшой кружок около них состоял из хора, который они налаживали на свой лад. Хор этот состоял тоже из учеников Шаховского.
На меня, как на мальчишку, они, разумеется, не обращали никакого внимания, и вот некоторая часть разговоров, которую мне тогда довелось случайно услышать:
– Ну, что ты скажешь о вчерашнем долговязом крикуне? – спросил один другого.
– Что ж? Ничего… молодец… Чай, 11 вершков будет. Настоящий преображенец 1-го батальона, еще с правого фланга… Его хоть в тамбурмажоры: он года через два, пожалуй, и Лычкина[27]27
Известный всему Петербургу великан тамбурмажор Преображенского полка. – Прим. автора.
[Закрыть] перерастет.
Кто-то из толпы, желая, конечно, польстить Брянскому, заметил, что Давиду нечего бояться Голиафа.
– Да кто его боится? – возразил Борецкий. – По первому дебюту судить нечего; известно, что вчера преображенцы не положили охулки на руки[28]28
Не положить охулки на руку (прост., ирон.) – Не упускать своей выгоды; успешно защищать свои интересы.
[Закрыть]: думаю, все охрипли, сегодня на ученье и командовать не могут!.
Этой остротой он, вероятно, хотел намекнуть на то, что Катенин, по его мнению, подсадил вчера своих однополчан, чтобы, поддержать ученика.
– Ну да и публика наша хороша! – заметил кто-то. – Ей, лишь бы только было новое лицо, она всему обрадуется… Никто и шикнуть не думал!
– Уж не говори! – прибавил другой. – Я вчера в этой трагедии от души посмеялся; всё думал: кто кого перекричит? Дебютант публику, или публика дебютанта?
– Ничего, брат, молодо-зелено: прокричится еще, надорвется. А как спадет с голосу, так спадет и спесь. Видали мы этаких! Лучше бы Катенин поберег ученика для своего батальона: там он был бы на своем месте… Или хоть бы выпустил его дебютировать в «Илье-богатыре»: вот эта роль как раз ему по плечу!
Еще несколько подобных шуточек было отпущено на счет учителя и ученика, и все они сопровождались громким хохотом окружающей толпы. Я не сомневался, что и этот хор и его корифеи были настроены по камертону князя Шаховского и, может быть, даже все эти остроты были буквальным повторением его разговоров.
Грустно мне было всё это слышать; я ушел за кулисы и старался не показываться противникам моего брата. Обо всем слышанном мною я, разумеется, не сказал никому из моих домашних. Впрочем, брат знал и прежде, что Шаховской со своей партией явно не благоволит ему и не ожидал себе никакого снисхождения.
В начале 20-х годов наша петербургская пресса была весьма ограничена: тогда издавалось всего две-три газеты и не более трех журналов – «Сын Отечества», «Северный Архив» и «Благонамеренный». В двух или трех газетах отозвались о дебюте моего брата с похвалою, но вскоре появилась так называемая «ругательная статья» в «Сыне Отечества»; статья была подписана Александром Бестужевым, впоследствии известным писателем под псевдонимом Марлинский, который был давнишний противник Катенина и принадлежал к партии Шаховского. На эту статью напечатал антикритику Андрей Андреевич Жандр, и завязалась продолжительная полемика. Не имея теперь под руками этих статей, я, конечно, не могу судить, на чьей стороне оказался перевес.
Между тем брат мой продолжал неутомимо работать и приготовляться ко второму дебюту который для него был важнее первого по многим отношениям. В первый дебют он играл в бенефис своего отца, который более двадцати пяти лет был известным актером, стало быть, сын мог ожидать от публики некоторого снисхождения. К тому же и пословица говорит: «Первую песенку, зардевшись спеть», да и вообще в первый дебют публика бывает не слишком взыскательна. Второй же дебют непременно должен быть успешнее первого, чтобы расположить публику в свою пользу.
Всякий понимает, что к первому дебюту готовятся долго, стало быть, дебютант имеет возможность выработать и приготовить свою роль так, чтоб исполнить ее с возможной отчетливостью.
Большую ошибку делает начинающий актер, если он на первый раз выберет себе блестящую роль, а во второй дебют окажется слабее; он тогда много проигрывает во мнении публики.
Так, например, случилось с актером Борецким. Он дебютировал в «Эдипе» (трагедии Озерова); роль сильная, эффектная и, как говорится, благодарная: успех был блестящий. Но зато он в этой роли как бы истратил весь запас своего дарования и не пошел далее: во всех последующих ролях проглядывал тот же слепой Эдип; лучше этой роли он решительно ничего не сыграл в продолжение своей двадцатилетней службы.
Второй дебют моего брата состоялся 13 мая в роли Эдипа (в трагедии «Эдип-царь», сочинения Грузинцева). Эта роль считалась самою трудною из всего репертуара классических трагедий: она требовала много чувств, силы, мимики и пластики. В этой трагедии Эдип – еще молодой человек; страшная, карающая его судьба ему еще неизвестна: он еще не знает, что он убийца своего отца и муж своей матери; обо всем этом он узнает в продолжении трагедии. Легко себе вообразить, какие сценические средства требуются от актера для выполнения этой сильной роли. В 5-м акте он является на сцену с выколотыми глазами и, осуждая себя на вечное изгнание из отечества, прощается со своими детьми.
Рост моего брата, красивая наружность, великолепный греческий костюм много говорили в его пользу при первом его появлении. Принят он был прекрасно; тот же восторг и аплодисменты, как и в первый раз.
Все сильные места его роли имели блестящий эффект, и второй дебют удался сверх ожидания.
Третий его дебют был 27 мая в роли Танкреда (в трагедии Вольтера, перевод Гнедича). Эта роль как нельзя более соответствовала его средствам и фигуре. Роль эта не так сильна, как две первые, но очень эффектна и выгодна для дебютанта: личность благородного и несчастного Танкреда возбуждает в зрителях невольное к нему сочувствие. В этом спектакле дебютант был принят публикою с таким же одобрением, как и в прежних ролях.
По принятым правилам театральной администрации, судьба дебютанта обыкновенно решается или после первого дебюта, если дебютант окажется положительно бездарным, или после третьего, если дирекция находит в нем дарование. Не знаю почему, только от брата моего потребовали четвертого дебюта, который и состоялся 11 июля в роли Пожарского в трагедии Крюковского.
Замечательно, что все дебюты происходили в самое невыгодное для театральных представлений время. В летнюю пору как известно, мало охотников посещать спектакли, стало быть, надобно сильно заинтересовать публику, чтобы заманить ее в театр, но во все дебюты моего брата были почти полные сборы.
28 июля он был определен на службу и подписал контракт на три года, с жалованьем по 2000 рублей ассигнациями, с казенною квартирою при десяти саженях дров, и в три года один бенефис.
В следующем, 1821 году, 2 мая, в Большом театре под руководством князя Шаховского дебютировала воспитанница Театрального училища Любовь Осиповна Дюрова в комедии Мольера «Школа женщин» (перевод Хмельницкого) и имела замечательный успех. Ко второму же дебюту 6 мая была приготовлена роль Бетти в комедии «Молодость Генриха V», и князь Шаховской хотел, чтобы я также дебютировал вместе с нею. Собственно говоря, это не могло называться дебютом, потому что я уже раза два или три участвовал в драматических спектаклях. Роль пажа, выбранная князем для моего дебюта, была вовсе не важной. Мне, как дебютанту, поаплодировали при первом выходе – и только!
В конце пьесы начали громко вызывать дебютантку и князь велел мне также выйти вместе с нею, хотя я вполне сознавал, что не стою этой чести. Короче сказать, мой дебют прошел так себе: ни дурно, ни хорошо… Замечательно, что в тот же вечер я участвовал в балете «Тень Либаса» как фигурант: крепостник Дидло еще не соглашался дать мне вольную…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































