Читать книгу "Театральные записки"
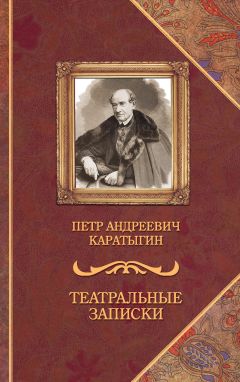
Автор книги: Пётр Каратыгин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава V
Вспоминая теперь порядки, бывшие в Театральном училище в мое время, то есть полвека тому назад, не могу не подивиться беспечности начальства доброго старого времени! Были у нас тогда учителя танца, пения, музыки, фехтования… а учителя драматического искусства, кажется, и по штату тогда не полагалось! Видно, это находили роскошью. Во время Великого поста, однако, устраивался у нас в одной из зал временный театр, в котором воспитанниками и воспитанницами игрались небольшие пьески; и тогда инспектор школы обыкновенно приглашал кого-нибудь из старших актеров поучить их немножко и руководить этими спектаклями.
Главным директором Императорских театров был тогда князь Петр Иванович Тюфякин. Он занял место Александра Львовича Нарышкина, известного остряка и настоящего русского барина времен Екатерины II и Александра I.
Князь Тюфякин был далеко не похож на своего доброго и благородного предшественника не только по внешнему, но и по внутреннему складу. Обращение его с артистами (не говорю с артистками, особенно с молоденькими и хорошенькими) доходило иногда до безобразного самоуправства и цинизма. Это случалось чаще в послеобеденную пору.
Чтобы дать понятие о монгольских замашках этого князя, я приведу только два эпизода из нашей закулисной хроники того времени. Однажды маленький воспитанник Театральной школы, лет восьми или девяти, нечаянно пробежал где-то позади сцены во время какого-то балета. Князь выскочил из своей директорской ложи, велел позвать к себе бедного мальчугана и подбил ему глаз своей подзорной трубой, которая у него тогда была в руках. На счастье мальчугана, тогда еще не были в употреблении бинокли, и потому у него остался синяк только под одним глазом.
Другой случай произошел не по балетной, а по драматической части. Был у нас тогда один молодой актер Булатов (он поступил на сцену, оставив статскую службу, и имел тогда чин титулярного советника). Ему назначили какую-то ничтожную роль, не подходящую к его амплуа. Он от нее отказался, и его сиятельство за таковую дерзость велел посадить его на съезжий двор![20]20
Съезжий двор – полицейская управа с помещением для арестованных.
[Закрыть]
«Свежо предание, а верится с трудом».
Эта грустная история, разумеется, глубоко оскорбила и возмутила всю труппу, и старшие актеры (в том числе и отец мой) решились идти к грозному директору просить отменить приказание, унижавшее звание придворного артиста. Но монгольский князь принял этот справедливый протест за явный бунт, воспылал гневом и погрозил им, что доложит об их дерзости государю и их всех «в Сибирь законопатят». Бедные старики артисты убрались от сиятельной грозы подобру-поздорову, повесив горемычные головы, а Булатов, высидев несколько дней в арестантской, вышел в отставку (поступив опять в гражданскую службу, он впоследствии дослужился до тайного советника).
Но если этот сиятельный деспот был плохой ценитель талантов, зато по хозяйственной части он имел репутацию расчетливого администратора, и, как говорит предание, в продолжение его директорства не только никогда не было дефицита, но оставалось ежегодно несколько тысяч в экономии.
Здесь я не лишним считаю заметить, что балет и опера действительно монтировались роскошно по тому времени; но наша драматическая сцена не могла похвалиться особенною заботливостью его сиятельства и никогда при нем не щеголяла ни новыми декорациями, ни костюмами. Театральное училище, сколько я помню, князь Тюфякин посещал только раз в год, во время танцевальных экзаменов; словесные же – его нисколько не интересовали, также точно, как и школьные наши спектакли.
Зато мы, бывало, с нетерпением ждали первой недели Великого поста, когда являлись к нам плотники для постановки нашего временного театра. Но, увы! хоть у меня тогда была смертная охота к драматическим занятиям, но участь-то была горькая! До сих пор мне было суждено изображать только бессловесных личностей, и я фигурировал на сцене, не разжимая губ (разве только иногда от зевоты). Мрачная перспектива фигурантской службы была, конечно, очень непривлекательна. Фигурант, как всем известно, самое жалкое существо в театральном мире. Ни к кому из земных тружеников так не подходит русская поговорка «неволя пляшет, неволя скачет», как к нему. Вечно толкущийся, грустно смеющийся, он, бедняга, как автомат, осужден допрыгивать свой век при всевозможных лишениях до скудного своего пенсиона!
Понятное дело, что постоянным и единственным моим желанием было выпрыгнуть из этого панургова стада, но не так-то еще скоро осуществились мои мечты. С какой, бывало, завистью я глядел тогда на старших воспитанников, подвизавшихся на нашей крошечной сценке, и как радехонек бывал, если мне дадут какую-нибудь ничтожную ролишку.
Замечательно, что из всех взрослых воспитанников того времени (1816 и 1817 гг.), участвовавших в этих спектаклях, только двое или трое поступили из училища в драматическую труппу; прочие же предпочли балетную часть. Сознавали они свою неспособность быть актерами или, может быть, всемогущий, грозный Дидло загораживал им дорогу на это поприще, только все они впоследствии стали кто солистом, кто корифеем[21]21
В классическом балете корифей – солирующий танцовщик, танцующий впереди кордебалета, но не исполняющий главных партий.
[Закрыть], а кто остался горемычным фигурантом.
В этот же период времени отец мой, желая приохотить старших моих братьев к драматическому искусству, устраивал иногда домашние спектакли в семейном кругу Братья мои Александр, Василий и Владимир были тогда уже чиновниками и служили в разных департаментах. Отец и мать мои имели казенную квартиру в доме Голлидея на Офицерской улице. Квартира, как я уже сказывал, была очень тесная, состояла из четырех маленьких комнат, а семья наша была довольно большая.
Всей технической частью при устройстве этих спектаклей заведывал всё тот же старинный друг нашего семейства и страстный театрал с незапамятных времен князь Иван Степанович Сумбатов. Бывало, недели за две до представления поднимался в нашем тихом семействе, как говорится, дым коромыслом. Пачкотня, стукотня, клейка, шитье костюмов и проч. Тут отец, мать, сестра и братья мои, короче сказать, все принимались за работу, но главный распорядитель был постоянно наш добрый князь: он был тут плотник и ламповщик, машинист и декоратор, даже и типографщик: ухитрился печатать на каком-то ручном станке афиши для этих спектаклей. Труппа наша состояла, кроме трех моих братьев, сестры и меня, еще из некоторых близких наших знакомых.
Зрителями этих спектаклей обыкновенно оказывались актеры и актрисы того времени и знакомые отцу моему литераторы, в числе последних бывали: князь Шаховской, Загоскин, Висковатов и Корсаков. Тут-то и зародилась у старшего моего брата Василия (впоследствии известного трагика) страсть к сценическому искусству.
Замечательно, что прежде он выбирал себе по большей части комические роли, а серьезные охотно уступал другим. Так, например, играл он Жеронта в комедии «Шалости влюбленных» (Мольера), играл в пьесе «Триумф» (Крылова), даже Филатку в оперетке «Ям» (Княжнина), а потом уже принялся за драму, которая, конечно, и была настоящим его призванием.
В то время актер Величкин, занимавший на сцене первые комические роли, также хаживал на домашние наши спектакли и, видя брата моего Василия в своих ролях, стал на него коситься и подозревать в нем будущего своего соперника. Он вполне был уверен, что брат мой готовится занять его амплуа. Когда же впоследствии увидел его в какой-то небольшой драме, то подошел к нему и дружески сказал: «Нет, Васенька, комические роли не по твоей части, вот драма – другое дело; это более по твоим способностям». Простак Величкин думал схитрить, а сказал правду.
Князь Шаховской, который тогда считался строгим и опытным знатоком драматического искусства, заметив вскоре хорошие задатки в моих старших братьях (особенно в Василии), предложил нашему отцу принять их под свое покровительство и воспитать из них артистов. Отец и мать охотно согласились на это предложение, и в тот же год оба брата мои начали ходить к князю для уроков. Через полгода, кажется, они уже дебютировали в школьном театре в присутствии директора князя Тюфякина. Весь этот спектакль был составлен из учеников Шаховского: они разыгрывали сцены и отрывки из некоторых драм и комедий.
Брат мой Василий играл третий акт из «Эдипа в Афинах» (роль Полиника); брат Александр – Эраста в комедии «Любовная ссора». Вскоре после этих пробных спектаклей некоторые из участников дебютировали уже в Большом театре.
Брат мой Александр не имел ни большой страсти к театру ни особенных способностей и потому уклонился от предложения поступить на сцену; он остался чиновником. Впоследствии служил секретарем при министре народного просвещения Уварове и умер бедняком на сорок шестом году своей труженической жизни.
Брату Василию дирекция также предложила дебютировать, но отец и мать наши не вполне были довольны его успехами, хотя сами и сознавали хорошие в нем способности для сцены. Они не согласились на его дебют под тем предлогом, что он еще очень молод: ему тогда было шестнадцать лет с небольшим. И дебют был отложен до тех пор, пока разовьются в нем физические силы, а вместе с ними и дарование его.
Между тем Василий продолжал учиться у князя Шаховского, у которого в то время часто собиралось большое общество истых театралов и известных литераторов. Князь любил иногда похвастать своими учениками и заставлял их в присутствии всего общества разыгрывать некоторые сцены из приготовленных им пьес или декламировать отдельные монологи. В число его приятелей входили тогда Катенин и Грибоедов, которые, однако, дерзали иногда с ним спорить и во многом бывали несогласны относительно театрального искусства. Иногда даже втихомолку и подсмеивались над ним, как над отсталым профессором, у которого, по их мнению, рутина и традиция играли главную роль. Тут-то и познакомился Катенин с моим братом.
Павел Александрович Катенин был тогда штабс-капитаном Преображенского полка и пользовался известностью как удачный переводчик Расина и Корнеля. Он был страстный любитель театра и сам прекрасно декламировал. Грибоедов же был тогда поручиком Иркутского гусарского полка. Первым опытом его стала переделанная с французского комедия в стихах «Молодые супруги». Опыт оказался весьма неудачный: читая теперь эти дубовые стихи, с трудом веришь, что лет через пять или шесть он написал свою бессмертную комедию.
Катенин тогда же предложил брату учиться у него, в чем также уговаривал его и Грибоедов. Брат сказал об этом предложении отцу и матери; они, как я уже выше заметил, не слишком были довольны методой князя Шаховского, а стало быть, охотно согласились. Тем более что в то время был у Шаховского любимый его ученик Брянский, который по смерти Яковлева занял первое амплуа в трагедии, и, вероятно, брату моему доставались бы на долю второстепенные роли.
Брат начал усердно заниматься с Катениным. Князь Шаховской был разгневан этой дерзостью и никогда не мог простить ему такого оскорбления. Дерзость точно была неслыханная в нашем закулисном мире, где Шаховской считался заслуженным профессором декламации и чуть ли не Магометом законов драматургии. Все его сеиды были озадачены этой возмутительной выходкой моего брата.
Катенин, критику которого всегда так уважали Пушкин и Грибоедов, был человек необыкновенного ума и образования: французский, немецкий, итальянский и латинский языки он знал в совершенстве; хорошо понимал английский язык и несколько – греческий. Память его была изумительна. Можно положительно сказать, что не было ни одного всемирно-исторического события, которого бы он не мог изложить со всеми подробностями; в хронологии он никогда не затруднялся; одним словом, это была живая энциклопедия. Будучи в Париже вместе с полком в 1814 году Катенин имел случай видеть все сценические знаменитости того времени: Тальмá, Дюшенуа, Мадемуазель Марс, Брюне, Молле и проч.
С этим-то высокообразованным человеком брат мой и начал приготовляться к театру, и в продолжение почти двух лет ежедневно бывал у него. После обычных уроков Катенин читал Василию в подстрочном переводе латинских и греческих классиков и знакомил его с драматической литературой французских, английских и немецких авторов. Можно утвердительно сказать, что окончательным своим образованием брат мой был много обязан Катенину.
Занятия их были исполнены классической строгости и постоянного, честного и неутомимого труда. Нет, в нынешнее время так не приготовляются к театру. Теперь дебютант едва сумеет выучить кое-как роль и идет с дерзостью на сцену по пословице «смелость города берет!». Бóльшая часть молодых людей современного поколения уверена, что можно не учась быть и писателем, и актером. Не так думал брат мой, приготовляясь к театру в серьезной школе, и потому до гроба сохранил строгую любовь и уважение к своему искусству. Оставим теперь на время моего брата в его классической школе и обратимся к нашей, вовсе не классической, в которой мы учились «чему-нибудь и как-нибудь».
В это время переведен был из московского театра в петербургский членом репертуарной части Федор Федорович Кокошкин, который имел в Москве репутацию заслуженного драматурга и знатока сценического искусства и славился во всех любительских театрах как отличный актер. Хотя тогда еще не было ни железных дорог, ни дилижансов, но слава опередила этого драматурга. Князь Тюфякин, ровно ничего не понимавший ни в литературе, ни в драматическом искусстве, пригласил его принять на себя вместе с должностью члена репертуарной части обязанность учителя декламации в Театральном училище. Кажется, в то время князь Шаховской повздорил в чем-то с Тюфякиным, и тот, в досаду ему, выписал в Петербург Кокошкина.
Я помню, с каким нетерпением мы ждали эту московскую знаменитость. Несколько воспитанников и воспитанниц были заблаговременно отобраны для его класса. Я имел счастие попасть в то же число.
Наступил назначенный день, и мы чинно собрались в зале. Вот в 12 часов приезжает он очень важно, настоящим московским барином, в четверке с форейтором и с лакеем в басонах и треугольной шляпе[22]22
Басоны (от франц. passement – позумент) – кисти или бахрома на камзоле.
[Закрыть]. Двери распахнулись, и вот явился к нам знаменитый Федор Федорович.
Я как теперь его помню. На нем были: светло-синий фрак с гладкими золотыми пуговицами, белое широкое жабо и жилетка; на брыжах его манишки блестела большая бриллиантовая булавка; красновато-коричневые панталоны из вязаного трико были в обтяжку; на ногах высокие сапоги с кисточками; на обеих руках старинные бриллиантовые перстни. Лицо необыкновенно красное и лоснящееся; толстые надутые губы; небольшой, вздернутый нос был оседлан золотыми очками; курчавые рыжеватые волосы его были тщательно завиты и зачесаны назад.
Короче сказать, мудрено было вообразить личность более подходящую к роли Фамусова. Вообще, момент первого появления этого драматурга произвел на нас комический эффект. Воспитанницы стали переглядываться и перешептываться между собою, а мы, мальчишки, подталкивали друг дружку и подтрунивали над его важной фигурой.
Кокошкин горделиво, с чувством собственного достоинства, сел в кресла у стола, на котором лежали список учеников и несколько театральных пьес для нашего экзамена, в том числе, разумеется, и «Мизантроп» его перевода. Он вынул большую золотую табакерку, осыпанную жемчугом, поставил ее на стол и начал поодиночке выкликать – прежде девиц, потом мальчиков и каждого из них заставлял прочесть что-нибудь. Тут его гримасы и пожимание плечами ясно показывали, что он был нами недоволен: он беспрестанно останавливал и поправлял профанов. Наконец, желая придать вес своему авторитету, Кокошкин тяжеловесно поднялся с кресел и сам начал декламировать монологи из разных трагедий. Эта декламация была неестественна и исполнена натянутой, надутой дикции.
Первая его лекция произвела в нашем кружке разноголосицу: иные были безотчетно озадачены его самодовольной, мишурной важностью, другие видели в нем московского педанта на барских ходулях, который хотел напустить нам пыли в глаза. На меня он произвел то же неприятное впечатление. Впоследствии Кокошкин ставил у нас в училище несколько спектаклей, и тут-то мы вполне убедились, что не всё то золото, что блестит, и что в Петербурге нельзя справлять праздников по московским святцам. Между тем у некоторых москвичей и до сих пор, по преданию, Кокошкин пользуется репутацией знатока, глубоко понимавшего театр. Его некрологи наполнены всевозможными похвалами, а московские его ученики-артисты и теперь еще с благоговением о нем вспоминают. Впрочем, он действительно был человек добрый и страстно любил театр; открытый дом его был как полная чаша со старинным московским хлебосольством; домашние его спектакли и балы посещались высшим московским обществом. А кто же из нас не знает, что щедрым угощением можно легко набрать себе и поклонников, и крикливых хвалителей? Или, как говорит Чацкий:
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы!
Кокошкин, кажется, не более двух или трех лет пробыл в Петербурге и, возвратясь в Москву занял должность директора тамошнего театра вместо Майкова, который переведен был директором в Петербург; князь же Тюфякин уехал за границу и умер лет через десять в Париже.
Аполлон Александрович Майков был старинный приятель князя Шаховского, и при нем Шаховской сделался снова постоянным учителем декламации в Театральном училище. Князь был такой же фанатик своей профессии, как и Дидло; так же готов был рвать на себе волосы, войдя в экстаз; так же плакал от умиления, если его ученики (особенно ученицы) верно передавали его энергические наставления. Он был так же неутомим, несмотря на свою необыкновенную тучность.
Два или три раза в неделю он бывал у нас в школе по вечерам и прилежно занимался с нами; по утрам же он обыкновенно до обеда не выходил из своего рабочего кабинета, где одна конченная им пьеса сменялась другой беспрерывно.
Хотя нельзя сказать, чтоб и князь Шаховской не был чужд некоторого педантизма, но вообще должно сознаться, что он много в свое время сделал пользы для русского театра. Из-под его ферулы вышло немалое число учеников и учениц, сделавшихся впоследствии замечательными артистами. С его дурным, шепелеватым произношением, с писклявым его голосом он умел, однако, всегда ясно растолковать мысль автора и передать самую интонацию речи. С нетвердою ролью не смей, бывало, ученик к нему и показываться: тотчас выгонит из класса! Никто из русских авторов больше него не написал театральных пьес, и как же он, бывало, любил, чтобы около него на репетициях собирался кружок любопытных зрителей: нужды нет, кто бы они ни были – хористы, фигуранты, даже хоть плотники или ламповщики. Он тогда беспрестанно оборачивался и наблюдал, какое впечатление производит на них его комедия или драма; подобно Мольеру, он готов был читать свое сочинение и безграмотной кухарке.
Репутация князя Шаховского – как учителя, драматурга, так и человека – была довольно двусмысленна. Иные в нем души не слышали; другие, напротив, бранили его как бездушного интригана и недоброжелателя. И те и другие, по-моему, были пристрастны. Он имел, как и всякий человек, недостатки и слабости, отрицать же в нем достоинства как драматурга, так и учителя – было бы несправедливо.
Актриса Катерина Ивановна Ежова с юных лет сделалась подругой его жизни и, надо признаться, много вредила ему в общественном мнении. Хотя она тоже была вовсе не злая женщина, но, живучи с ним, имела сильное влияние на его слабый характер: он, как Сократ, побаивался своей Ксантиппы. Во время директорства Нарышкина князь Шаховской довольно долго был не только членом репертуарной части, но по своей силе мог считаться чуть ли не вице-директором, и в эту-то пору, как говорит театральное предание, случалось много несправедливостей и пристрастия, в которых зачастую была небезгрешна его подруга жизни. Личная же его слабость к любимым своим ученикам шла нередко в ущерб другим артистам, которые не имели счастия у него учиться. Часто случалось, что о новом своем ученике князь пустит заранее молву что это-де талант необыкновенный, который убьет наповал и того и другого, а на деле выходит, что сам дебютант повалится при первом дебюте.
Как человек очень умный и довольно хорошо образованный, князь Шаховской действительно знал театральную технику в совершенстве и мог по тогдашнему времени назваться профессором по этой части. Иногда случалось, что по болезни он не мог быть у нас в школе, тогда его учениц (и учеников за компанию) привозили к нему на дом для уроков (разумеется, в сопровождении гувернантки). Бóльшая часть его учениц были молоденькие и хорошенькие воспитанницы, стало быть, имели и своих поклонников-театралов, которые на сей конец знакомились с Шаховским и, как будто нечаянно, приезжали к нему в гости во время его классов.
Князь Шаховской умел мастерски пользоваться не только способностями, но даже недостатками артистов своего времени: он умел выкраивать роли по их мерке. Например, Ежова была актриса довольно посредственная, но имела резкий, грубый голос, и он для нее всегда сочинял очень эффектные роли сварливых, болтливых старух. И точно: где в пьесе была нужна, что называется, бой-баба, там Ежова была совершенно на своем месте.
Одновременно с нею служил актер Щенников, игравший когда-то роли вторых любовников и постоянно смешивший публику своей неловкостью и неуклюжей фигурой. Для него князь Шаховской написал две роли – Адельстана в «Иваное» и Калибана в «Буре»[23]23
«Иваной, или Возвращение Ричарда Львиное сердце» – это комедия князя Шаховского по мотивам «Айвенго» Вальтера Скотта, а «Буря» – по мотивам пьесы Шекспира.
[Закрыть], в которых Щенников был весьма удовлетворителен.
Хотя брат мой и сделался ренегатом, выйдя из студии князя Шаховского, но я как воспитанник принадлежал к числу его учеников. Он меня очень любил и ласкал: одно лето я даже провел у него на даче. Тогда князь жил в Емельяновке (по Петергофской дороге), недалеко от взморья. Помню я, как однажды в темную, бурную ночь, в половине августа, князь долго не возвращался из города. Вода от сильного морского ветра выступала из берегов. Катерина Ивановна (Ежова) была в страшном беспокойстве: она взяла фонарь и пошла вместе со мною на большую дорогу его встречать. Тучного князя вез шажком его кучер; лес шумел при сильном ветре, свирепствовала буря и мешала нам слышать приближающийся экипаж. Вдруг лошади его наткнулись из-за угла прямо на фонарь, зажженный пламенной любовью Катерины Ивановны. Лошади испугались, рванулись в сторону, дрожки опрокинулись, и князь свалился в канаву!
– Какой тут черт пугает фонарем моих лошадей?! – закричал испуганный князь.
– Это я… я вышла к тебе навстречу, чтоб тебе удобнее было проехать…
– Кто просил тебя тут, Катенька, соваться? Ты чуть не убила меня своею нежностью.
Кучер в это время остановил лошадей, слез с козел, и кое-как мы втроем вытащили из канавы насквозь промокшего князя. Вода лилась с его платья, а брань – с языка. Катерина Ивановна сама была и перепугана, и огорчена этим происшествием, и не знала, как успокоить своего друга. Они оба были правы, но на грех мастера нет: иногда и хорошие намерения имеют дурные последствия.
В то старое доброе время переводчиков с французского и немецкого для театра было очень немного, а драматических сочинителей еще меньше, и потому редкий бенефис обходился без содействия князя Шаховского. Не говорю уже о бенефисе Ежовой, для которой он ежегодно писал оригинальную пьесу с хорошей ролью и вообще составлял заманчивую афишку. Тут, разумеется, выгоды их были обоюдны: касса у них, вероятно, была одна, князь Шаховской не имел никакого состояния.
Здесь я должен заметить, что если у него и имелись некоторые недостатки, то его положительно нельзя упрекнуть в корыстолюбии. Я не помню ни одной его пьесы, которая бы не шла в бенефис артистов и, разумеется, эти пьесы отдавались им без всякого вознаграждения; разве иногда кое-какие неважные подарки предлагались князю после удачного бенефиса за его труды. Между тем как он, будучи с директорами театров всегда в дружеских отношениях, мог бы легко продавать свои пьесы в казну и иметь от этого большие выгоды. Едва ли он так же получал жалованье, как драматический учитель: он занимался этим просто из любви к искусству.
Домашнее министерство финансов было по части Катерины Ивановны, князь же, как член Российской академии и Общества любителей русского слова, состоял по министерству народного просвещения и хлопотал только о том, чтоб у него была свечка или лампа в его рабочем кабинете, а что делалось в столовой, гостиной и даже в детской – это до него не касалось. Наружность князя была очень оригинальна и даже карикатурна: он был высокого роста, брюхо его было необъятной величины, голова большая и совершенно лысая, нос длинный, с горбинкой; вообще вся фигура его была тучна и неуклюжа, голос же, напротив, был тонок и писклив.
Живучи у него на даче и после часто бывая у него, я имел случай хорошо ознакомиться и с характером князя Шаховского, и вообще с домашним его бытом. Князь был необыкновенно богомолен: ежедневно целый час он не выходил из своей молельни, где читал молитвы и акафисты и делал обычное число земных поклонов, так что с верхней части лба у него не сходило темноватое пятно вроде мозоли. Впрочем, это гимнастическое упражнение было, вероятно, полезно для его здоровья при его тучности и сидячей жизни. В 1-е число каждого месяца, в день именин, рожденья его самого или кого-нибудь из его семьи служились у него на дому молебны. В церкви же, по большим праздникам, князь обыкновенно почти всю обедню стоял на коленях, глубоко вздыхая, и со слезами на глазах повторял молитвы священника или псалтыри дьячка и пел вместе с хором. (Крайне фальшиво: у него не было никакого слуха.)
Антагонисты его положительно не верили его религиозности и утверждали, что всё это притворство и лицемерие, называя его Тартюфом. Но какая же была цель этого лицемерия, какая польза? Кого князь хотел обмануть этой набожностью?.. В монастыре подобное лицемерство имело бы смысл и значение, в театральном же мире, где он провел всю свою жизнь, в этих антиподах монастырского обычая, все такие проделки не имели ни смысла, ни цели, ни назначения.
Тогда, разумеется, я верил искренности князя, да и теперь не могу признать справедливости этих обвинений и вполне убежден, что он не был Тартюфом. Катенин и Грибоедов были тогда большие вольнодумцы, особенно первый, и любили подтрунивать над князем насчет его религиозных убеждений; тут он выходил из себя, спорил до слез и часто выбегал из комнаты, хлопнув дверью.
Как драматический писатель князь Шаховской по справедливости должен занять почетное место в истории русского театра: он написал более ста пьес – трагедий, драм, комедий, опер и водевилей, но едва ли и половина из них была тогда напечатана. В настоящее же время они сделались библиографической редкостью, и их теперь не только не отыщешь в книжных лавках, но сомневаюсь, чтоб они вполне уцелели и в театральной библиотеке.









































