Текст книги "Слово в пути"
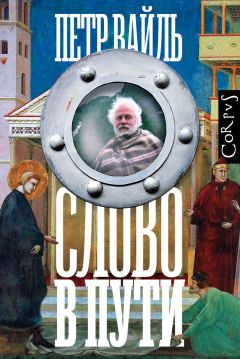
Автор книги: Петр Вайль
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Костюм Казановы
Желание раздеться и желание одеться – два главных искушения человека и человечества.
Первый соблазн ярче всего явлен в Рио-де-Жанейро, второй – в Венеции. Если Рио – самый раздетый город планеты, то Венеция – самый одетый. Нет, она не опережает по богатству и многообразию нарядов другие города Северной Италии. Боже упаси обидеть, например, Милан – с его душераздирающей (имеется в виду та часть души, которая ближе к карману) улицей Монтенаполеоне. Витрины музейной красоты и почти музейной недоступности, где в последние два-три года появились надписи на нашем родном языке, и не только объяснимые деловые, вроде: “Принимаем наличные”, но и трогательные: “Заходите, можно просто посмотреть”. Можно и даже нужно – чтобы, как выражаются модные женщины, “наметать глаз”, то есть понять, что и как нынче носят. Это необходимо – потому что без таких минимальных знаний и зрительных навыков не насладиться в полной мере уличной жизнью североитальянских городов.
Дивное зрелище являет собой эта толпа, в особенности зимняя. Летняя – парадоксальным образом ярче, но монотоннее: на тех клочках, которые составляют одежду, не развернуться фантазии. Зимой же многовариантность покроев шуб, пальто, плащей, фасонов туфель, ботинок, сапог – ошеломляет. Общее здесь лишь одно – гармония и адекватность. У меня не хватит смелости утверждать, что женщины Северной Италии красивее других, но то, что они элегантнее и привлекательнее – готов отстаивать с тупой отвагой или более современно: в суде любой инстанции. Пусть ребята в мантиях просто выйдут на миланскую виа Данте или на флорентийскую виа Торнабуони – вопрос будет решен.
Венеция не превосходит нарядами богатые соседние города. Не шикарнее и не изысканнее упомянутых улиц набережная Рива-дельи-Скьявони (по иронии истории, в переводе – Славянская набережная). Но нет города в мире, где бы одежда стала живой мифологией – благодаря карнавалу. Карнавал – удвоение наряда. Точнее – одежда в квадрате.
В XVIII веке карнавальная жизнь продолжалась месяцами, и около двухсот дней в году венецианцам позволено было носить маскарадный костюм. Сейчас этот праздник длится – правда, с бешеной интенсивностью – всего десять дней. Но именно традиция карнавала, выпадающего – в зависимости от Пасхи – на февраль или начало марта, заложила отношение к зимнему наряду. А поскольку истинный венецианец к самому карнавалу относится пренебрежительно, как к туристскому шоу (тем не менее великолепному!), то старательнее всего Венеция одевается к Рождеству и Новому году. Лучшие витрины на Мерчерии – в декабре. На рынке Риальто в предрождественские дни глазеешь вовсе не на бесконечное разнообразие даров земли и моря, а на тех, кто складывает эти дары в сумки. На периферии памяти маячат покупки в купальниках, но покупки в шубах их затмевают – и это правильное качание маятника.
Два главных соблазна – желание раздеться и желание одеться.
Первая страсть определяет демографическую картину мира, а демография – в конечном счете, важнейшая из наук, имеющая отношение к повседневному бытию: чем гуще селится человек – тем хуже живет.
Второй соблазн всегда был движущей силой цивилизации: не ради хлеба насущного воевал и плавал мужчина, а чтобы украсить себя и своих женщин. Что искали навигаторы и землепроходцы, совершая великие открытия? Пряности, золото, драгоценные камни, меха. Не кукурузу же. Неистребимое влечение к излишествам правит миром.
Цивилизацию следует отсчитывать с того момента, когда наш непричесанный и неумытый предок, руководствуясь бесполезными эстетическими соображениями, подрезал наброшенную на себя длинную теплую шкуру каменным ножом (так подлинное искусство кино началось не со съемки, а с монтажа). Крой шкуры – знак самоощущения личности. Цивилизация и есть одежда: голый человек покрывал себя слой за слоем религией, моралью, правом, культурой, этикетом, нарядами. Одевался.
Никто никогда в истории не одевался так тщательно и с таким осознанием важности наряда, как венецианцы. И наивенецианнейший из всех – Джакомо Казанова.
Казанова оказался так задрапирован предрассудками, что только в последнее время усилиями историков, культурологов, литературоведов превратился из Луки Мудищева в философа и писателя, автора увлекательной и мудрой книги мемуаров – “История моей жизни”. Он и был философом жизни, утверждавшим, что потерял лишь один день, когда после маскарада в Санкт-Петербурге в декабре 1764 года проспал 27 часов подряд. Казанова довел до высочайшего мастерства природный дар итальянцев – умение извлекать смысл не из жизни вообще, а из каждого конкретного дня.
В таком высоком ремесле значимо все. Одевался Казанова продуманно, рассчитывая, какое впечатление следует произвести. Он так увлечен идеей наряда, что для него и презерватив – одежда: “Маленький костюм из очень тонкой и прозрачной кожи, длиной в восемь дюймов и без выходного отверстия, который завязывался на входе узкой розовой ленточкой”.
В “Истории моей жизни” все мало-мальски существенные персонажи – одеты. То есть Казанова отмечает их наряд, тем самым помещая в точный социально-психологический контекст. Как писал на сто лет позже Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности.
Естественно, тщательнее всего одет герой, он же автор мемуаров. Сохранилась расписка 1760 года: Казанова заложил кое-что из своей одежды – бархат, горностай, атлас, гипюр, кружева.
Так обстоятельно и подлинно одевается нынешняя Венеция. Кожа, мех, шелк, парча – зимний город даже в самые синтетические годы не числил химию среди почитаемых дисциплин. Другое дело – география: несколько столетий Венеция была центром мира и сюда стекалось все, что украшало кабинеты Евгениев Онегиных всех времен.
Сейчас сюда стекаются смотреть на то, что осталось. Не надо преуменьшать: осталось очень много. Удваивающая все вода лагуны и каналов. Удвоенные водой дворцы, храмы, мосты. Мини-музеи мирового класса в каждой церкви. Немыслимая для большого туристского города тишина. Прекрасные овалы женских лиц. Изысканность осанок и облачений. Благородство толпы – что вообще-то есть парадокс, оксюморон, вроде черного снега.
Снега в новогодней Венеции ждать не стоит, а вот нарядная новогодняя толпа здесь празднична и сдержанна – тоже парадокс. К одиннадцати заполняется Пьяцетта – площадь, соединяющая Сан-Марко с набережной. Здесь рассаживаются на ступенях Библиотеки Марчиана, под колоннадой Дворца дожей, на сложенных в штабеля деревянных мостках, припасенных на случай подъема воды. Шампанское ударяет с первым залпом фейерверка, равного которому по веселой изобретательности не сыскать.
В последние годы толпа на Сан-Марко с демографической неизбежностью становится все гуще, и я уже присмотрел другое местечко, откуда все выглядит не хуже, а народу поменьше – по понятным мотивам не скажу где. Там мы с друзьями встречали 1999-й и 2000-й, там я подвергся объятиям местного населения с криками “Санта-Клаус, спасибо за подарки!”. Такая судьба: к востоку от Карпат обзывают Карлом Марксом, к западу – Санта Клаусом. Хорош выбор.
“Свои” местечки найдутся у каждого, кто бывал в Венеции больше одного раза: таков этот прихотливый и никогда никому не раскрывающийся до конца город – потому и для всякого свой.
Опытный путник не станет толкаться по избитому маршруту Сан-Марко – Риальто и оттого увидит настоящих венецианцев. В городе без наземного транспорта (нет даже велосипедов), где нельзя плюхнуться на сиденье такси и показать адрес на бумажке, конечно, боязно отходить от проторенных троп. Привычно только на острове Лидо, прославленном пляжами, казино, “Смертью в Венеции”, кинофестивалем. Но это Венеция ненастоящая: здесь ездят машины, ходят автобусы. Необходимо уйти в глубины районов Кастелло, Канареджио, особенно Дорсодуро, чтобы взглянуть на город и горожан, хоть бегло понять – каков их облик. Облик неслучаен и выношен. За каждым нарядом – века ритуала, то, что мы неуклюже называем соответствием формы содержанию.
Когда венецианская инквизиция пришла в 1755 году арестовать Казанову за вольнодумство, он долго и тщательно совершал туалет, будучи уверен, что красиво и дорого одетый человек не может выглядеть виновным. Однако инквизиторы оказались лишенными эстетического чувства, и 15 месяцев Казанова просидел в Пьомби – страшной тюрьме под свинцовой крышей Дворца дожей. И вот тут – лучший в “Истории моей жизни” пассаж. Казанова совершает невозможное – побег из Пьомби: героический поступок, который для любого другого стал бы содержанием и рассказом всей жизни. Совершив акробатические трюки и атлетические подвиги, изодранный, окровавленный Казанова вырывается на волю, наскоро переодевается и выходит к лагуне: свобода! “Повязки, выделившиеся на коленях, портили все изящество моей фигуры”. Кто еще в мире способен на такую фразу?!
Казанова не хвастлив – слишком красноречива сама его жизнь. Оттого так заметно выделяется трогательное самодовольство, с которым он рассказывает, как дарил своим любовницам наряды, сам выбирая их: “В размерах я не ошибся ни разу”.
Так вот и хотелось бы прожить – чтобы не было мучительно больно за ошибки в размерах. Прежде всего – в своих собственных. Я говорю, разумеется, о масштабе личности.
Стол как холст
Масштабы меняются – людей, стран. За последние десятилетия сильно и разнообразно выросла Япония.
Лучшие месяцы для посещения страны – апрель и ноябрь. В это время с места снимаются все, отправляясь кто в соседний парк или ближайший лес, кто за сотни километров в специально выбранные места для созерцания. Человек западной (европейской, американской, русской) культуры тоже время от времени куда-то едет что-то смотреть, что, как правило, оборачивается образовательным по своей сути знакомством с произведениями человеческого гения – Джокондой или Парфеноном. В Японии же возведено в ранг национальной институции простое поглядение на цветы и листья. В апреле цветет сакура. В ноябре желтеет листва.
Новый год здесь примечателен разве что невообразимым числом открыток, которыми обмениваются японцы. Социальный статус человека определяется количеством полученных им новогодних поздравлений. Забывчивость ведет к разрыву отношений, небрежность – к ссоре. В последнее время разврат сервиса поразил и японцев, к чьим услугам открытки с готовым типографским текстом. Однако человек приличный возьмет все же авторучку, а человек тонкий – кисточку и тушь.
Я аккуратно посылаю такие поздравления своим японским знакомым, но ездить туда стараюсь в апреле или ноябре. Япония возникает в рождественско-новогоднем сюжете по той причине, что в эти праздники – едят. Едят и в другие, но зимой все располагает к еде долгой и обильной…
Конец века отмечен триумфальным маршем дальневосточной кулинарии – с постепенным смещением от материка к полуостровам и островам. Богатейшее китайское искусство еды чуть отодвигается перед напором более сдержанных в материалах и методах вьетнамской и тайской кухонь, перед лаконичной минималистской японской. В Нью-Йорке за минувшие два-три года едва ли не удвоилось количество японских заведений. Что важно отметить – даже не ресторанов, а закусочных, забегаловок. Мест, где получаешь чашку лапши – пшеничной (удон) или гречишной (соба) – в бульоне и, разумеется, суши. Смена столетий проходит под знаком суши – катышка вареного риса с куском сырой рыбы.
Дело не только в несомненной питательности рыбно-рисового сочетания. Дело в эстетике. У японцев господствует отношение к еде как к красоте. Стол – как живописный холст: пустоты играют в нем такую же содержательную роль, как и предметы. Японский накрытый стол, поставленный вертикально, можно обводить рамой.
Предел гастрономического лаконизма – в чайной церемонии. Подается не торт или пирог, перебивающие все вкусовые акценты, а маленькое печенье по сезону: весной – в виде цветка сакуры, осенью – в виде хризантемы. Самого чаю – чуть: зеленая горечь, взбитая в пену венчиком вроде помазка для бритья. То, во что наливается напиток, не менее значительно, чем содержимое: обряд предписывает отдельное любование чашкой. И – вот подлинный урок для литератора – триумф композиции над сюжетом. Что за чем – существеннее, чем что. Порядок угощения важнее угощения.
В общем, не наешься и не напьешься. Вкусно, но мало. Нет, все-таки мало, но вкусно.
Пожалуй, это и можно счесть формулой японского застолья. Формулой его всемирного успеха.
Понятно, что при таком переносе усилий с насыщения физического на насыщение эстетическое особое внимание уделяется всем сопутствующим процедурам: до, после и во время самого поглощения пищи. Японская рукотворная красота еды – и в подаче и в подготовке.
Самая дорогая говядина в мире – “мраморное” мясо из Кобе. Корове подносят пиво, делают ей массаж, разговаривают с ней – размеренно и негромко. В суши-барах работают только мужчины. У женщин температура тела чуть выше – всего, кажется, на полградуса, – но и такое отличие пагубно сказывается на рисе и его сочетаемости с рыбой. Рис для суши сдабривается малой толикой рисового же уксуса – для придания легкого аромата. Совсем чуть-чуть – так пользуется духами женщина со вкусом. Тонкие розовые лепестки маринованного имбиря играют роль шербета – освежают нёбо и гортань, готовя к следующей закладке. Ножи для разделки рыбы холят и лелеют, словно именное оружие. Они и есть именное оружие повара, буквально блестящий знак его доблести.
Специальной разделке подвергается рыба фугу – предмет вожделения кулинарных камикадзе. Ежегодно в Японии умирают от яда фугу более сотни человек. При правильной разделке рыба безопасна, но смертельные ошибки случаются, и, казалось бы, чего проще – не есть ее вовсе, полно других. Но такое было бы слишком просто. Да и теория вероятностей дает благоприятные шансы. Взять того же меня: я съел в Киото суши из фугу, и ничего, никакой мемориальной доски на том заведении в Арасияма на берегу реки Кацура.
Идея сырой рыбы недолго смущает воображение новичка-европейца, воспитанного на варке, жарке, тушении и запекании. Прежде всего – это вкусно. И далее – это тонко. (Только в скобках упомяну отвратительное мне слово “полезно” – сырая рыба действительно полезна, но, по моему глубокому убеждению, полезно то, что вкусно: что поглощается с удовольствием, то и идет впрок.) Естественно, первое условие тут – свежесть.
В последний раз я разместился в Киото возле храма Тофукудзи в риекане – традиционной гостинице, где ложем служил расстеленный на полу футон, под голову помещалась макура – наволочка, набитая гречневой крупой (должна за ночь прочищать мозги, я что-то не заметил), из мебели стоял столик высотой в ладонь. Через дорогу был суши-бар, где человек в высоком колпаке время от времени отказывался меня обслуживать по утрам, тыча пальцем в настенные часы: мол, приходи позже, не кормить же тебя вчерашней рыбой.
При всем том как раз в Киото – самая интересная в стране рыбная кулинария. Расположенный сравнительно далеко от моря – редкость для островной Японии, – город вынужден был придумывать для рыбы, которую сюда тащили через горы не одни сутки, различные способы сохранности: солить, вялить, мариновать, сушить. В заведении “Нисимура”, возле университета, я ел вяленую селедку в бульоне с лапшой. Описание блюда способно повергнуть в уныние или отвращение – в зависимости от темперамента, – но прошу поверить: вкусно. Не может быть невкусно уже потому, что за этим стоят столетия традиции.
Киото – традиция в наиболее вызывающем виде. Дело в том, что город на первый взгляд – совершенно современен. Не в той, разумеется, степени, как Токио. Все же Токио служит столицей последние почти полтораста лет, а Киото был ею десять веков. У Киото больше за плечами. Но старина здесь по-японски упрятана в современность, и новичок поначалу недоумевает: где же обещанные путеводителем две тысячи (!) храмов и святилищ? Они на месте, но их надо с умом и желанием искать и находить, получая гарантированное вознаграждение. Вот там, в монастырских садах, скрывшихся от времени, – лучшие места для гурмана. Потому что гурманство здесь – многослойное: ты ешь нечто вкусное, легкое и красивое, сидя на циновке, расстеленной на деревянной террасе в саду с видом на пруд, где тихо квакают лягушки. Вдруг на миниатюрном бесшумном водопаде звонко щелкает колено бамбукового желоба – и это единственное напоминание о том, что время все-таки течет.
Более наглядная старина – в квартале Гион. Здесь знаменитые матинами – деревянные планочные дома, такие, какими они были и пятьсот лет назад. Считанные метры по фасаду и до сорока метров в глубину, эти “спальни угрей”, как их называют, таят в себе дорогие тонные заведения с гейшами. Европейцы долго путали их с гетерами, пока не зауважали, разобравшись, что гейша призвана услаждать ум и душу, но не тело. Стихи, музыка, каллиграфия, чайная церемония, сервировка – приложение сил гейш, которых очень мало, и все в возрасте, поскольку учиться надо, по сути, всю жизнь. Гейши приезжают на машинах, быстро проскальзывая в раздвижные двери; на улицах Гиона можно встретить и рассмотреть только их учениц – майко: тонкие, почти прозрачные фигурки с набеленными лицами, сохраняющими любезную бесстрастность, когда турист просит сфотографироваться рядом.
В традиционном городе – изысканная еда. Что естественно, коль скоро кулинария – такое же достижение культуры, как поэзия и живопись. Блюда здесь именно что поэтичны и живописны.
В Киото подают суши, завернутые в листья хурмы: сами листья не едят, но рыба и рис пропитываются тонким особым ароматом. Используются и листья бамбука, персика, гингко: аромат различается. Точнее, должен различаться, но к этому пониманию надо взмыть. Моя провожатая по Киото – аспирантка-славистка Казуми Китагава – привела меня в закусочную на “Философской тропе” по пути от храма Гинкакудзи к храму Нанзендзи, где суши тоже были завернуты. Развернув и попробовав, я сказал: “Эти совсем другие”, имея в виду, разумеется, форму листьев. Казуми восторженно отозвалась: “Я знала, что вы сразу определите! Конечно, вы услышали аромат гингко!” Ага, прям щас взял и услышал. Но кто меня осудит за то, что я трусливо промолчал, только закатил глаза в блаженстве. Гингко же!
Как с английским газоном: чтоб достичь такого качества, надо стричь и поливать, стричь и поливать – и так пятьсот лет. Постижение японцев, достижение их уровня – дело безнадежное.
При всем этом японцы едят много, часто и увлеченно – таков один из первых культурных шоков, переживаемых в стране. Лелеемой в мечтах и вроде бы обязательной Фудзиямы не видать – она все время в туманной дымке, а вот еда мозолит глаза с утра до вечера. Правда, умудряясь при этом не мозолить желудок: лаконизм в японской кухне главное – суши не щи. (Хотя есть и подобие щей – набэ и его вариации: суп с капустой и рисовой разновидностью спагетти.) Едят тут еще и громко: в простых закусочных, где подают бульон с гречишной или пшеничной лапшой, шум стоит, как у плотины. Этикет не только не запрещает, но и предписывает хлюпать: значит, вкусно.
Так делают японцы, а стало быть, стоит принять во внимание. Вот чему учит Киото – вере в традицию, даже чужую, даже странную.
Расширение мира нарушает устоявшуюся иерархию ценностей, а живот ближе к сердцу, чем голова. И легче привыкнуть к мысли о том, что есть не менее читающие страны, чем признать превосходство шведской водки, итальянских белых грибов, норвежской лососины. Но в кулинарном мировосприятии нет места комплексу государственной неполноценности, тут господствует комплекс основных человеческих чувств – вкуса, обоняния, осязания, зрения. Оставим слух идеологии. На гастрономической карте мира свои масштабы, они меняются, и маленькая Япония у берегов огромной Евразии становится все больше и больше.
Портвейн у камина
Крайний противоположный евразийский берег – Лиссабон. Он из тех немногих городов, которыми можно влюбленно увлечься. Не восхититься, не прийти в восторг, не полюбить даже, а именно испытать чувство влюбленности, приправленное нежностью и жалостью. Для столь интимной эмоции требуется неполное великолепие объекта. Некая изношенность, временная патина, признаки распада. Так бывают дороги потертый диван, поношенный халат, полинявшее платье.
Естественно, таких городов больше всего в Италии. “Естественно” – потому что из Италии все пошло, мы все оттуда. Даже те, кто не прочел ни одной книжки и не видал ни одной репродукции, в Италию не приезжают, а возвращаются. Таковы Венеция, Верона, Генуя, Мантуя, Перуджа. Там с первого раза возникает твердое убеждение, что здесь уже приходилось бывать. Без труда обходишься без путеводителя, а если возникают вопросы, их задаешь и получаешь ответы, не зная языка, – потому что жесты, потому что мимика, потому что улыбка. Потому что прапамять.
Италия в этом (как и во многих других) отношении – первая. Но не единственная. В Испании – Кордова, Толедо, Саламанка. Во Франции – Руан и Шартр. В Португалии – Лиссабон. Выбор произволен, и каждый назовет свое, но мотив един – негромкий, грустный, временами надрывный, лирический, сентиментальный. Под него не пританцовываешь, и хочется не столько подпевать, сколько подвывать – истово, но незаметно. Так звучит фадо.
Фадо – чисто португальское явление, сложное порождение песенного наследия африканских рабов, пропущенного сквозь заимствования из опыта мореплаваний и колонизаций, помноженного на европейский городской романс. Фадо можно было бы сопоставить с неаполитанской нотой в итальянской музыкальной культуре либо с цыганщиной в музыке русской. Но вряд ли стоит сопоставлять – лучше поставить диск Амалии Родригеш, ослепительной красавицы, умершей совсем недавно. Ее голос хотелось бы слышать всегда, если б не надобность зарабатывать деньги: что-что, а работать под фадо не предполагается.
Лиссабон – фадо в градостроительстве. Вернее будет сказать, в градоустройстве, потому что вставал Лиссабон, как всякий натуральный город, хаотично. Здесь был в XVIII веке свой преобразователь – маркиз де Помбаль, взявшийся перекраивать Лиссабон, почти уничтоженный землетрясением 1755 года. Помбалю удалось многое, но не все: словно сами по себе выросли кварталы Альфамы, скатывающиеся с холмов к реке Тежо (в своем течении по Испании – Тахо), широкой, как море. Повинуясь не верховным планам, а внутренним потребностям людей и их жилищ, пролегли улицы Байро-Альто – Верхнего квартала. В этих двух районах лучше всего слушать фадо, цедя за столиком портвейн. Собственно, эти районы и есть городское фадо.
Душевному декадансу томительных песен отвечает полураспад здешних зданий. Они – если не построены вчера – прекрасны.
Прежде всего – azulejos. Произносится – “азулежуш”. Это изразцы, шедшие в северных широтах на облицовку печей-голландок, а в Испании и Португалии – на все подряд. В Лиссабоне и Порту полно церквей, сплошь обложенных рядами азулежуш. В Альфаме и Байро-Альто глаз не оторвать от жилых домов, сверху донизу облицованных цветной плиткой дивного рисунка. Вся эта не виданная в иных местах красота помещается в контекст разрухи. Самой разрухи нет – речь, в конце концов, о столице современной европейской страны. Но есть изношенность, обшарпанность, траченность временем – то, что надобно городу, когда город из разряда не роскошных, а прелестных.
Лиссабон обаятелен и уютен, как все те же диван или халат. Оттого сюда можно и нужно приезжать зимой. В узких улочках среди пастельных стен – тепло. Еще тут хорошо зимой, потому что в это время лучше всего пьется выдающееся португальское изобретение – портвейн.
Ничего не придумано лучше для кресла у камина, чем рюмка выдержанного портвейна. Кто спорит, хорош и старый коньяк или виски single malt, но сколько выпьешь коньяка или виски? Особенно если ты – дама. Портвейн все-таки вдвое слабее градусами, а тонкостью и богатством букета не уступит ни одному напитку на свете.
Портвейну исторически не повезло: кажущаяся легкость подделки породила множество видов питья из разряда bormo-tukha, в просторечном обиходе называемых тоже портвейном. Благородству портвейна настоящего это не повредило, но подпортило его общественное реноме. В Португалии проникаешься ощущением величия этого напитка.
Несомненно, в стране пребывания нужно пить местные зелья. Не только потому, что там они лучше, но и потому, что случайностей в естественном отборе не бывает: алкоголь столь же органичная часть культуры, как музыка. Кайпиринья нигде не имеет смысла, кроме жарко-влажной Бразилии. Саке идет под сырую, а не под соленую рыбу. Прекрасное немейское вино я пил только в Греции – точно такое же по этикетке было куда хуже в других местах. Грузинские вина, особенно полусухие вроде киндзмараули, хванчкары, тетры, приемлемы лишь в Грузии. Лучший джин на свете – в Голландии, их джиневер под местную селедку и угря. Даже если не любишь сладкие вина, рюмка марсалы хороша под десерт в Сицилии.
Познание портвейна начинать надо постепенно, прогуливаясь, приближаясь. От Россио – центральной площади Лиссабона – пройти к причудливому сооружению из стальных кружев, которое называется Elevador Santa Justa. Этот лифт столетнего возраста поднимает из Нижнего города в Верхний. Оттуда кварталами Киадо – к кафе “Бразилейра”, сделав привал в его элегантном уюте. Кофе – национальная страсть португальцев, вполне объяснимая, если вспомнить, что они открыли Бразилию и веками владели ею.
У входа в “Бразилейру” на бронзовой скамье сидит бронзовый поэт Фернандо Пессоа, обожавший это заведение. Однако он перешел из телесного состояния в металлическое, заработав цирроз и все то, что образуется в человеке от огульного потребления напитков крепче кофе. Пессоа пил при этом изрядную фруктовую (из вишни или инжира) пакость ярких расцветок, а отнюдь не портвейн. Выбор, надо думать, определялся не столько вкусом, сколько карманом. Хороший портвейн дорог, но стоит своих денег, как платье от Лакруа или сапоги от Гуччи. На всякий случай не скажу, сколько мне стоила бутылка урожая своего года рождения.
Из “Бразилейры” мимо церкви Сан-Рок и парка с захватывающим видом на весь город – прямой путь на улицу Сан-Педро-де-Алькантара, где размещается основанный около семидесяти лет назад Институт портвейна. Сюда надо прийти, чтобы оценить масштаб явления. Прийти, разумеется, в сумрачный красивый бар на первом этаже, а не в лабораторию, где, наверное, тоже интересно и что-то такое разрабатывается, но в винном деле прогрессивнее всего – консерватизм: поменьше резких движений. Плавно достать бутылку, обтереть, очень-очень плавно открыть, еще плавнее налить, так же плавно (не залпом!) выпить. Не забыв перед этим погрузиться в плавную мягкость кресла – такова лучшая оболочка для пьющего портвейн. Если напротив камин – то это и есть Институт портвейна.
Здесь вам приносят винную карту толщиной с собрание сочинений Пессоа. Более трехсот наименований с описаниями. Тут, наконец, стряхивается наваждение памяти, в которой родиной портвейна запечатлелся Агдам, а не Португалия. На закуску можно попросить сыр, опять-таки не плавленый сырок юности, а нечто изящное типа bleu: французский рокфор, итальянскую горгонзолу, лучше всего – английский стилтон. Англичанам – фора. Без них не было бы портвейна, который когда-то назывался в Португалии английским вином.
Упрощенная схема историко-политэкономического процесса такова: Англия поставляла в Португалию шерсть и изделия из нее, загружаясь на обратный путь местным вином. Оно было дешевле французского, к тому же политические осложнения дважды побуждали Лондон вводить запрет на импорт вина из Франции. Но в холодной Англии любили выпить что-нибудь покрепче, чем сухое вино: ром, джин, виски. Все в том же кресле у того же камина. Из этой потребности главные винные агенты англичан – португальцы – три с лишним века назад создали крепленый (18–22 градуса) портвейн.
Недолгое брожение виноградного сока искусственно прерывается добавлением коньячного спирта в пропорции четыре к одному. Вино стоит в бочках до весны, а потом переправляется в город Порту, где уже зреет в погребах. Надо понять: как не бывает коньяка не из района французского города Коньяк (остальное – бренди), так портвейн бывает исключительно из винограда долины реки Дуро на севере Португалии. И исключительно тот, который созрел в погребах Вила-Нова-де-Гайа – окраины города Порту. Такую демаркацию провел два с половиной века назад реформатор маркиз де Помбаль, и только наши дни глобализации и внедрения евро внесли коррективы, расширив зону портвейна до бессмысленных пределов. Новшества не сбивают с толку подлинных ценителей, помнящих о том, что само имя вина указывает на Порту и его окрестности.
Когда-то бочки в Вила-Нова-де-Гайа возили по реке на специальных судах – рабело. Теперь рабело, пестрые и нарядные, стоят на приколе, рекламируя портвейновые компании, а раз в год состязаются на потеху туристам. В прочее время года турист бродит от погреба к погребу, нанизывая имена фирм: португальские – Fonseca, Borges, Ramos Pinto, Ferreira, английские – Sandeman, Taylor, Osborne, Graham. Англичане остаются главными потребителями портвейна. В нынешнем мире все перемешалось, раньше-то было просто: первосортное вино отправлялось в Англию и другие европейские страны, второй сорт шел в свою колонию, Бразилию, и в Россию, где морозы случались чаще, чем в Англии, а знатоки попадались реже.
Туриста водят по длинным галереям, рассказывая истории о том, как Нельсон чертил лордам адмиралтейства план Трафальгарской битвы на столе, окуная палец в портвейн. Турист-новичок узнает, что основных видов портвейна – три. Белый – сухой и пьется в качестве аперитива. После еды в кресло к камину подаются ruby (рубиновый) и tawny (рыжевато-коричневый). А к ним в идеале – стилтон с бисквитами. Лиссабонские знакомые советовали сопровождать tawny паштетом: попробовав, рекомендую тоже. Говорят, неплохо идет под сигару – не пробовал, не курю. И разумеется, хороший портвейн хорош просто так.
В известном смысле портвейн – по-мужски крепкий и по-женски нежный – можно счесть идеальным, универсальным напитком. Это вообще приближение к идеалу, в который можно попробовать погрузиться, из которого трудно, да и не хочется выходить: у камина под звуки фадо с рюмкой портвейна. Зимой в Лиссабоне.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































