Текст книги "Шекспир. Биография"
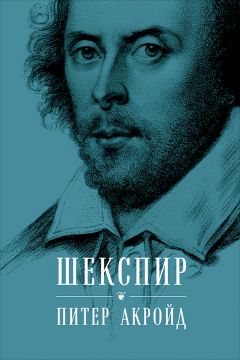
Автор книги: Питер Акройд
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Часть III
«Слуги лорда Стрейнджа»

Глава 20
Итак, идем на Лондон[136]136
«Генрих VI», часть вторая, акт IV, сцена 3. Пер. Е. Бируковой.
[Закрыть]
Человеческая энергия здесь била ключом. Шекспиру непременно нужно было попасть сюда. Ученые и биографы спорят о точной дате прибытия Шекспира в Лондон, но пункт назначения сомнений не вызывает. Другие в те годы тоже отправлялись из Стратфорда в столицу. Его современник Ричард Филд ушел из Королевской Новой школы, с тем чтобы наняться в подмастерья. Роджер Локк, сын перчаточника Джона Локка, тоже стал подмастерьем в столице. Ричард Куини стал лондонским купцом, так же как его двоюродный брат Джон Садлер. Другой уроженец Стратфорда, Джон Лейн, совершил путешествие из Лондона в Левант[137]137
Общее название стран восточной части Средиземного моря.
[Закрыть] на торговом судне. Все они согласились бы со словами: «У домоседа доморощен ум»[138]138
«Два веронца», акт II, сцена 1. Пер. М. Кузмина.
[Закрыть]. В шекспировских пьесах молодые люди часто горячатся и сетуют на то, что их «держат дома, в деревне»[139]139
«Как вам это понравится», акт I, сцена 1.
[Закрыть]; им хотелось бы сбежать и жить свободно, повинуясь своим инстинктам и честолюбию. Гёте сказал однажды: «Таланты образуются в покое, / Характеры – среди житейских бурь»[140]140
«Торквато Тассо». Пер. С. Соловьева.
[Закрыть]. Случай Уильяма Шекспира тем не менее единственный в своем роде. Никто из современников не уезжал, бросив жену и детей. Было почти немыслимо, чтобы молодой человек оставил свою только что образовавшуюся семью. Так не поступали даже в семьях аристократов. По меньшей мере это может объясняться непоколебимой решимостью и целеустремленностью. Шекспир должен был уйти.
Он был весьма практичен. Поэтому едва ли он ушел, не определившись, куда идет и зачем идет. Не может быть, чтобы он отправился в Лондон искать счастья, повинуясь внезапному порыву. Кое-кто выдвигал предположение, что он бежал от несчастливого брака. В пользу этой версии нет доказательств. И все-таки можно усомниться, что он был вполне счастлив в семье, иначе ему бы вряд ли пришло в голову ее оставить. С чего бы человеку, который всем доволен, уходить от жены и детей ради неизвестного будущего в незнакомом городе? Здравый смысл подсказывает, что он был беспокоен и неудовлетворен. Какая-то сила, более мощная, чем семейные узы, влекла его вперед. Он знал, уезжая, что делать и как. Вероятно, он мог ехать по приглашению какой-нибудь труппы, а заработать деньги в качестве актера было куда реальнее, чем оставаясь помощником провинциального адвоката – это было единственное, чем он мог заниматься в Стратфорде. Рассказывали про людей, которые «приехали в Лондон нищими, а со временем невероятно разбогатели». Если в Лондоне можно найти средства содержать семью, значит, надо отправляться в Лондон. В жизни великих людей тем не менее присутствует некая модель, по которой выстраивается их судьба. Продвигаясь по жизни, они непонятным образом попадают в нужное время и место. Шекспир не мог состояться без Лондона, он втайне осознавал это и потому действовал столь решительно. Борис Пастернак в «Замечаниях о переводах Шекспира» писал, что Шекспира в то время вела «необыкновенно определенная звезда», в которую он безоговорочно верил. Можно сказать и так.
Джеймс Джойс заметил, что «изгнание из сердца, изгнание из дома»[141]141
«Улисс», часть II, эпизод 9.
[Закрыть] – преобладающий мотив шекспировского творчества. Такое восприятие скорее подходит самому Джойсу, но в какой-то степени отражает истину. Шекспировская «звезда» ведет его прочь из дома, но естественно при этом оглядываться назад на то, что потерял. Джойс, уехав из Дублина, мог писать только о нем. Не было ли у Шекспира того же по отношению к лесам и полям Ардена?

В Лондон вели две дороги. Та, что короче, шла через Оксфорд и Хай-Уиком, другая – через Банбери и Эйлсбери. Джон Обри связывает Шекспира с деревенькой, лежащей сбоку от основного тракта, ведущего в Оксфорд. Предполагается, что там, в Грендон-Андервуде, драматург нашел прототип Кизила[142]142
Полицейский пристав из «Много шума из ничего».
[Закрыть]. Но любой разговор о прототипах несостоятелен. В последующие годы Шекспир близко ознакомится с лесистыми холмами Чилтерна, с деревнями и торговыми городками в долине реки Грейт-Уз. Современные дороги пролегают почти там же – только пейзаж изменился.
Будучи практичным человеком, Шекспир должен был тронуться в путь поздней весной или в начале лета. Это хорошее время для путешествий. Он мог идти пешком, в компании попутчиков, чтобы отбиваться от грабителей, а мог воспользоваться лошадиной упряжкой. Владелец одной такой упряжки, Уильям Гринуэй, был соседом Шекспира по Хенли-стрит; на своих лошадях он отвозил в Лондон сыр и соленую свинину, овечьи шкуры и льняное масло, шерстяные юбки и чулки.
В столице все это обменивалось на городские товары – серебро и специи. Путь пешком занимал четыре дня; на лошадях добирались всего за два.
И вот, достигнув города, Шекспир увидел облако дыма. Услышал беспорядочный шум, перемежающийся колокольным звоном. Вдохнул лондонский запах. Лондон можно было учуять по этому запаху в радиусе 25 миль. Одна дорога, через Хайгейт, шла на север, но другой, более прямой путь вел в самое сердце столицы. Мимо деревеньки Шеперд-Буш, мимо карьеров по добыче гравия в Кенсингтоне, через ручьи Вестберн и Мэриберн до виселицы в Тайберне. Здесь дорога раздваивалась, одна ветка шла к Вестминстеру, другая – к самому Сити. Если, что вероятнее всего, Шекспир выбрал своей целью Сити, он спустился вниз по Оксфорд-роуд к церкви в деревне Сент-Джайлс-ин-зе-Филдс. Окрестности Лондона впервые предстали перед его глазами. Говоря словами историка Джона Стоу, взятыми из его «Описаний Лондона», вышедших в 1598 году, «множество прекрасных зданий, меблированные комнаты для джентльменов, гостиницы для путешественников и им подобных, почти вплоть до Сент-Джайлс-ин-зе-Филдс». Но пригород слыл также рассадником беззакония, где «великое множество бродяг, распутников и людей без определенных занятий находило себе прибежище в шумных, беспорядочных бедных домишках и нищих лачугах, конюшнях, гостиницах, сараях, превращенных в жилище, тавернах, кегельбанах, игорных домах и борделях». Молодой Шекспир никогда прежде не видел ничего подобного; должно быть, он нашел все это, используя слова Шарлотты Бронте, попавшей впервые в Сити, «глубоко захватывающим». Дальше дорога шла к пивным Холборна, мимо лавок и домов со съемными квартирами, скотных дворов и гостиниц, к страшной тюрьме Ньюгейт. Это были ворота в Лондон, «цветок всех городов»[143]143
Слова шотландского поэта XV в. Уильяма Данбара.
[Закрыть]. Путешественник, впервые попавший в Сити, не мог не чувствовать глубокого волнения от всего, что его окружало. Город поражал силой и энергией; в его воронку втягивалось все подряд. Вокруг, в толкотне и давке, вились уличные торговцы, умолявшие купить у них что-нибудь. В городе стоял непрекращавшийся шум – споры, ссоры, крики разносчиков товаров, уличные приветствия, а еще бил в нос запах навоза, отбросов и пота. Купцы стояли в дверях своих лавок, ковыряя лениво в зубах; внутри на табуретках сидели их жены, готовые торговаться с покупателями. Подмастерья у мастерских зазывали прохожих. Домовладельцы частенько устраивались у входа в дом, чтобы посплетничать или обменяться колкостями с соседями. Частной жизни в нашем понимании слова тогда не существовало.
Повсюду тянулись ряды лавок – каждый со своим товаром: соленьями, сырами, перчатками, специями. Каменные ступени вели в полутемные подвалы, где стояли мешки с пшеницей и солодом. Старухи торговки копошились над разложенными на земле узелками с орехами или сушеными овощами. У разносчиков товаров на шее болтались деревянные лотки. По улицам, битком набитым людьми, проталкивались носильщики с тюками на спине – казалось, им нет числа. Дети, занятые наравне со взрослыми, катили бочки или зазывали прохожих. Люди жевали на ходу пироги или жареную птицу, бросая под ноги обглоданные кости. Сотни бродячих певцов как женского, так и мужского пола – продавцы «песенного товара» – демонстрировали свое умение, стоя на углах улиц или взобравшись на бочки. Там были проулки, ведущие в никуда, сломанные ворота и кособокие дома, нависшие над улицей, откуда ни возьмись возникающие ряды ступеней, зияющие провалы и потоки грязи и мусора. Это место обживалось людьми более полутора тысяч лет и несло в себе признаки старости и разложения. Джон Стоу любил отыскивать в улицах шестнадцатого столетия, по которым ходил, черты ушедшего времени; по форме и складу это был все еще средневековый город, со старыми стенами и надвратными домами, амбарами и часовнями. Еще сохранялись границы монастырских владений, уничтоженных по указанию Генриха VIII или приспособленных к другим нуждам. Устоял против разрушения Савойский дворец, свидетель французских войн Эдуарда III.
Дворец графа Уорика в Доугейте, между речкой Уолбрук и Темзой, все еще стоит. Над городом возвышался Тауэр, где действие пьес Шекспира происходит куда чаще, чем в любом другом здании. Стоун-Хаус на Ломбард-стрит был известен как Кинг-Джонс-Хаус. Существовал и Кросби-Холл, где Ричард III должен был короноваться. Не удивительно, что шекспировские исторические пьесы задуманы в самом сердце города, там, где он жил и работал. Но чудо Лондона конца шестнадцатого столетия заключалось в его самообновлении. Его напор и энергия подпитывались от непрерывного притока молодости. Было подсчитано, что половине городского населения было меньше двадцати лет. Именно поэтому город жил так шумно, напряженно, энергично. Никогда после не бывал он столь молодым. Десять процентов населения составляли подмастерья, а они славились веселым нравом и необузданностью. Лондонцев часто сравнивали с пчелами, которые легко собираются в рой и инстинктивно действуют сообща.
В то же время продолжительность человеческой жизни в этом полнокровном городе, будь то бедный приход или богатый, была очень низкой. В дневнике начала шестнадцатого века читаем, что автор «достиг сорокалетнего возраста, за порогом которого начинается старость». Знание того, что жизнь будет коротка, должно было отражаться на поведении многих лондонцев. Им выпадал краткий миг существования среди царивших повсюду болезней и смерти. В такой обстановке жизнь становится более динамичной. Это достойная почва для драмы. Писатели-елизаветинцы накапливали опыт с большим рвением и скоростью. Они были энергичнее, острее, ярче, чем их современники в любой части королевства. При мысли о правлении Елизаветы часто представляется стареющая королева, окруженная своевольными, безрассудными мальчишками; как ни странно это выглядит, такова часть подлинной исторической картины. Мальчишки – и девчонки – наполняли улицы Лондона, покупали и продавали, болтали и дрались между собой.
Вот почему это время справедливо видится эпохой авантюристов и прожектеров, мечтателей с не знающими границ замыслами. Основание акционерных компаний и развитие колониальных предприятий, путешествия Мартина Фробишера и Фрэнсиса Дрейка были частью той же стремительной активности. Это был мир молодых, в котором воодушевление и честолюбие могли завести куда угодно и как угодно. И Шекспир принадлежал ему.
Глава 21
Дух времени научит быстроте[144]144
«Король Иоанн», акт IV, сцена 2. Пер. Н. Рыковой.
[Закрыть]
Город быстро расширялся. Он притягивал и бедных и богатых, иммигрантов и крестьян. Честолюбивые юные провинциалы пришли в Судебные инны, в то время как дворянство заседало в Королевском суде в Вестминстере. «Лондонские сезоны» дворян и знати начались между 1590 и 1620 годами. Но в Лондоне было и больше нищих, чем во всех остальных частях страны, вместе взятых. Город бурно застраивался и перестраивался, дома для сдачи внаем появлялись на каждом свободном кусочке земли. Декларации 1580 и 1593 годов пытались сдержать строительство новых зданий, но с таким же успехом можно было остановить морской прибой.
Дома и лачуги, сараи и амбары строились уже не только вдоль улиц, но и в садах и внутренних дворах, а имеющиеся дома дробились на все более мелкие жилища. Дома ставились даже на кладбищах. Население, которое в 1520 году насчитывало пятьдесят тысяч человек, к 1660 году увеличилось до двухсот тысяч. Потрясение от новизны, испытанное молодым Шекспиром, было потрясением для великого множества людей, сбившихся в кучу в безбрежном потоке жизни.
Поэтому город разрастался далеко за свои пределы, на восток и на запад. Дорога между Лондоном и Вестминстером была также переполнена, как и улицы самого Сити: мусор, повозки, телеги, навьюченные лошади, фургоны, четырехколесные экипажи. Некоторые улицы, слишком узкие для наплыва транспорта, могли стать неожиданностью для Шекспира: главные улицы Стратфорда были шире. Лондон не имел себе равных. Другого такого города в Англии не было. Это породило в лондонцах чувство собственной исключительности. Нелепо думать, что их сознание претерпело такую внезапную перемену, – большинству горожан было не до подобных рассуждений, но они подсознательно понимали, что им выпало участвовать в жизни, какой доселе не бывало. Лондон не был больше средневековым городом. С ним произошли удивительные превращения. Он стал новой формацией, состоящей из горожан, то есть людей, связанных между собой особыми, городскими узами. Это была среда жизненно важная для шекспировских пьес. Город создавал сумятицу и этой сумятицей жил. Томас Деккер спрашивал в своей «Честной потаскухе»: «Что толку дивиться переменам? Нет ничего постоянного». Родовая знать постепенно сдавала позиции мелкому дворянству и торговому сословию. Все меньше значили родственные связи, все больше – общественные. На смену клятвенным обязательствам приходили более формальные отношения. Это формулировалось как переход от «родового общества» к «гражданскому». Для определения статуса елизаветинского горожанина костюм имел решающее значение. По внешности легко судить о положении, так же как о здоровье. Среди всех групп населения – помимо пуритан и самых солидных представителей купеческой аристократии – в одежде наибольшее значение придавалось яркости или оригинальности цвета и, в зависимости от материального достатка, изобилию мелких деталей, украшавших каждую вещь. Так, модно было носить по огромной шелковой розе на каждом ботинке. По одежде человека можно было определить род его занятий, даже если это был уличный разносчик. Проституток можно было опознать по синим крахмальным воротникам. Подмастерья носили синие плащи зимой и синие блузы летом; им также полагались синие штаны, белые полотняные чулки и шапки. Нищие и бродяги одевались так, чтобы пробудить жалость и получить подаяние. В театрах же гораздо больше денег уходило на костюмы, чем на жалованье драматургам и актерам. В этом тоже проявлялось ребячество города. Сам город обретал театрализованную форму все больше и больше. Лондон был рассадником драматической импровизации и зрелищных представлений, от ритуального покаяния предателя у эшафота до шествий скоморохов и торговых гуляний у здания Королевской биржи. Это был мир Шекспира.
Город превратился в площадку для зрелищ, где выставлялась напоказ вся его красочная жизнь. В этой праздничной обстановке возводились арки и ставились фонтаны, превратившие Лондон в движущуюся декорацию; члены разнообразных гильдий и советов, обладатели рыцарского достоинства и купцы, каждый в своем платье с собственными эмблемами. Устанавливались специальные платформы, где представляли живые картины. Те, кто смотрел и кто участвовал в этом непрерывном шоу, не различались между собой. Одна и та же всепоглощающая театральность горела чистым ярким пламенем в жизни и в искусстве. В ней находили выход мощь и богатство города. Тот же дух елизаветинского стиля отмечает историк: «Он сознательно стремился к великолепию и видел в великолепии соединение всех добродетелей», «победно демонстрируя свое мастерство», бесконечное в своем разнообразии: «он не знает усталости; он требует отклика и вызывает приятные ощущения; там нет места умеренности и порядку».
В каком-то смысле это можно отнести и к творчеству Шекспира. Преобладание броских красок, замысловатый рисунок, все рассчитано на изумление и любопытство – это характерно и для шекспировских пьес. Какова бы ни была культурная эпоха, ее черты одинаковы во всех проявлениях.
Такое великолепие особенно хорошо подходило королевской власти. Елизавета I провозгласила: «Мы, государыни, подвизаемся на подмостках мира, на виду у всего мира»[145]145
Цит. по «Марии Стюарт» С. Цвейга. Пер. Р. Гальперина.
[Закрыть]. Это отголосок слов Марии, королевы Шотландской, объяснявшей своим судьям, что «мировая сцена шире, чем английское королевство». Шекспир, с его безусловным драматургическим чутьем, населил эту сцену монархами и придворными. Это мир его исторических пьес, где так важны ритуалы и обряды. Но в этом кроется определенная опасность. Актер может быть на сцене королем или королевой. Но что если сам монарх не более чем актер? Этот деликатный вопрос затронут в «Ричарде II» и «Ричарде III».

В то время как десакрализованная церковь лишилась свечей и икон, городское общество стало в гораздо большей степени обрядовым и зрелищным. Это крайне важно для приближения к пониманию шекспировского гения. Он расцвел в городе, где реальность воспринималась главным образом через театральное действо. Кафедру перед собором Святого Павла, известную как «крест святого Павла»[146]146
По месту стоявшего там ранее креста средневекового монастыря.
[Закрыть], именовали «истинной сценой государства», где священник играет свою роль, а Джон Донн с кафедры провозгласил, что «этот Город – большой Театр». Это же чувство отражается в наблюдении драматурга начала этого периода Эдварда Шарфама: «Город – это комедия с ног до головы, и ваши галантные кавалеры – актеры». Как Нью-Йорк в сравнительно недавнее время стал городом кинематографическим, знакомым в первую очередь по фильмам и телевидению, так Лондон был в первую очередь городом театральным. Успех театральных спектаклей Лондона, будь то в «Глобусе» или в «Куртине», не имел себе равных ни в одной из европейских столиц. Начиная с постановки Роберта Уилсона 1581 года «Трех лондонских леди», появилось несчетное количество пьес, где действие разворачивалось в Лондоне.
Театр для Лондона был новшеством, театральные здания только начали возводить в то время. Глядя на актеров, люди учились, как себя вести, как разговаривать, как кланяться; публика аплодировала монологам. С помощью драмы до зрителей можно было донести какую-то политическую или социальную информацию. Один священник жаловался, что «в наши дни спрос на пьесы так велик из-за нечестивцев, утверждающих, что находят в театре такое же назидание и пример, что и в проповеди». Большинство англичан черпали духовные наставления и поучительные истории в театральных мистериях и морализаторских пьесах. На них опирались в поисках руководства к действию. Они не были развлечением в современном понимании этого слова.
Это было глубинное восприятие жизни как игры. Реплика Жака из «Как вам это понравится?» «Весь мир – театр…» стала крылатым выражением эпохи Ренессанса. Однако в Лондоне шестнадцатого столетия этот трюизм приобретает еще более мощный резонанс. Для одних такое слияние жизни и театра служило источником радости и воодушевления; других, как герцогиню Мальфи в мелодраме Уэбстера, это скорее печалило, чем забавляло. Как бы там ни было, это согласуется с тем, что можно назвать «лондонским видением мира». А именно его несет в себе шекспировский театр. Если жизнь – пьеса, то что есть пьеса, если не жизнь, возведенная на подмостки? Сколь ни причудлив выдуманный сюжет, он может вместе с тем оставаться глубоко жизненным.
Что же представляло собой лондонское мироощущение? В нем соединялись насмешка и сатира, разрывы и перемены. Оно включало в себя жестокие зрелища: например, привязанного к столбу медведя, затравленного до смерти собаками. Оно было путаным и переменчивым, неся в себе комедию и трагедию, мелодраму и бурлеск. Этот жизненный фон Вольтер назвал «чудовищными фарсами» Шекспира. Часто все зависело от стечения обстоятельств и случайных встреч. Это было ослепительно: Уолт Уитмен считал, что шекспировские краски «слишком густые». За этим стояло и безоговорочное равенство. Без королевских мантий и воинских одежд актеры равны между собой. Природа сцены такова, что королева и шут находятся на ней в одном пространстве и в одно и то же время. Как в более позднюю эпоху сказал Хэзлит: «Она [сцена] уравнивает возможность с реальностью, великое с малым и далекое с близким». Таким Шекспир увидел Лондон.
Глава 22
Немало в людных городах живет зверей и вежливых чудовищ[147]147
«Отелло», акт IV, сцена 1. Пер. М. Лозинского.
[Закрыть]
Гости Лондона бывали озадачены свободными отношениями между представителями разного пола. Эразм отмечает, что «куда бы ты ни пришел, тебя встречают поцелуями; и уходя, перецелуешься на прощанье со всеми». В конце шестнадцатого и начале семнадцатого столетия было привычно видеть женщин в нарядах с открытой грудью.
Соседство с борделями и игорными домами всегда было предметом обсуждения моралистов; эти заведения строились под строгим наблюдением властей, за городскими стенами или на южном берегу Темзы, но между ними существовала довольно тесная связь. Владельцам игорных домов, среди них весьма уважаемым Хенслоу и Аллейну, принадлежали также и бордели. Жену Аллейна провезли по городу в телеге за то, что она была связана с домом свиданий. В окрестностях Лондона было более сотни публичных домов; на их вывесках, как сказано у Шекспира, изображали слепого Купидона. Около театров были «садовые дорожки» и «садовые аллеи», где собирались проститутки, молодые женщины со всей Англии. В одном из судебных документов того времени говорится, что две девушки, современницы Шекспира, прибыли из Стратфорда-на-Эйвоне на запрещенный промысел. Налицо некоторая общность между театрализацией и сексуальной распущенностью, оттого, быть может, что и в том и в другом видится временный выход из обыденности окружающего мира. Как театр, так и бордель предлагают вырваться из пут условностей этики и общественной морали. Пьесы Шекспира полны непристойностей и сексуальных намеков. Он учитывал вкусы толпы.
Вспышкам болезней не было конца. Игорные дома закрылись во время эпидемии чумы из-за того, что считались главными рассадниками заразы. Волны эпидемии накрывали с головой городскую толпу жесточайшим образом. В 1593 году от чумы умерло более 14 процентов населения, а заразилось вдвое больше. Болезнь тесно связывали с сексом. Явление чумы приписывалось «содомским грехам». Зараза ассоциировалась с характерным городским запахом, так что Лондон вдобавок к разврату стал рассадником смерти. Здоровыми оставались немногие. В самом воздухе поселились смерть и тревога. На фронтисписе пьесы Томаса Деккера в 1606 году стояло: «Семь смертных грехов Лондона въехали на семи каретах через семь городских ворот». Во всех шекспировских пьесах так или иначе присутствуют болезни в тысяче разных форм: озноб и лихорадка, жар и паралич. И недуг всегда связан с дыханием.
Бедняки и бездомные бродяги составляли ощутимую часть лондонских жителей. Они – тень, которую отбрасывает Лондон. В то время беднота составляла 14 процентов населения. Некоторые кое-как зарабатывали на хлеб, подметая улицы, разнося воду или служа привратниками. Были профессиональные нищие, которых в большинстве случаев изгоняли из города; за появление там во второй или третий раз им грозила смертная казнь. Были чернорабочие, нанимавшиеся за маленькую плату строить или штукатурить. Были просящие милостыню бездомные. Их, «голодающих» и «изнуренных», встречаем в «Ричарде III». Шекспир имел точное представление об этих несчастных, которые на заднем плане достаточно уместно оттеняют его пьесы; но, в отличие от памфлетистов и богословов, он не обличает свое время. Ужасное положение бедноты урывками предстает, например, в «Кориолане», но бесстрастно – без выражения жалости либо презрения.
Наличие этих «отбросов общества», изгоев, которым было нечего или почти нечего терять, в большой степени стимулировало развитие преступности. Между 1581 и 1602 годами зафиксировано 35 серьезных нарушений порядка.
Это были «голодные бунты», стычки между подмастерьями и членами Судебных иннов, угрозы, направленные против иммигрантов, или «чужаков». В первой части «Генриха IV» король обвиняет «непостоянных, недовольных нищих» и «бедняков, что жадно / Дней неурядиц и смятенья ждут»[148]148
Акт V, сцена 1. Пер. В. Морица и М. Кузмина.
[Закрыть].
Конечно, в городе, где мужчины обычно носили кинжалы или рапиры, подмастерья ходили с ножами, а у женщин всегда были наготове шила или длинные булавки, не прекращалось насилие. Кинжалы носили на правом бедре. Самому Шекспиру должно было быть привычно носить рапиру или кинжал. Случаи вооруженного нападения разбирались шерифами не реже, чем случаи воровства или завышения цен. Банды уголовников, трудноотличимые от банд бывших солдат, держали в страхе некоторые районы города, такие как Минт близ Тауэра и Клинк в Саутуорке.
За свою жизнь Шекспир изучил город очень хорошо. Он жил в разное время в Бишопсгейте, Шордиче, Саутуорке и в Блэкфрайерз. Его хорошо знали соседи и прихожане местной церкви, узнавали в лицо театралы, он ни в коем случае не оставался неизвестен. Он знал книжные лавки при соборе Святого Павла и на Патерностер-роу[149]149
Традиционная книжная улица в Лондоне; название получила от молитвенников, продававшихся в лавках: Pater noster – «Отче наш» (лат.).
[Закрыть], на титульных листах его пьес стоит около шестнадцати названий мест, где они продавались, от лавки Фокса близ Сент-Остин-гейт до Уайт-Харта на Флит-стрит. Он знал таверны, где продавалось рейнское и гасконское вино, и постоялые дворы, где можно было выпить пива и эля. Знал харчевни и дома для приемов, вроде «Олифанта» в Саутуорке и таверны Марко Луккезе на Харт-стрит. Знал Королевскую биржу, где летом по воскресным дням давались бесплатные концерты. Знал поля к северу от города, где соревновались лучники и борцы. Шекспир знал леса, окружавшие город, и когда в его пьесах герои встречаются где-нибудь в лесу, публике, скорее всего, представлялись лондонские окрестности. Он также очень хорошо и всесторонне изучил Темзу. Ему постоянно приходилось пересекать ее, это был для него основной транспортный путь. Она была глубже и шире, чем сейчас. В ночной тишине можно было отчетливо слышать, как вода бьется о берега. «Говорю тебе, ты упустишь прилив. А если упустишь прилив, так упустишь поездку», – говорит Пантино в «Двух веронцах»[150]150
Акт II, сцена 3. Пер. В. Левика.
[Закрыть]. Шекспиру не было нужды каждый раз упоминать Лондон: это суровая колыбель всего его творчества.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































