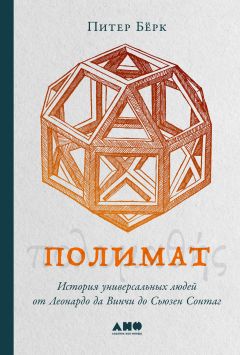
Автор книги: Питер Бёрк
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Полиматы под шквалом критики
Пожалуй, сейчас будет полезно вернуться к полиматам, упомянутым в этой главе, и на этот раз посмотреть не на их достижения, а на их слабые стороны. Как мы видели, критическое отношение к полиматии старо, как Древняя Греция, но оно усиливается в конце XVII – начале XVIII века, и это тоже признак кризиса.
Гилберт Бёрнет писал Лейбницу, что «очень часто те, кто занимаются сразу многими вещами, слабы и поверхностны во всех них» (Лейбница он исключал из этого обобщения). Самого Бёрнета тоже критиковали за этот недостаток. Он «задерживался в одной из дисциплин ровно до того момента, когда получал о ней некоторое представление», предпочитая «казаться знающим многие вещи, а не какую-то одну, но в совершенстве»[291]291
Бёрнет цит. по: Antognazza, Leibniz: An Intellectual Biography, 559; John Cockburn, A Specimen of Some Free and Impartial Remarks occasion'd by Dr Burnet's History of His Own Times (London, 1724), 27–28, цит. в: Helen C. Foxcroft (ed.), Supplement to Burnet's History of His Own Time (Oxford, 1902), 456n.
[Закрыть]. В свою очередь, Ньютон осуждал Гука, поскольку тот «не делает ничего, а только притворяется и хватается за все подряд», вместо того чтобы приводить доказательства своих гипотез[292]292
Цит. по: Lisa Jardine, The Curious Life of Robert Hooke (London, 2003), 6.
[Закрыть].
Virtuosi, как и «антиквары», коллекционеры с более узкой специализацией, тоже иногда подвергались критике за то, что в погоне за деталями упускали истинное знание. Например, Ганса Слоана, успешного лондонского врача, обладавшего огромной и разнообразной коллекцией (включавшей, в частности, 32 000 медалей и 50 000 книг), называли «магистром обрывков, подхваченных то здесь, то там или вычитанных из той или иной книги, причем все это перемешалось у него в голове»[293]293
Walter E. Houghton, 'The English Virtuoso in the Seventeenth Century', Journal of the History of Ideas 3 (1942), 51–73; о моде: Krzysztof Pomian, 'Médailles/coquilles=érudition/philosophie', Transactions of the IVth International Congress on the Enlightenment 4 (1976), 1677–1705; Delbourgo, Collecting the World, 164. Фраза о «магистре обрывков» принадлежит современнику Слоана, юристу Уильяму Кингу.
[Закрыть]. Иными словами, Слоан собирал знания и факты тем же способом, что и материальные предметы.
Синдром Леонардо
Многие полиматы страдали от того, что можно назвать синдромом Леонардо. Как мы видели, Леонардо был печально известен тем, что брался сразу за много проектов, но мало что доводил до конца. В принципе, он был «ежом», поскольку видел связи между самыми разными областями знаний, но на практике вел себя как «лис», распыляя свои силы. То же самое можно сказать о Пейреске. Гассенди отмечал, что разнообразие интересов его друга и стремление узнавать все больше и больше мешало ему даже просто начать писать, не говоря уже о завершении конкретных начинаний. Лейбниц критиковал другого полимата, Иоганна Иоахима Бехера, называя его «занимающимся слишком многими вещами» (polypragmon)[294]294
Pamela H. Smith, The Business of Alchemy: Science and Culture in the Holy Roman Empire (Princeton, NJ, 1994), 14.
[Закрыть]. Кирхер тоже пытался делать слишком много и как-то жаловался на чрезмерную занятость, из-за которой не знал, за что хвататься: «Я не знаю, на какую дорогу свернуть» (ut quo me vertam nesciam)[295]295
John Fletcher (ed.), Athanasius Kircher und seine Beziehungen zum gelehrten Europa seiner Zeit (Wiesbaden, 1988), 111.
[Закрыть].
Кажется, даже Лейбниц ощущал переутомление от своих разнообразных интересов. Оборотной стороной энтузиазма, с которым он брался за разные начинания, было их свойство «расти как снежный ком, достигая огромных размеров»[296]296
Antognazza, Leibniz: An Intellectual Biography, 232 (см. также 325).
[Закрыть]. Его история гвельфов, например, не ограничилась Средневековьем, как автор планировал вначале, а разрослась вспять, до тех времен, которые впоследствии стали называть «доисторическими». Отвечая на вопрос о своих замыслах, Лейбниц устало писал другому полимату, Плациусу: «Я стремился ко многому, но ничего не довел до совершенства и ничего не закончил». Спустя двадцать лет, в письме к тому же Плациусу, он заявил: «Я зачастую не знаю, за что взяться в следующий раз». Другому своему корреспонденту он жаловался на то, что его внимание «разрывается между слишком многими вещами»[297]297
Там же, 171, 321.
[Закрыть].
Фигуры меньшего масштаба сталкивались с той же проблемой. Virtuoso Джон Ивлин, например, задумал, но не закончил историю ремесел и энциклопедию садоводства. Роберта Гука называли лондонским Леонардо в хорошем смысле слова, но можно утверждать, что и он страдал от одноименного синдрома. Даже благожелательно настроенный биограф описывал Гука как человека, который «имеет привычку браться за слишком многое» и «чья разносторонность обрекала его всегда бить чуть-чуть мимо цели»[298]298
Jardine, Curious Life, 3, 22.
[Закрыть].
Достижения Кристофера Рена, друга Гука, безусловно, очень весомы (среди них собор Св. Павла), но и у него были незаконченные проекты, в частности трактат об архитектуре. В одном исследовании, посвященном вкладу Рена в математику, он назван «дилетантом», которому «разнородность интересов помешала достичь высот, достойных его таланта»[299]299
Tinniswood, His Invention So Fertile, 246; Derek T. Whiteside, 'Wren the Mathematician', Notes and Records of the Royal Society of London 15 (1960), 107–11, at 107.
[Закрыть]. Мексиканский полимат Карлос де Сигуэнса-и-Гонгора, несмотря на свои интеллектуальные амбиции (или именно из-за них), «не смог опубликовать ничего, кроме эпизодических памфлетов». Биограф Луиджи Марсильи отмечает «необычайную широту его интересов», но при этом пишет, что иногда он «внезапно терял всякий интерес к одной работе и переключался на какую-то другую»[300]300
David Brading, The First America (Cambridge, 1991), 393; John Stoye, Marsigli's Europe (New Haven, CT, 1994), viii, 25.
[Закрыть].
Несмотря на их замечательные достижения, гиганты научного мира XVII столетия могут рассматриваться как своего рода лакмусовая бумажка, выявляющая проблемы, которые со временем будут становиться все более серьезными. В ответ на эти проблемы на первый план в XVIII и в первой половине XIX века вышел более ограниченный идеал универсального знания: идеал литератора-интеллектуала (man of letters).
4
Эпоха интеллектуалов-литераторов
1700–1850
Один из ведущих ученых, упомянутых в предыдущей главе, Пьер-Даниэль Юэ, в старости размышлял над тем, что считал упадком учености: «Сейчас я не знаю почти никого, кто мог бы называться настоящим ученым». Более того, он продолжает: «Некоторые люди кичатся своим невежеством, высмеивают эрудицию, а ученость называют педантизмом»[301]301
Pierre-Daniel Huet, Huetiana (Paris, 1722), 1–2.
[Закрыть]. Сходным образом ученый более позднего поколения Джамбаттиста Вико, о котором речь пойдет ниже, в письме от 1726 года жаловался на «истощение» европейской науки во всех ее областях (per tutte le spezie delle scienze gl'ingegni d'Europa sono già esausti). В поддержку этих слов отметим, что во времена Вико в его родном городе Неаполе научные труды на латыни подешевели более чем вдвое[302]302
Giambattista Vico, letter to the French Jesuit Édouard de Vitry, in Opere, ed. Roberto Parenti, 2 vols. (Naples, 1972), vol. 1, 452, 454.
[Закрыть].
Ученые часто жалуются на упадок знаний, но в данном случае есть и другие подтверждения серьезного изменения интеллектуального климата на рубеже XVIII столетия. Он становился все менее благоприятным для полиматов.
XVIII век
Одним из таких признаков было ухудшение репутации двух исполинов, о которых шла речь в предыдущей главе, Улофа Рудбека и Афанасия Кирхера, в чьих интеллектуальных построениях обнаружились серьезные изъяны, подобные «глиняным ногам» колосса, описанного в Книге пророка Даниила. Лейбниц, например, заявил, что при всем уважении к уму и учености Рудбека он «не может одобрить многие из его идей». Он утверждал, что этимологические заключения Рудбека часто были безосновательными, и однажды пошутил, что французский ученый Поль-Ив Пезрон в своем труде о происхождении кельтов, «возможно, немного рудбекизировал» (nonnihil Rudbeckizet)[303]303
Louis Davillé, Leibniz historien (Paris, 1909), 407, 522–523.
[Закрыть]. Идеи, высказанные Рудбеком в его «Атлантике», критиковались шведскими коллегами еще при жизни ученого, а после смерти его репутация пострадала еще больше. Его теория о шведской Атлантиде сделалась мишенью для сатиры[304]304
К числу критиков относились Йохан Хадорф, Клаудиус Ёрнхильм и Иоганн Шеффер.
[Закрыть].
Что касается Кирхера, то его сторонники, включая двух таких же крупных полиматов, Пейреска и Лейбница, со временем стали все больше подвергать сомнению его научные заслуги. Пейреск, который поначалу восторженно относился к вкладу Кирхера в изучение Древнего Египта, начал подозревать его в недобросовестности и сетовал на то, что некоторые интерпретации его протеже основывались только на интуиции, словно «пришли к нему свыше»[305]305
Peter Miller, 'Copts and Scholars', in Findlen, Last Man, 135, 141.
[Закрыть]. Лейбниц, в 1670 году восхищавшийся книгой Кирхера о Китае, признался в 1680-м, что у него есть большие сомнения относительно «Великого искусства познания» (Ars Magna Sciendi), а в 1716 году, комментируя египетские исследования Кирхера, закончил тем, что «он ничего не понимает»[306]306
Findlen, Last Man, 5–6.
[Закрыть]. По словам еще одного полимата, Исаака Фосса, «даже друзья» говорили, что лучше бы Кирхер «не писал своего „Эдипа“» со всеми его претензиями на расшифровку египетских иероглифов[307]307
См.: Eric Jorink and Dirk van Miert (eds.), Isaac Vossius (Leiden, 2012), 211.
[Закрыть].
Отчасти падение авторитета Кирхера было результатом больших перемен в мировоззрении образованных людей в начале XVIII века, перехода от представлений о вселенной как живом организме (Кирхер разделял этот подход) к другой точке зрения, согласно которой она была огромным механизмом. Кроме того, произошел переход от идеи объективных «соответствий» (между микрокосмом и макрокосмом, например) к субъективным аналогиям. Как заметила американская исследовательница интеллектуальной истории Марджори Николсон, «по представлениям наших предков то, что мы называем „аналогией“, было истиной, заложенной Богом в природу вещей»[308]308
Dijksterhuis, De Mechanisering; Marjorie H. Nicolson, The Breaking of the Circle: Studies in the Effect of the 'New Science' upon Seventeenth-Century Poetry (Evanston, IL, 1950), 108.
[Закрыть]. Кирхер разделял эту точку зрения, и новые тенденции оставили его позади.
Педанты и полигисторы
В XVIII столетии термин «полигистор» из комплимента превратился в порицание, по крайней мере, в немецкоязычном мире. Для Канта полигисторы были не более чем «людьми с феноменальной памятью» (Wundermannen des Gedä chtnisses). Их заслуга состояла лишь в том, что они поставляли «сырье» для дальнейшей работы философов[309]309
Conrad Wiedemann, 'Polyhistors Glück und Ende: Von D. G. Morhof zum jungen Lessing', Festschrift Gottfried Weber (Bad Homburg, 1967), 215–35; Helmut Zedelmaier, ' «Polyhistor» und «Polyhistorie» ' (2002; rpr. in: Werkstä tten des Wissens zwischen Renaissance und Aufklä rung [Tübingen, 2015], 109, 115).
[Закрыть]. Критика полигисторов попала даже в энциклопедии. В статье Polyhistorie «Универсального словаря» (Universal-Lexikon, 1731–1754) Генриха Зедлера утверждалось, что «заслуга великих полиматов перед миром не так уж велика просто потому, что они были полиматами и, соответственно, занимались пустяками». Знаменитая французская «Энциклопедия» (Encyclopédie, 1751–1772) вынесла сходный вердикт: «Полиматия – это зачастую не больше, чем беспорядочная масса бесполезных знаний», которые «выставлялись напоказ»[310]310
Цит. и пер. в: Jan. C. Westerhoff, 'A World of Signs: Baroque Pansemioticism, the Polyhistor and the Early Modern Wunderkammer', Journal of the History of Ideas 62 (2001), 633–50, at 641.
[Закрыть]. Деятельность полигисторов все чаще ассоциировалась с накоплением малозначимой информации ради нее самой, в отличие от того, что стали называть Politisch-galante Wissenschaft, то есть знаниями, приличествующими человеку светскому и благородному[311]311
Gunter E. Grimm, Literatur und Gelehrtentum in Deutschland (Tübingen, 1983), 346. См. также: Wilhelm Kühlmann, Gelehrtenrepublik und Fü rstenstaat (Tübingen, 1982), 286–454, хотя автор сожалеет об отсутствии какой-либо истории педантизма (287, прим. 2).
[Закрыть].
В 1678 году юрист Ульрик Губер выступил с речью против педантизма, а десять лет спустя она была опубликована Кристианом Томасиусом, который сам был яростным критиком того, что он называл Scholastische Pedanterey. В двух пьесах первой половины XVIII века, написанных, между прочим, полиматами, – «Эразме Монтанусе» (Erasmus Montanus, 1723) Людвига Гольберга и «Молодом ученом» (Der Junge Gelehrte, 1748) Готхольда Эфраима Лессинга – выведены яркие образы педантов.
Лессинг, впоследствии ставший знаменитым драматургом, заявлял, что он не ученый (Ich bin nicht gelehrt) и быть профессором – не его дело (das Professoriren meine Sache nicht ist). На самом деле он был очень образованным человеком, но старался держаться так, чтобы это не бросалось в глаза. В детстве он хотел, чтобы на его портрете была «огромная-преогромная стопка книг» (einem großen, großen Haufen Bü cher). Лессинг любил знания, планировал внести свой вклад в модный тогда жанр истории знаний, стал директором знаменитой библиотеки в Вольфенбюттеле (как до него Лейбниц) и написал смелое исследование о евангелистах как «обычных историках»[312]312
Paul Raabe, 'Lessing und die Gelehrsamkeit', in Edward P. Harris and Richard E. Schade (eds.), Lessing in heutiger Sicht (Bremen, 1977), 65–88; Wilfred Barner, 'Lessing zwischen Bürgerlichkeit und Gelehrtheit', in Rudolf Vierhaus (ed.), Bü rger und Bü rgerlichkeit (Heidelberg, 1981), 165–204.
[Закрыть].
Растущее недоверие к многознанию также находит свое отражение в распространении слова «шарлатан» и его синонимов. Еще в Древней Греции Платон в своем «Федре» осуждал софистов, которые только «внешне кажутся мудрыми». В XVII столетии общим местом стало сравнение ученых, которые обещают сделать невозможное, с одиозными продавцами поддельных снадобий на площади Сан-Марко и в других публичных местах. Например, Кирхера Декарт называл «шарлатаном», ученый-архиепископ Джеймс Ашшер – «жуликом», а Кристофер Рен – «фокусником» (вероятно, используя это слово в смысле «самозванец»)[313]313
Ремарка Ашера содержится в: John Evelyn, Diary, ed. E. S. de Beer, 6 vols. (Oxford, 1955), vol. 3, 156. Рен цит. в: Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life (Princeton, NJ, 1985), 31. Как и Декарт, английский дворянин Роберт Пейн высказывался о Кирхере и других иезуитах так: «Хватит уже этих шарлатанов» (цит. в: Noel Malcolm, 'Private and Public Knowledge: Kircher, Esotericism and the Republic of Letters', in Findlen, Last Man, 300).
[Закрыть].
В XVIII веке уничижительный термин Декарта приобрел популярность благодаря профессору из Лейпцига Иоганну Буркхардту Менке. Книга Менке «О шарлатанстве ученых» (De Charlataneria Eruditorum, 1715) – уморительное описание приемов, к которым прибегали ученые того времени в целях саморекламы (хотя и в наши дни можно наблюдать если не все, то многое из описанного Менке)[314]314
'Le Jesuite a quantité de farfanteries: il est plus charlatan que sçavant': письмо Рене Декарта к Константейну Гюйгенсу от 14 января 1643 года. См.: Marin Mersenne, Correspondence (Paris, 1972), vol. 12, no. 1160. Johann Burckhardt Mencke, De Charlataneria Eruditorum (1715), English translation The Charlatanry of the Learned (New York, 1937), 85–86. Автор также пишет о Кирхере, но считает его не обманщиком, а легковерным любителем древностей.
[Закрыть]. Вопрос о псевдоученых и шарлатанах был центральным для «публичной деятельности „Республики ученых“ в XVIII столетии»[315]315
Marian Füssel, «The Charlatanry of the Learned»: On the Moral Economy of the Republic of Letters in Eighteenth-Century Germany', Cultural and Social History 3 (2006), 287–300.
[Закрыть]. Даже граф де Бюффон, главная фигура в области естественной истории, был обвинен в шарлатанстве своим коллегой-полиматом, маркизом де Кондорсе[316]316
Jacques Roger, Buffon: A Life in Natural History (1989: English translation, Ithaca, NY, 1997), 434.
[Закрыть].
Тех, кто стремился к обширным познаниям, все чаще обвиняли в дерзости и непомерной гордыне. Сэмюэль Джонсон, который сам был человеком с широкими интересами, объяснял своим читателям, что «круг знаний слишком велик даже для самого активного и усердного ума» и что «даже те, которых Провидение наделило большой силой ума, могут надеяться лишь на то, чтобы продвинуть вперед только одну науку. Во всех остальных областях знания им следует удовлетворяться мнениями, которые они не в силах проверить, и следовать им»[317]317
Samuel Johnson, The Rambler (1750–2: ed. W. J. Bate and Albrecht B. Strauss, New Haven, CT, 1969), nos. 180, 121.
[Закрыть]. А в 1805 году биограф Джеймса Титлера, редактора приложения к «Британской энциклопедии», в том же духе заметил, что «ни один человек, сколь бы удивительным ни был его талант и великим – прилежание, не может всерьез рассчитывать на то, чтобы стать ходячей энциклопедией»[318]318
Цит. по: Richard Yeo, Encyclopaedic Visions: Scientific Dictionaries and Enlightenment Culture (Cambridge, 2001), xi.
[Закрыть].
Новый идеал
В эти годы идеал разностороннего ученого не был отброшен окончательно. Он был ограничен, что заметно снизило планку для претендентов на такое звание. Поскольку, как утверждалось во французской «Энциклопедии», «универсальное знание теперь лежит за пределами возможностей человека» (la science universelle n'est plus à la portée de l'homme), на его месте появился новый идеал, господствовавший в XVIII и начале XIX века. Этот новый идеал пытались воплотить в жизнь gens de letters – образованные люди (в основном, но не всегда, мужчины), которые избегали педантизма и демонстрировали свои познания в блестящих салонных беседах или в очерках, написанных на родном языке и адресованных широкой образованной публике.
Значение салонов (главным образом парижских, но существовавших также в Милане, Берлине, Лондоне и других местах) для культуры XVIII и начала XIX века отмечается уже давно. Такая форма общения, закрепившаяся на практике для людей обоих полов, помогала оттачивать и стиль письма, и манеру речи участников. Некоторые журналы воспроизводили этот разговорный стиль. Ранним примером служит Nouvelles de la Ré publique des Lettres Бейля, предназначенный для публики из высших слоев общества, которую сам автор называл светскими людьми (gens du monde). Лессинг, поклонник Бейля и его легкого стиля, подражал этому изданию в своем журнале с похожим названием – Critischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit («Критические новости из Республики ученых», 1751).
В XVIII веке выходило немало культурных журналов, среди них – Spectator (основанный в 1711 году), Gentleman's Magazine (1731) и Allgemeine Deutsche Bibliothek (1765). Все они старались публиковать тексты, доступные для того читательского круга, который впоследствии будут называть «обывателями». В первом выпуске журнала Spectator Джозеф Аддисон писал: «Я буду стремиться к тому, чтобы прослыть человеком, который вывел философию из шкафов и библиотек, школ и колледжей и поселил ее в клубах и ассамблеях, у чайных столиков и в кофейнях». В том же духе в предисловии к другому посвященному культуре журналу отмечалось, что «публика хочет получать знания в приятной манере и находит сухой анализ скучным»[319]319
Предисловие к шестому тому Bibliothèque Françoise, цит. в: Jean Sgard (ed.), Dictionnaire des Journaux, 1600–1789, 2 vols. (Paris 1991), vol. 1, 162. Перевод автора.
[Закрыть]. Одним из мастеров этой «приятной манеры» был, несомненно, Вольтер. Журналы помогали создать ту аудиторию, которая, в свою очередь, делала возможным существование самих «интеллектуалов-литераторов», писавших о научных вопросах (men of letters).
Интеллектуалы-литераторы
Термин man of letters в те времена был неоднозначным, поскольку letters часто означало «ученость», о чем напоминает само словосочетание «Республика ученых» – Respublica Literaria. Однако его значение постепенно смещалось в сторону belles-lettres – «художественная литература, беллетристика» в современном смысле слова, в то время как от самих авторов все чаще ожидали представления их работ в понятной и изящной манере, предназначенной для широкой образованной публики.
В итальянском языке словосочетание uomo di lettere еще в 1645 году было использовано в названии книги иезуита Даниэле Бартоли. Такого определения заслуживали два итальянских полимата XVII века, Франческо Реди и Лоренцо Магалотти. Реди получил известность отчасти благодаря исследованию паразитов, а отчасти – хвалебной поэме о тосканских винах Bacco di Toscana (1685). Магалотти писал стихи и рассказы, а также публиковал результаты экспериментов и письма «на научные и просветительские» темы[320]320
Maria Luisa Altieri Biagi, Lingua e cultura di Francesco Redi, medico (Florence, 1968); Gabriele Bucchi and Lorella Mangani, 'Redi, Francesco', DBI 86, 708–12; Georges Güntert, Un poeta scienziato del Seicento (Florence, 1966); L. Matt, 'Magalotti, Lorenzo', DBI 67, 300–5.
[Закрыть].
Но несмотря на эти ранние примеры, именно период с начала XVIII и до конца XIX столетия был подлинным веком интеллектуалов-литераторов, иными словами, людей, которые (помимо сочинения поэм, пьес или романов) вносили вклад в гуманитарные науки и проявляли интерес к наукам естественным[321]321
Steven Shapin, 'The Man of Science', in Lorraine Daston and Katharine Park (eds.), Early Modern Science (Cambridge History of Science, vol. 3, Cambridge, 2006), 179–91; Londa Schiebinger, 'Women of Natural Knowledge', ibid., 192–205.
[Закрыть].
Писательницы-интеллектуалки
Как предполагает гендерно-нейтральное словосочетание gens de lettres, новая ученость отводила женщинам более важную, чем прежде, роль, а точнее – сразу две роли: организаторов-вдохновительниц и ученых.
Середина XVIII столетия в Париже стала великой эрой расцвета салонов, которые создавали образованные дамы, такие как мадам Дюпен, мадам Жоффрен, маркиза дю Деффан и ее племянница и бывшая помощница мадемуазель де Леспинас, известная как «Муза Энциклопедии». На этих собраниях можно было часто видеть и слышать полиматов, например Монтескье, Вольтера, Бюффона, Дидро и д'Аламбера. Для успеха салона его хозяйка должна была обладать широкими интересами, а сами салоны увеличивали круг знаний их завсегдатаев, как мужчин, так и женщин[322]322
Dena Goodman, 'Enlightenment Salons: The Convergence of Female and Philosophic Ambitions', Eighteenth-Century Studies 22 (1989), 329–50. См. также: Antoine Lilti, Le monde des salons: sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle (Paris, 2005).
[Закрыть].
Салоны такого типа существовали и в других странах и играли важную роль в интеллектуальной жизни нескольких поколений. Например, в Лондоне 60-х годов XVIII века синими чулками называли именно посетителей салонов, сначала обоих полов, а затем только образованных женщин. Самый знаменитый салон держала Элизабет Монтагю, «королева синих чулков», у которой часто бывали полимат Сэмюэль Джонсон, Джошуа Рейнольдс, Дэвид Гаррик, Эдмунд Бёрк и Гораций Уолпол[323]323
Sylvia H. Myers, The Bluestocking Circle (Oxford, 1990).
[Закрыть]. Что касается Берлина, то в 80-е годы XVIII века среди завсегдатаев берлинского салона Генриетты Герц и Рахели Левин появились еще не ставшие полиматами братья Гумбольдты.
Некоторые женщины той эпохи демонстрировали очень широкую образованность. Леди Мэри Уортли Монтегю, в преклонных годах державшая салон в Венеции (1750-е годы), знала латынь и несколько современных языков, писала стихи, романы и критические эссе, познакомила Западную Европу с прививками от оспы, участвовала в дискуссиях об образовании и положении женщин и планировала издать в виде книги свои письма с описаниями Османской империи, где она жила в 1716–1718 годах[324]324
Isobel Grundy, 'Montagu, Lady Mary Wortley', ODNB 38, 754–9.
[Закрыть].
В этот период женщины становились все более активны и как самостоятельные ученые. Среди самых ярких и знаменитых примеров, о которых речь пойдет ниже, были француженка Эмили дю Шатле, итальянка Мария Гаэтана Аньези, уроженка Швейцарии Жермена де Сталь, немка Доротея Шлёцер, шотландка Мэри Сомервилль и англичанки Гарриет Мартино и Мэри Энн Эванс (более известная под псевдонимом Джордж Элиот), писавшая очерки на разные темы, прежде чем нашла свое призвание в сочинении романов.
Французское Просвещение
Очевидно, что искать широкообразованных gens de lettres эпохи Просвещения лучше всего во Франции, поскольку французы задавали тон не только в области моды и искусства, но и в интеллектуальной жизни Европы. В число самых известных французских полиматов того времени входили Монтескье, Вольтер, Шатле, д'Аламбер, Дидро и Кондорсе.
Биограф Монтескье отмечал, что писать о человеке «с таким количеством интересов» трудно, потому что это требует от самого пишущего «разнообразных знаний – научных, философских, юридических, исторических и литературных»[325]325
Robert Shackleton, Montesquieu, an Intellectual and Critical Biography (Oxford, 1961), vii.
[Закрыть]. Самое важное литературное произведение Монтескье – «Персидские письма» (Lettres persanes, 1721) – демонстрирует интерес автора к Востоку, а также умение представить себе, как могла выглядеть Франция в глазах чужестранца, принадлежащего к другой культуре. Помимо своего труда «О духе законов» (De l'Esprit des lois, 1748), шедевра в области сравнительного социального и исторического анализа, Монтескье писал о политической экономии и древней истории.
Хотя он «не любил математику и физику и ничего в них не понимал», его интерес к естествознанию проявился в записках об анатомии, планах написать геологическую историю Земли и докладе об экспериментах над животными и растениями, представленном в Академии города Бордо в 1721 году. Полный спектр его интересов отразился в собрании книг, насчитывавшем почти четыре тысячи томов: его до сих пор можно увидеть в городской библиотеке Бордо. Благодаря многочисленным книгам о путешествиях и собственным поездкам по Италии, Англии и Центральной Европе Монтескье сделался знатоком разнообразных людских обычаев. Он питал особый интерес к Китаю и не только читал о нем книги, но и обращался с вопросами к Аркадио Хуангу, китайцу, перешедшему в христианство, и иезуитскому миссионеру Жану-Франсуа Фуке[326]326
Judith N. Shklar, Montesquieu (Oxford, 1987), 10; Muriel Dodds, Les récits de voyages: sources de L'Esprit des lois de Montesquieu (Paris, 1929).
[Закрыть].
Биограф Вольтера писал об «универсальном характере его интересов» и называл его «всезнающим полиматом»[327]327
Theodore Besterman, Voltaire (London, 1969).
[Закрыть]. По строго академическим критериям Вольтер, пожалуй, не подходит под определение полимата, но столь разносторонней личности просто невозможно не уделить несколько строк. Вольтер считал себя литератором, а также philosophe, то есть примерно тем, кого сейчас мы называем «публичным интеллектуалом»; он участвовал в дискуссиях и конфликтах своего времени, в том числе связанных с делом протестанта Жана Каласа, подвергнутого пыткам и казненного по обвинению в убийстве собственного сына, которого он заподозрил в намерении перейти в католичество. Многие поэмы, пьесы, повести и романы Вольтера, особенно сатирическая повесть «Кандид» (Candide, 1759), служили проводниками его антиправительственных идей. Его «Письма об Английской нации» (Letters on the English, 1733) представляют собой больше, чем просто травелог или путеводитель по английской культуре, поскольку восхваление Англии подразумевало критику Франции. Вольтер был особенно плодовит как историк: он оставил после себя книги о шведском короле Карле XII, российском царе Петре I и французском короле Людовике XIV, а также знаменитый «Опыт о нравах и духе народов» (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1756), новаторскую работу в той области, которую мы сейчас называем социокультурной историей[328]328
John Henry Brumfitt, Voltaire historian (Oxford, 1958).
[Закрыть]. Вольтер также писал философские труды, критикуя в них Декарта и Лейбница. Он был популяризатором науки, особенно ньютоновской, благодаря чему стал членом Лондонского королевского общества. Вольтер опубликовал очерк о геологии и проводил физические и биологические эксперименты, в частности отрезал головы улиткам, чтобы выяснить, способны ли они к регенерации[329]329
Besterman, Voltaire, 124, 525.
[Закрыть].
Свой «Опыт» он написал для любовницы, маркизы Эмили дю Шатле, которая сама была полноправной участницей сообщества ученых-просветителей. Она была известна в основном как математик и натурфилософ, представила диссертацию об огне на конкурс, организованный Академией наук, и участвовала в дискуссиях о кинетической энергии и динамике с такими ведущими учеными, как Пьер де Мопертюи. Ее книга «Основы физики» (Institutions de Physique, 1740) предлагала читателю синтез идей Ньютона и Лейбница. Дю Шатле написала рассуждение о счастье и перевела «Начала» Ньютона и отрывки из «Басни о пчелах» (The Fable of the Bees) Бернарда де Мандевиля. Она писала статьи в Journal des savants и была избрана членом Болонской академии[330]330
Esther Ehman, Madame du Châtelet (Leamington, 1986); Judith P. Zinsser and Julie C. Hayes (eds.), Émilie du Châtelet: Rewriting Enlightenment Philosophy and Science (Oxford, 2006); Judith P. Zinsser, Émilie du Châtelet: Daring Genius of the Enlightenment (New York, 2007).
[Закрыть].
Составители «Энциклопедии» Жан д'Аламбер и Дени Дидро по научным интересам сами были энциклопедистами. Д'Аламбер, более всего известный как математик, также внес вклад в физику (преимущественно в изучение динамики жидкостей и твердых тел) и теорию музыки. Он написал историю упразднения ордена иезуитов и опубликовал пять томов очерков по литературе и философии. Статьи д'Аламбера в «Энциклопедии» охватывали разные темы – от религии до математики. Он также издал знаменитое «Предварительное рассуждение» (Discours préliminaire l'Encyclopédie, 1751) к этому труду, содержавшее обзор всех наук и искусств[331]331
Thomas Hankins, Jean d'Alembert, Scientist and Philosopher (Ithaca, NY, 1964); J. Morton Briggs, 'Alembert, Jean Le Rond d', DSB 1, 110–17.
[Закрыть].
Что касается Дидро, то его интересы включали в себя философию, психологию, естественную историю, химию и музыку, обсуждавшиеся в его «Письме о слепых в назидание зрячим» (La Lettre sur les aveugles à l,usage de ceux qui voient, 1749) и других работах, которые были опубликованы только после его смерти, как, например, «Племянник Рамо» (Le Neveu de Rameau). Он внес существенный вклад в коллективную «Историю обеих Индий» (Histoire des deux Indes, 1770), опубликованную под именем другого философа, Гийома Тома Рейналя. Подобно Вольтеру, Дидро иногда использовал для изложения своих взглядов художественные произведения – в частности, в романе «Жак-фаталист и его хозяин» (Jacques le fataliste et son maître, 1765–1780) затронут вопрос о детерминизме.
Дидро не только редактировал «Энциклопедию», но и сам написал для нее несколько сотен статей по философии, литературе, акустике, биологии, искусству, музыке и ремеслам. Будучи сыном ремесленника, Дидро ценил технические знания. Благодаря ему всевозможные ноу-хау заняли достойное место в «Энциклопедии», причем не только в тексте, но и в многочисленных иллюстрациях различных технологических процессов[332]332
René Pomeau, Diderot (Paris, 1967); Charles C. Gillespie, 'Diderot, Denis', DSB 4, 84–90.
[Закрыть]. Среди остальных 137 авторов «Энциклопедии» по меньшей мере один, Луи де Жокур, был еще бóльшим полиматом, чем сами составители. Он изучал теологию в Женеве, естественные науки в Кембридже и медицину в Лейдене, а также написал более восемнадцати тысяч статей по различным темам, от истории до ботаники, химии, физиологии и патологии.
Упомянутые философы принадлежали к более многочисленной группе, некоторые члены которой периодически встречались друг с другом в салонах. Двое из них, Бюффон и Кондорсе, имели особенно широкие интересы. Граф де Бюффон известен в основном своим вкладом в естествознание, но сам он гордился своим литературным стилем и писал для широкой образованной публики. В своей «Естественной истории» в тридцати шести томах, выходившей с 1749 по 1788 год, он писал о геологии, ботанике, зоологии, палеонтологии и этнологии (поданной как естественная история человечества). Оценивая возраст нашего мира в 100 тысяч лет, Бюффон уделял особое внимание роли климата (он был почитателем Монтескье) и тому, что сам называл «природными эпохами». Кроме того, много занимался математикой (в частности, теорией вероятности) и физиологией, а также проводил эксперименты над деревьями в своем частном лесу по поручению правительства, которое было заинтересовано в повышении качества древесины, используемой в кораблестроении[333]333
Jacques Roger, Buffon: A Life in Natural History (1989: English translation, Ithaca, NY, 1997).
[Закрыть].
О маркизе де Кондорсе отзывались как о человеке «выдающемся, даже в энциклопедический век, благодаря своему широчайшему кругу интересов и занятий»[334]334
Keith M. Baker, Condorcet: From Natural Philosophy to Social Mathematics (Chicago, IL, 1975), ix. См. также: Gilles Granger, 'Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, Marquis de', DSB 3, 383–8.
[Закрыть]. Вместе с Жаном д'Аламбером он занимался математикой, опубликовал работу об интегральном исчислении и часто бывал в салоне мадемуазель де Леспинас, которая отмечала его интерес к «философии, литературе, науке, искусствам, государственному управлению, юриспруденции». Кондорсе дружил с политическим экономистом и государственным деятелем Анном Робером Жаком Тюрго, который поставил его во главе французского монетного двора. Он применил математическую теорию вероятностей для анализа голосования, расценивая это начинание как часть науки о человеческом поведении, которую называл «общественной математикой».
Как секретарь Академии наук, Кондорсе писал некрологи ее членам. Эта задача требовала хорошей осведомленности в тех темах, которыми они занимались. Интерес Кондорсе к истории, которая, как и в случае Вольтера, включала в себя историю цивилизаций, ярко проявился в его самом знаменитом труде «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1795). В этом очерке история человечества поделена на девять эпох, которые определялись не политическими или военными, а технологическими критериями, например эпохи сельского хозяйства, письменности и книгопечатания.
Упомянутые выше выдающиеся личности были частью гораздо более широкого круга писателей и мыслителей, работавших в этот период. Например, Рене де Реомюр наиболее известен изобретением термометра, Антуан де Лавуазье – вкладом в химию, а Тюрго – политической карьерой и трудами по политической экономии. Но все трое имели гораздо более широкие интересы. Так, друг семьи писал о юном Лавуазье как о человеке, чей «врожденный вкус к наукам вызвал в нем желание разобраться во всех них, прежде чем сосредоточиться на какой-то одной»[335]335
J. B. Gough, 'Réaumur, René-Antoine Ferchault de', DSB 11, 327–35; Jean Torlais, Un esprit encyclopédique en dehors de l'Encyclopédie: Réaumur (Paris, 1961); Henry Guerlac, 'Lavoisier, Antoine-Laurent', DSB 8, 66–91; Arthur Donovan, Antoine Lavoisier (Cambridge, 1993); Rhoda Rappoport, 'Turgot, Anne-Robert-Jacques', DSB 13, 494–7; Anthony Brewer, 'Turgot: Founder of Classical Economics', Economica 54 (1987), 417–28.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































