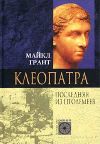Текст книги "Сравнительные жизнеописания"

Автор книги: Плутарх
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 145 страниц) [доступный отрывок для чтения: 41 страниц]
Сей муж еще прежде занимался составлением машин как игрушек и забав геометрических, а не потому, чтобы почитал их достойными своего внимания. Царь Гиерон упросил его обратить отчасти геометрию от умозрительных предметов к вещественным, приноровить ее посредством чувств к вещам, к употреблению служащим, и тем сделать пользу ее ощутительнее и понятнее для обыкновенных людей. Славную и всеми уважаемую науку – двигать разными орудиями – первые начали вводить в употребление Эвдокс и Архит*, желая придать геометрии приятность и разнообразие и чувствительными механическими опытами подкреплять задачи, которые трудно было решить умозрительными геометрическими доказательствами. Таким образом, задачу о двух средних пропорциональных линиях, служащую основанием во многих математических действиях, решили они механическими средствами с помощью так называемого месографа, проводя кривые линии и делая сечения. Платон негодовал, упрекая их в том, что они уничтожают важность геометрии, которая таким способом от предметов бестелесных и умственных переходит к чувственным и действует опять посредством тела, требующего трудную и низкую работу. Таким образом, механика отделилась от геометрии, долгое время была философией пренебрегаема и наконец сделалась одним из искусств, относящихся к войне.
Архимед писал царю Гиерону, родственником и другом которого он был, что данной силою можно поднять любую данную тяжесть. Сила собственного доказательства, как говорят, подала Архимеду такую смелость, что он утверждал: «Когда бы я имел другую землю, на которую бы мог перейти, то сдвинул бы эту землю с места». Гиерон, удивляясь тому, просил его доказать эту задачу на самом деле и малой силою привести в движение какое-нибудь большое тело. Архимед взял царское грузовое судно, которое с большим трудом и помощью многих рук вытащено было на берег, посадил на нем множество людей, нагрузил его по обыкновению и, сидя спокойно вдали, без малейшего усилия и двигая только рукой конец некой многосложной машины, тащил судно к себе так ровно и беспрепятственно, как бы оно плавало по морю. Царь был этим приведен в удивление и, поняв всю важность искусства, убедил Архимеда построить для него машины, служащие как к обороне, так и к нападению при какой бы то ни было осаде. Гиерон не имел нужды употреблять их; большую часть жизни своей провел он в мире и веселье, но в то время приготовления эти были для сиракузян весьма полезны, а вместе с ними и изобретатель их.
Когда римляне с двух сторон приступили к городу, то жители были этим приведены в смятение; страх заставил их быть спокойными, не надеясь нимало устоять против такой силы и смелости. Тогда-то Архимед привел в действие свои машины. Вдруг пущенные им разного рода стрелы и огромные камни, с великим шумом и невероятной быстротой несясь на неприятельскую пехоту, опрокидывали все, что им ни попадалось, и расстраивали ряды. Ничто не могло устоять против тяжести их удара. Со стороны моря – внезапно со стен поднимающиеся над кораблями бревна на одни ударяли сверху и тяжестью своей прибивали их к морскому дну; другие же железными руками или носами, сделанными наподобие журавлиных, схвативши за переднюю часть и подняв прямо на высоту, погружали кормою в воду; нередко корабль, внутри завязанными и натянутыми в противные стороны веревками будучи перевертываем и кружась в воздухе, ударял о скалы и камни, под стенами города стоящие, и сокрушался с пагубою всех находившихся на нем людей. В другое время, будучи поднят высоко от поверхности моря и вися на воздухе, к ужасу смотрящих, качался туда и сюда до тех пор, как все люди были стрясены и сброшены; наконец, сам корабль, уже пустой, был повергаем на стены или, будучи пущен, падал в глубину*.
Машина, поставленная на нескольких кораблях, которую Марцелл подводил к стене, называлась самбукой* по сходству вида ее с музыкальным орудием того же имени; она была еще в некотором расстоянии от стены, к которой ее направляли, как вырвавшийся оттуда камень, весом десять талантов*, а за ним другой и третий, упав на нее с шумом и вихрем, сокрушили ее основание, разорвали связи и отделили один от другого корабли, на которых была утверждена.
Марцелл, находясь в недоумении и не зная, что противоположить этим машинам, отплыл поспешно на кораблях своих и велел отступить пехоте. В военном совете было постановлено, что если будет можно, приступить к стенам ночью; римляне думали, что машины, которыми Архимед действовал, имели великую силу бросать стрелы далеко, но что вблизи останутся без всякого действия, ибо удар не имел надлежащего пространства. Но Архимед, кажется, был приготовлен и к тому. У него были на запасе орудия, которых действия были соразмерны с каким бы то ни было расстоянием; он имел короткие стрелы и небольшие бревна. Так называемые скорпионы, из многих, рядом сделанных, отверстий стены, простирая недалеко свои действия, поражали вблизи неприятеля, которому были невидимы.
Римляне приблизились к стенам, думая, что никто их не примечает, но когда высылаемы к ним были многие стрелы и дроты; когда прямо им на головы падали камни, как будто бы перпендикулярно; когда со всех сторон стены встречали они удары, – то начали отступать; они были уже в некотором расстоянии, но и тогда стрелы на них летели и достигали в самом отступлении – так что великое множество пехоты погибло, многие корабли были разбиты, между тем как римляне не могли сделать никакого вреда городу, ибо орудия большей частью были устраиваемые Архимедом за стенами. Казалось, что римляне сражались с богами; столько-то бед на них сыпалось невидимо!
Однако Марцелл избежал тогда опасности; он шутил над своими механиками и говорил им: «Не перестать ли нам сражаться с этим геометрическим Бриареем*, который черпает море нашими кораблями, как чашами; играючи погрузил со стыдом нашу самбуку в глубину и превосходит сторуких баснословных гигантов, бросая на нас вдруг такое множество стрел?» В самом деле: весь город Сиракузы был как бы телом Архимедовых машин. Архимед один был душою, все приводящею в движение, все вращающею. Другие оружия тогда лежали в бездействии; одни оружия Архимедовы были употребляемы городом против неприятеля к обороне и спасению своему. Наконец, римляне были столько напуганы, что когда только видели на стене показывающимся полено или кусок веревки, то кричали, что Архимед на них направляет какую-нибудь машину, отступали и предавались бегству. По этой причине Марцелл совсем уже отстал от сражений и приступов, надеясь покорить город долговременной осадой.
Что касается до Архимеда, то он имел душу столь великую и возвышенную и обладал таким богатством теоретических познаний, что не захотел оставить по себе никакого сочинения о таком предмете, который приобрел ему славу мудрости не человеческой, но почти божественной. Упражнение в механике и всякое искусство, соединенное с нуждой, почитая неблагородным и низким ремеслом, обратил он все внимание на науки, которых красота и превосходство не смешаны с нуждой и употреблением. Эти науки ни с чем не сравненны и заставляют некоторым образом вещество и доказательство состязаться между собою; одно представляет величие и красоту машин; другое – убедительную точность и непреоборимую силу. В геометрии нельзя найти задач мудренее и запутаннее, которые бы были изложены простейшими и яснейшими основаниями, как в сочинениях Архимеда. Одни приписывают это остроте ума его; по мнению других, неутомимый труд причиной тому, что все, кажется, произведено без усилия и с величайшей легкостью. Если захочешь собственными силами решить иную задачу, то не найдешь доказательства, но, приняв в помощь Архимеда, подумаешь, что мог бы сам оную решить. Столько-то коротка и гладка дорога, по которой он ведет к тому, что желает доказывать! Итак, нельзя отвергать того, что говорят о нем: будто бы был всегда очарован сиреной, которая вместе с ним обитала. Он забывал пищу, питье и всякое попечение о своем теле, нередко насильно влекли его в баню и к мазанию маслом – но в то же время в бане, на очаге, он изображал геометрические фигуры и по своему телу, намазанному маслом, водил пальцем линии. Столько-то от душевного наслаждения был он вне себя и подлинно восторжен музами! Хотя сделал он многие превосходные открытия, однако говорят, что просил друзей своих и родственников только о том, чтобы после смерти изобразили на гробнице его цилиндр, содержащий в себе шар, и надписали соотношение их объемов*.
Таким образом, Архимед великим умом своим сохранил себя и город, сколько от него зависело, непобедимым.
Между тем Марцелл в продолжении осады Сиракуз завладел Мегарами, древнейшим из сицилийских городов, разбил войско Гиппократа при Акриллах* и умертвил более восьми тысяч человек, напав на них в то время, когда укреплялись окопами. Он пробежал большую часть Сицилии; многие города отвлек от союза с карфагенянами и во всех сражениях победил тех, кто осмелился ему противостоять.
По прошествии некоторого времени попался ему в полон некоторый спартанец, по имени Дамипп, отплывший из Сиракуз. Сиракузяне хотели его получить обратно за деньги. Марцелл, вступая многократно с ними в переговоры касательно этого человека, заметил, что одна башня, хотя была охраняема с надлежащим старанием*, однако в нее могли бы тайно вступить несколько человек, ибо стена близ оной была приступна. Приближаясь часто к башне для переговоров, рассмотрел он ее тщательно и велел приготовить лестницы, ожидая дня, в который сиракузяне стали бы отправлять праздник Артемиды и предавались пьянству и веселью. Не только успел он тайно занять эту башню своими воинами, но еще до рассвета завладел вокруг всей стеной и проломал ворота, называемые Гексапилы*. Почувствовав это, сиракузяне начали двигаться и волноваться. Марцелл велел со всех сторон затрубить в трубы, чем произвел в них великий страх и заставил предаться бегству, ибо они думали, что уже не осталась ни одной части стены, которая бы не была занята; однако оставалась еще самая большая, лучше укрепленная и приятнейшая часть города, которая называется Ахрадина; оная была отделена стеной от внешнего города, которого одна часть называется Неаполь, другая Тихэ.
Завладев этими частями, Марцелл на рассвете дня вступил в город* через Гексапилы среди поздравлений других военачальников. Говорят, что, взглянув на город с высоты и видя обширность и красоту его, долго плакал, жалея о предстоящей ему участи, чувствуя, что вскоре переменится вид и красота помрачится, ибо надлежало ему быть разграблену войском. Ни один из полководцев не смел противиться воинам, которые требовали, чтобы город был предан им на расхищение; многие из них даже хотели, чтобы он был сожжен и разорен до основания. Но это требование было отвергнуто Марцеллом, который совершенно против воли своей и по нужде позволил им расхищать имение и брать невольников, но запретил касаться вольных граждан, убивать, бесчестить или брать в полон кого-либо из них. При всем том, что он смягчил таким образом несчастье сиракузян, однако почитал участь их жестокою; соучастие и соболезнование его выказывалось сквозь великую радость души его, когда он воображал, что в короткое время исчезнет блаженство и великолепие сего града. Говорят, что расхищенное в Сиракузах богатство было не менее того, какое увезено было после из Карфагена, ибо остальная часть города вскоре была предана ему изменой и воины настояли, чтобы все было предано грабежу; одни царские сокровища были внесены в общественную казну.
Но ничто столько не огорчило Марцелла, как участь Архимеда. Геометр занимался рассматриванием некоторой математической фигуры. Вперив ум свой и зрение к созерцанию ее, он не чувствовал беганья воинов, ни взятия города. Вдруг предстал к нему воин и велел немедленно следовать за ним к Марцеллу. Архимед отказался следовать за ним, пока не решит задачу, которой занимался; воин осердился, обнажил меч и умертвил его. Другие говорят, что на Архимеда напал римлянин с мечом в руке, чтобы его умертвить, и что Архимед, увидя его, умолял подождать на короткое время, дабы задача не осталась недоконченной и нерешенной, но воин не уважил его просьбы и лишил его жизни. Еще говорят, что Архимед нес к Марцеллу разные математические орудия, как-то: солнечные часы, шары и квадранты, которыми измерял глазом величину Солнца, и что попались ему навстречу воины, которые, воображая, что в ящике было золото, умертвили его. В том, однако же, нет никакого сомнения, что Марцелл был огорчен его смертью, что отыскал родственников его, оказал им отличное уважение, а от убийцы его отвратился как от человека, оскверненного злодеянием.
До того времени римляне почитались другими народами искусными лишь в войне и ужасными в битвах; они не явили примеров человеколюбия и снисхождения и вообще гражданских добродетелей. Марцелл первый доказал грекам, что римляне превышали их справедливостью. Он так вел себя с теми, которые имели с ним дело; столько городов и частных лиц облагодетельствовал, что все зло, сделанное жителям Энны*, Мегар и Сиракуз, казалось действием более претерпевших оное, нежели причинивших. Я упомяну, из числа многих, только об одном случае.
В Сицилии есть небольшой, но весьма древний город, называемый Энгий*, славный явлением в нем богинь, называемых «Матери». Говорят, что храм их сооружен критянами. В нем показывали копья и шлемы медные, одни с надписями Мериона, другие – Улисса, то есть Одиссея, посвятивших оные богиням. Жители города имели чрезвычайную приверженность к карфагенянам. Никий, первенствующий в оном гражданин, увещевал своих сограждан пристать к римлянам; он говорил о том явно в Народном собрании, изобличая безрассудность тех, кто держался стороны противника. Неприятели его, страшась его силы и влияния, хотели его похитить и предать карфагенянам. Никий, зная, что его тайно подстерегают, дабы поймать, употребил следующую хитрость; начал говорить явно речи неприличные о богинях-Матерях; показывал, что презирает их и не верит рассказам о явлении их и силе. Неприятели его обрадовались уже, что он сам подает сильнейший повод, чтобы с ним было поступлено так, как они желали. В тот день, в который все было готово, чтобы его поймать, происходило собрание всенародное; Никий говорил перед гражданами, подавал некоторые советы – и вдруг опустил себя на землю. После краткого времени, в которое сделалось в народе глубокое молчание, соединенное с изумлением, он поднял несколько голову и обратил ее в разные стороны, издавая дрожащий, слабый голос, который мало-помалу возвышался и становился громче. Видя, что все зрители были объяты ужасом и погружены в молчание, Никий скинул с себя плащ, разодрал хитон и, полунагой, пустился бежать к выходу театра, крича, что богини-Матери преследуют и мучают его. Никто не смел его ни тронуть, ни идти к нему навстречу из суеверного страха к богиням; все от него отворачивались; он побежал к городским воротам, издавая крики и делая телодвижения, какие только можно делать, дабы более походить на беснующегося, или сумасшедшего. Жена, зная намерение его и содействуя ему во всем, взяла детей своих, сперва пришла в храм богинь и поверглась пред их кумирами; потом, притворясь, что ищет блуждающего мужа своего, вышла из города безопасно, не встретив никакого препятствия. Таким образом, все семейство убежало в Сиракузы к Марцеллу. Когда же впоследствии полководец сковал всех жителей города Энгиона, дабы наказать их за дурные и наглые против него поступки, то Никий, проливая пред ним слезы и обняв колена его, просил о помиловании граждан, начиная с врагов своих. Марцелл, тронутый просьбами его, отпустил всех и не сделал никакого вреда городу, а Никию дал, сверх других подарков, большое поле. Это происшествие описано философом Посидонием.
Между тем римляне призывали Марцелла к войне, которая происходила на собственной их земле и близ самого города. Он отправился в Рим*, взяв с собою из Сиракуз большую часть прекраснейших художественных произведений, дабы украсить ими свой триумф и дабы потом оные служили украшением городу. До того времени римляне не имели у себя и даже не знали никаких изящных и великолепных произведений художества. Не было в Риме ничего прекрасного, любезного и прелестного; он был наполнен варварскими оружиями и добычами окровавленными, увенчан трофеями и памятниками триумфов – зрелище невеселое и страшное, которого не могли бы снесть взоры робких и негу любящих людей! Эпаминонд называл Беотийское поле орхестрой Ареса*; Ксенофонт Эфес – оружейною; и тогдашний Рим словами Пиндара можно бы назвать «храмом бранелюбивого Ареса». По этой причине Марцелл был приятен народу тем, что украсил город произведениями греческого вкуса, которых разнообразие приносило удовольствие. Но Фабий Максим более нравился старейшим, ибо, покорив город Тарент, ничего подобного не коснулся; он вывез из оного все деньги и богатство, а оставил кумиры и живописи, сказав известные слова: «Оставим тарентинцам этих разгневанных богов». Марцелла же обвиняли, во-первых, в том, что на город их навлек зависть других народов, ибо не только люди, но, казалось, и самые боги влекомы были в оный плен и несомы в триумф*; во-вторых, в том, что народ римский, который прежде умел только воевать или обрабатывать землю и совсем не знал неги и роскоши, подобно Еврипидову Гераклу:
Необразован, прост, к делам великим склонен,
– исполнил он праздности и многословия, ибо граждане начали толковать о художествах и художниках и провождать в том большую часть дня. Марцелл, однако, гордился перед самыми греками тем, что научил римлян любить славные и прекрасные греческие произведения, которых они прежде не знали, и удивляться им.
Неприятели Марцелла противились его триумфу под тем предлогом, что в Сицилии некоторые дела были не докончены; сверх того третий триумф возбуждал против него зависть. Марцелл согласился торжествовать на Альбанской горе полный и больший триумф, а в город вступить с малым, который греками назван «эва», а римлянами – «овация». В том триумфе победитель не сидит на колеснице, везомой четверкою; не носит лаврового венка; звук труб не раздается вокруг него; он идет пешком в простой обуви, при шуме многих флейт с миртовым на голове венком – как бы он был не военный, более приятный, нежели страшный взору. Это, по моему мнению, служит несомненным доказательством того, что в древние времена триумфы назначаемы были не по великости подвигов, но по образу, по которому оные произведены были. Победивший противников в сражении с кровопролитием был удостоиваем оного воинственного и страшного триумфа; воины и оружия его были увенчаны обильно лаврами, как обыкновенно бывает при осмотре войска и очищения его разными обрядами. Полководцам же, не имевшим нужды дать сражение, но договором, убедительностью и силою речи все хорошо устроившим, закон определяет не воинственное, мирное и без победного пения сопровождаемое торжество. Флейта есть орудие мира; мирт есть растение, посвященное Афродите, которая более всех богов отвращается насильства и брани. Что касается до слова «овация», то оно не происходит от греческого слова «эвасмос», как многие думают, ибо и большой триумф сопровождается восклицанием и пением; греки неправильно приноровили это слово к своим понятиям, воображая, что в торжестве этом нечто относится и к Дионису, которого мы называем Эвием и Фриамбом, но это несправедливо. В большом триумфе полководцы, по древним обычаям, приносили в жертву быка, а в малом овцу. Это животное называется по-латыни «ова» (oves), и от того триумф назван овацией. Достойно замечания, что лакедемонский законодатель определил жертвоприношения в противность римским. В Спарте, если предводительствовавший войском в предприятии своем получит успех хитростью или убеждением, то приносит в жертву быка; а если силою – петуха. Хотя лакедемоняне были народ самый воинственный, однако более почитали достойным человека и более уважали дело, совершившееся убедительностью и благоразумием, нежели насилием и храбростью. Пусть читатель судит, что должно о том думать.
В четвертое консульство Марцелла неприятели его подучили сиракузян послать в Рим некоторых граждан и принести на него сенату жалобу в том, что он будто бы поступил с ними жестоко и против договоров. Случилось, что Марцелл находился на Капитолии, где приносил жертву. Заседание сената продолжалось еще, как сиракузяне пришли в оный, бросились к ногам сенаторов и просили, чтобы им позволено было приносить жалобу. Другой консул их к тому не допускал и оказывал свое неудовольствие в том, что они жалуются на Марцелла в его отсутствие. Марцелл, узнав о происходящем, тотчас пришел в сенат. Сперва сел на свое седалище и занимался делами по званию консула. По окончании дел он сошел с своего места, стал как частное лицо на месте, с которого говорили судимые, и позволил сиракузянам начать жалобу*. Достоинство и самонадеянность сего мужа привели сиракузян в сильное смятение; его неодолимость, прежде явившая себя в оружиях, показалась им страшнее и грознее, облаченная в консульскую пурпуровую мантию. Однако, будучи ободряемы противниками Марцелла, начали донос и говорили длинную речь, наполненную жалобами. Главное обвинение состояло в том, что, хотя они были союзники и приятели римские, Марцелл поступил с ними так, как другие полководцы не позволили бы поступить с иными неприятелями*. Марцелл отвечал, что за многие и дурные против римлян поступки сиракузяне претерпели лишь то, от чего освободить невозможно город, взятый приступом и покоренный вооруженной рукой; что они должны себя винить в том, что покорены таким образом и не захотели повиноваться, несмотря на многократные его увещания; что не тиранны их принудили воевать с римлянами, но они сами избрали тираннов для того, чтобы воевать. По окончании речей сиракузяне вышли из сената, по обыкновению; вместе с ними вышел и Марцелл, уступив свое место в сенате товарищу. Он стоял у дверей в сенат*. Ни страх доноса, ни гнев на сиракузян не переменили обыкновенного вида его; он ожидал окончания суда с совершенным спокойствием и сохраняя свое достоинство. Наконец сенат объявил свое мнение; Марцелл был оправдан; тогда сиракузяне падают к ногам его; умоляют со слезами, чтобы он излил весь гнев свой на них и помиловал город их, всегда ему благодарный и помнящий его благодеяния. Марцелл был тронут; он простил их и впредь не переставал оказывать сиракузянам благодеяния. Сенат утвердил дарованную Марцеллом сиракузянам вольность, равно как законы их и оставшееся у них имение. За это сиракузяне оказали ему великие почести и наконец поставили законом, что каждый раз как Марцелл или кто-нибудь из потомков его приедет в Сицилию, то сиракузянам всем надевать венки и приносить богам жертвы.
Марцелл вскоре обратился к Ганнибалу. Почти все тогдашние консулы и полководцы после сражения при Каннах употребляли одну и ту же военную хитрость против Ганнибала: избегали битвы; никто не смел встретиться с ним и вступить в сражение. Марцелл шел противной им стезей; он думал, что от продолжения времени, которое, как полагали, одно могло истощить Ганнибаловы силы, неприметным образом истощалась и разорялась сама Италия; что Фабий, всегда заботящийся о безопасности, худо исцелял ее раны, ожидая, что вместе с увядающей силой отечества погашена будет война; подобно врачам, робким и боязливым в подании помощи, которые истощение сил больного почитают уменьшением болезни.
Марцелл напал, во-первых, на отпавшие большие самнитские города и покорил их. Он нашел у них в запасе много хлеба и денег и поймал охранявших оные Ганнибаловых воинов в числе трех тысяч человек. Когда Ганнибал умертвил проконсула Гнея Фульвия в Апулии с одиннадцатью трибунами и изрубил большую часть войска его, то Марцелл писал в Рим и увещевал граждан, чтобы они не унывали, ибо он уже идет на Ганнибала, дабы лишить его радости от полученного успеха. Однако письма, будучи получены в Риме, как говорит Тит Ливий, не только не уменьшили печали граждан, но умножили страх; они думали, что настоящая опасность тем страшнее прежней беды, чем более Марцелл превышал Фульвия. Марцелл, идя вслед за Ганнибалом, как о том писал, вступил в Луканию и застал его близ города Нумистрона, стоящего на высотах, укрепленных природой. Сам остановился на равнине. На другой день он первый построил свое войско в боевой порядок. Ганнибал сошел с холмов. Дано было сражение, продолжительное и жаркое, которое, однако, не было решительно; битва началась в три часа, и сражавшиеся едва разошлись с наступлением темноты. На рассвете следующего дня Марцелл выступает из своего стана, устраивается снова среди мертвых тел и вызывает Ганнибала решить сражением, на чьей стороне победа. Но Ганнибал отступил. Марцелл, сняв корысти с умертвленных неприятелей, похоронил своих мертвых и пошел вслед за неприятелем. Ганнибал несколько раз ставил ему засады, в которые Марцелл ни однажды не попал; во всех стычках и малых сражениях одерживал он верх и тем приобрел великую славу.
По этой причине, когда вскоре после того наступило время Комитий, или консульских выборов, сенат лучше захотел вызвать из Сицилии другого консула, нежели отвлечь Марцелла от предприятий его против Ганнибала. По прибытии консула сенат повелел ему назначить диктатором Квинта Фульвия. Известно, что диктатор не избирается ни народом, ни сенатом, но один из консулов или преторов, представ перед народом, объявляет диктатором того, кого сочтет нужным. По этой причине избираемый называется диктатором, от латинского слова «дикере» (dicere), значащего «говорить», «называть». По мнению других, диктатор назван этим именем по той причине, что он не управляет по постановлениям народа или по большинству голосов, но дает приказания по своему произволению. Приказание управляющих называется по-гречески «диатагмата» (diatagmata), по-латыни – «эдикт» (edictum).
Призванный из Сицилии соправитель Марцелла не хотел назначить диктатором того, которого сенат предлагал. Дабы не быть принужденным против своей воли назначить диктатора, он отправился ночью в Сицилию*. После чего народ избрал диктатором Квинта Фульвия, а сенат в то же время писал Марцеллу, повелевая ему утвердить сей выбор. Марцелл повиновался, исполнил желание народное и был сам избран проконсулом и на следующий год. Согласившись с Фабием Максимом, чтобы одному осаждать Тарент, а другому занимать Ганнибала, отвлекать его и не допускать подать помощи осажденному городу, Марцелл пошел к Канузию*. Ганнибал всегда переменял место и избегал сражения, но Марцелл являлся ему со всех сторон. Наконец напал он на Ганнибала в то время, когда тот окопался, и, бросая издали стрелы, заставил его подняться. Ганнибал хотел вступить в бой – Марцелл принял его, но ночь прекратила их движения. На рассвете другого дня Марцелл вновь явился вооруженным и построился в боевой порядок. Ганнибал был до того огорчен смелостью Марцелла, что, собрав карфагенян, просил их сразиться за все прежние победы. «Вы видите, – говорил он, – что после таких нами одержанных побед не позволено нам отдохнуть; что и побеждая не можем насладиться покоем, пока не отразим сего человека». Вскоре войска сошлись; началась битва. Кажется, что Марцелл был разбит, сделав во время сражения некоторое движение некстати*. Увидев, что правое крыло находилось в дурном положении, дал он приказание одному легиону выступить вперед. Эта не вовремя произведенная перемена расстроила сражавшихся воинов. И вручила победу неприятелю. Более двух тысяч семисот римлян легло на месте. Марцелл отступил в свой стан, собрал своих воинов и говорил им, что видит пред собою римские оружия и тела, но ни одного римлянина. Когда воины просили у него прощения, то Марцелл отвечал им: «Нет вам прощения, пока вы побежденные; только тогда я прощу вас, когда победите; завтра вы опять будете сражаться, дабы ваши сограждане скорее узнали вашу победу, нежели поражение». Сказав сие, он приказал отмерять ячмень вместо пшена тем когортам, которые были разбиты*. Слова его произвели в воинах сильное действие. Хотя многие из них были в дурном и опасном положении, но не было ни одного, которого бы упреки Марцелла не мучили более собственных ран.
На рассвете другого дня был выставлен красный плащ, который был обыкновенно знаком будущего сражения. Обесчещенным когортам по прошению их позволено стать в первом ряду. Трибуны выстроили за ними остальное войско. Когда об этом возвещено было Ганнибалу, то он воскликнул: «Боги! Что делать с человеком, который не может перенесть ни хорошего, ни дурного счастья! Один он, побеждая, не дает покоя другим и, будучи побежден, – себе. Ужели вечно с ним должно сражаться? Бодрость, когда он счастлив, стыд, когда бывает побежден, заставляют его дерзать на все». Уже оба войска сошлись; выгоды с обеих сторон были равны; Ганнибал приказывает поставить слонов перед строем и вести их на римлян. Этим средством произвел он в первых рядах неустройство и беспорядок, но один из трибунов, по имени Флавий, выхватив знамя одной роты, пошел к слонам, ударил нижним острием копья в первого и отворотил его; слон отвернулся назад, упал на того, который следовал за ним, и тем привел их всех в беспорядок. Марцелл, приметя это, приказал коннице всеми силами напасть на то место, в котором происходил беспорядок, и тем еще более расстроить неприятеля. Конница напала с великим жаром на карфагенян и поражала их, преследуя до самого стана. Убиваемые и падающие слоны были причиной величайшей потери неприятеля. Говорят, что со стороны карфагенян пало в том сражении более восьми тысяч человек; со стороны римлян – три тысячи, но не было между ними ни одного, который бы не получил раны. Это позволило Ганнибалу в следующую ночь выступить из своего стана и в тишине удалиться. Марцелл не был в состоянии преследовать его по причине великого множества раненых воинов. Он отступил медленно в Кампанию и провел лето в городе Синуессе для успокоения своего войска*.
Ганнибал, вырвавшись у Марцелла и действуя своим войском так, как бы оно было в полной свободе, опустошал беспрепятственно огнем окрестные области Италии. По этой причине в Риме неприятели Марцелла порицали его и возбудили к доносу против него народного трибуна Публиция Бибула, человека стремительного и искусного говорить. Он несколько раз созывал народ и убеждал его вручить другому полководцу войско, ибо Марцелл, говорил он, поборовшись немного с Ганнибалом, с поля сражения, как бы из палестры, пошел в теплые бани, дабы принять попечение о своем теле. Марцелл, уведомившись о том, оставил войско своим наместниками и возвратился в Рим, дабы оправдаться перед согражданами. Он нашел, что по доносам неприятелей его надлежало произвести над ним суд. Уже был назначен к тому день; народ собрался в Фламинийском цирке; Бибул взошел на трибуну и обвинял Марцелла. Марцелл оправдался просто и кратко, но первенствующие и отличнейшие граждане сильно и свободно говорили в его пользу; они напомнили гражданам, что было бы неприлично показывать себя в рассуждении Марцелла судьями хуже неприятеля и обвинять в малодушии полководца, которого одного Ганнибала удалялся, избегая случая с ним сразиться, с таким же старанием, с каким, напротив того, искал оного, дабы сразиться с другими. После представлений доносчик увидел себя совершенно обманутым в своем чаянии подвергнуть суду Марцелла, который не только был оправдан во всех обвинениях, но в пятый раз избран консулом на следующий год.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?