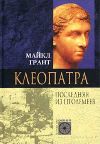Текст книги "Сравнительные жизнеописания"

Автор книги: Плутарх
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 145 страниц) [доступный отрывок для чтения: 41 страниц]
Приняв начальство в Этрурии, присутствием своим укротил он великое движение, клонившееся к возмущению против римлян, и успокоил тамошние города. После того хотел он посвятить храм Славе и Доблести, сооруженный им из полученных в Сицилии корыстей, но жрецы тому воспрепятствовали, почитая непристойным заключить двух богов в одном и том же храме*. Он снова начал пристраивать храм Доблести, досадуя на сделанное ему препятствие и почитая оное дурным для себя предзнаменованием*. Сверх того, многие другие знамения смущали его; молнии ударили на некоторые храмы; мыши сгрызли золото в Юпитеровом храме; также говорили тогда, что вол заговорил по-человечески; что дитя родилось с головой слона и что оно жило; жрецы не находили благоприятными никаких жертв, принесенных богам к отвращению бедствий. По этой причине они удерживали Марцелла в Риме, несмотря на стремление его и горячее желание идти на войну. Никто не был одержим столь сильной любовью к какому-либо предмету, сколько Марцелл к тому, чтобы дать Ганнибалу решительное сражение. Это только видел он во сне; о том говорил с соправителями и друзьями; богам молился лишь о том, чтобы застать Ганнибала в боевом порядке. Я думаю, что он бы еще с большим удовольствием сразился с ним в таком месте, в котором оба войска были бы обведены окопами или стеной. Если бы он не приобрел великой славы прежде, если бы более всех других полководцев не оказал опытов своего искусства и прозорливости, то сказал бы я, что он увлечен юношеской и слишком честолюбивой страстью далее, нежели пристойно старцу, ибо ему уже было за шестьдесят лет, когда в пятый раз был избран консулом.
Однако по совершении жертв и очищений, предписанных жрецами, выступил он в поход с соправителем своим и, став между двух городов – Бантии и Венусии*, старался заманить Ганнибала к сражению. Но полководец всячески его избегал; узнав, что римляне посылают войска к Локрам Эпизефирийским, поставил он засаду близ холма Петелия* и умертвил две тысячи пятьсот человек. Этот случай еще сильнее воспламенил гнев Марцелла и желание его дать сражение; он поднялся со всей силой и приблизился к Ганнибалу. Между двух войск был холм, довольно укрепленный природой и обросший разнородным лесом; по обеим сторонам его были покатистые возвышения, с которых видно было далеко; близ них били ключи и источники. Римляне удивлялись тому, что Ганнибал, нашед первый столь выгодное место, не занял его своими войсками, но предал неприятелю. Ганнибал, конечно, знал, что это место было весьма способно для стана, но полагал, что оно еще способнее для засады. Он решился употребить его более для последней. Вследствие этого он наполнил лес и впадины воинами, вооруженными копьями и дротиками, надеясь, что само это место привлечет к себе римлян своим выгодным положением. Он не ошибся в своем чаянии. В римском стане много говорили о том, что надлежало занять это место; все рассуждали о выгодах, какие будут иметь над неприятелем, став станом на холме или, по крайней мере, укрепив его. Марцелл рассудил ехать сам на холм с немногими всадниками для обозрения его. Он принес жертву богам. По заклании первой жертвы прорицатель показал ему печенку без головки. Заклана была вторая – и в печенке найдена головка необыкновенной величины; следующие знамения явились чрезвычайно благополучными; казалось, что страх от прежней жертвы был уничтожен, но прорицатели уверяли, что само обстоятельство стращало и смущало их, ибо слишком веселые знамения после печальных и несчастных рождают подозрение, – по причине странности перемены. Но, как говорит Пиндар: «Ни огонь, ни медная стена определения судьбы не остановят».
Марцелл взял с собою своего товарища Криспина, сына своего, который был трибуном, и не более двухсот двадцати человек конницы; в числе их не было ни одного римлянина; сорок человек из них были фрегеллийцы*, которые во многих случаях дали Марцеллу опыты своей любви и верности; остальные все были этруски. Холм, как выше сказано, был покрыт густым лесом. Стражи, сидя на высоком месте и не будучи римлянами видимы, могли видеть их войско. Они дали знать воинам, которые скрывались в засаде, обо всем, что происходило. Эти воины, допустив Марцелла приблизиться к холму, внезапно поднялись, рассеялись в разные стороны и в одно время метали дроты, поражали, гнали бегущих, сражались с теми, кто осмеливался им противостать. Это были сорок фрегеллийцев. Этруски при самом начале оробели, но фрегеллийцы, сомкнувшись, защищали консулов. Криспин, раненный двумя дротиками, поворотил лошадь назад и убежал. Один из неприятелей пронзил насквозь Марцелла в бок широким копьем, которое римляне называют «ланцея» (lancea). Остальные фрегеллийцы, которых было весьма немного, оставя его уже лежащего, захватили раненого сына его и убежали в стан. Мертвых пало не многим более сорока человек; в полон взято пять ликторов и восемнадцать конных. Криспин жил немного дней после него и умер от полученных ран*. Никогда прежде не случалось, чтобы оба консула умерли в одной битве.
Ганнибал мало заботился о других убиенных, но, узнав, что убит Марцелл, побежал к тому месту и, найдя его мертвого, долго стоял и смотрел на вид его и на крепость тела; он не произнес надменных слов; на лице его не обнаружилась радость об умертвлении столь страшного и опасного неприятеля. Он оказал удивление к странной смерти его, снял с него перстень*, украсил тело его приличным образом и с честью предал на сожжение. Он собрал прах его в серебряную урну, наложил на нее золотой венец и послал ее сыну Марцелла*. Случилось, что нумидийцы попались навстречу тем, кто вез прах; они захотели отнять урну, но как везшие ее не уступали, то началась драка. Отнимая урну одни у других, они рассыпали прах Марцелла. Когда это дошло до Ганнибала, то он сказал присутствующим: «Ничто не может произойти без божьей воли!» Он наказал нумидийцев, но не приложил никакого старания собрать прах и отослать к сыну, полагая, что странная смерть его и рассеяние праха случились по воле некоего бога. Так повествуют происшествие Корнелий Непот и Валерий Максим. Но Ливий и Цезарь Август пишут, что урна была доставлена сыну его, который торжественно погреб прах отца своего.
Сверх зданий, посвященных богам в Риме, Марцелл посвятил им в сицилийском городе Катане гимнасий. Несколько кумиров и картин, взятых им в Сиракузах, посвящены на Самофракии богам, называемым Кабирами, и в Линде*, в храме Афины. Там же надписаны на собственном кумире его следующие стихи, как свидетельствует Посидоний:
Отечества звезду, спасителя зрить Рима,
Марцелла Клавдия, славнейших род отцов.
Семь раз среди войны он консульства достигнул;
На поле брани был он ужасом врагов.
Сочинитель надписи придает к пяти консульствам проконсульское достоинство, на которое он дважды был возведен. Род его продолжался со славой до времен Марцелла, сына Гая Марцелла и Октавии, сестры Цезаря. Этот Марцелл был эдилом и умер в молодых летах вскоре после брака с дочерью Августа*. В честь и память о нем Октавия, его мать, соорудила книгохранилище*, а Цезарь – театр, который прозван Марцелловым.
Сравнение Пелопида с МарцелломВот что показалось мне достойным в жизнеописании Марцелла и Пелопида! Свойствами и нравами они были весьма похожи один на другого: оба были храбры, трудолюбивы, пылки, высокого духа. Между ними та только разность, что Марцелл в некоторых покоренных им городах многих наказал смертью; напротив того, Эпаминонд и Пелопид, одержав победу, никого не убивали и жителей покоренных городов не превращали в невольников. Вероятно, что фиванцы в присутствии полководцев не поступили бы жестоко с орхоменийцами*.
Касательно подвигов их – Марцелловы против галлов чрезвычайны и велики; он разбил многочисленную конницу и пехоту с таким малым отрядом конницы, что трудно найти в истории другого полководца, который бы произвел подобное дело. Он умертвил и начальника неприятельского. Пелопид таким же образом устремился на неприятеля, но пал, предупрежденный ударом тиранна, и пострадал прежде, нежели что-либо произвесть. Но с этою победою Марцелла можно сравнить оказанные Пелопидом при Левктрах и Тегирах знаменитейшие и величайшие подвиги. В Марцелле мы не находим дела, произведенного столь тайно и с такою хитростью, какое произвел Пелопид для возвращения своего в отечество и для истребления тираннов в Фивах. Из всех дел, произведенных обманом и среди мрака, это дело, кажется, есть превосходнейшее.
Ганнибал наступал на римлян, будучи силен и страшен; так лакедемоняне наступали тогда на фиванцев. Что при Левктрах и Тегирах они принуждены были уступить Пелопиду, в том нет никакого сомнения. Однако, по свидетельству Полибия, Марцелл ни одного разу не победил Ганнибала, который, кажется, был непобедим до времен Сципиона. Мы, впрочем, принимаем свидетельство Ливия, Цезаря и Непота, а из греческих писателей царя Юбы, которые уверяют, что Ганнибаловы войска претерпели некоторые поражения от Марцелла. Но эти выгоды не имели в делах большого перевеса. Кажется, что потери ливийца были притворные и что он хотел лишь заманить римлян в сеть. Как бы то ни было, по справедливости заслужило удивление то, что, по многократном разбитии войск, по умертвлении многих полководцев и потрясении всей римской державы римляне имели еще довольно бодрости, чтобы противостать неприятелю. Тот, кто в войско, перед тем устрашенное и унывавшее, влил опять соревнование и охоту сразиться с неприятелем; кто научил и ободрил его нелегко уступать ему победу, но всеми силами оспаривать ее и крепко с ним сражаться, – то был только один Марцелл. Многие бедствия заставили римлян довольствоваться и тем, что богатством могли спасаться от Ганнибала. Марцелл научил их стыдиться своего спасения, когда оно было соединено с поражением; почитать бесчестием для себя малейшую уступку, сделанную неприятелю; печалиться, когда над ним не одерживали победы.
Поскольку же Пелопид, военачальствуя, не был побежден ни разу, а Марцелл более всех своих современников одержал побед, то из этого можно бы заключить, что тот, кого победить было трудно, множеством своих побед может сравниться с тем, кто был непобедим. Впрочем, Марцелл покорил Сиракузы, а Пелопиду не удалось завладеть Спартой. Но, по моему мнению, приблизиться к Спарте и первому из человеков перейти Эврот вооруженной рукой труднее, чем покорить Сицилию. Может быть, это дело более должно приписать Эпаминонду, нежели Пелопиду, равно как и победу, одержанную при Левктрах. Никто не участвует в славе подвигов, произведенных Марцеллом. Он один взял Сиракузы; победил галлов без своего товарища; дал Ганнибалу сражение без помощи других, в то время когда все ему отсоветовали, переменил вид войны и первый научил римлян быть смелыми.
Я не хвалю кончины ни одного, ни другого, но жалею о них и досадую на странность их участи. Удивляюсь, что в сражениях, которые исчисляя можно устать, Ганнибал не был ни разу ранен; уважаю упоминаемого в «Воспитании Кира» Хрисанфа, который поднял уже меч и хотел поразить неприятеля, но, услышав звук трубы, к отступлению зовущей, оставил его и спокойно удалился в лучшем порядке. Впрочем, Пелопид извинителен тем, что, находясь в пылу сражения, был увлечен гневом своим к отмщению не неблагородным образом. Славно для полководца, побеждая, спасать жизнь свою, но если ему умереть должно, то должно кончить жизнь с доблестью, как говорит Еврипид. Смерть того, кто так умирает, не есть страдание, но действие. Сверх ярости, увлекавшей Пелопида, он видел совершение победы в падении тиранна и потому не совсем безрассудно предался своему стремлению. Можно ли к ознаменованию себя найти подвиг, которого цель была бы прекраснее и блистательнее этой? Напротив того, Марцелл, не будучи побуждаем никакою важною нуждою, не будучи в исступлении, которое нередко среди бедствий лишает человека рассудка, бросился, закрыв глаза, в опасность и пал не так, как прилично полководцу, но как свойственно соглядатаю или обыкновенному передовому воину. Честь пяти консульств, трех триумфов, многих корыстей и трофеев над царями – предана иберам и нумидийцам, продающим за деньги жизнь свою карфагенянам. Самые неприятели негодовали на успех свой, видя, что отличнейший из римлян по мужеству, величайший по силе, знаменитейший славой погиб среди фрегеллийских воинов, обозревающих местоположение.
Мои рассуждения не должно почитать порицанием, но упреком и жалобой, приносимой им на них самих и на их храбрость, которой принесли они в жертву другие свои добродетели, не щадя ни сил своих, ни жизни, – как будто бы погибли они только за себя, а не за свою родину, за друзей, за союзников.
Пелопид по смерти своей погребен союзниками, за которых он умер; Марцелл – неприятелями, которыми убит. Участь первого завидна и блаженна; однако выше и славнее, когда самая вражда, а не дружба благодарная чтит доблесть, ее унижающую. В одном случае вся честь оказывается доблести; в другом – польза уважается более доблести самой.
Аристид и Марк Катон
АристидАристид, сын Лисима, был колена Антиохийского, из местечка Алопеки. О состоянии его мнения различны. Некоторые уверяют, что он провел жизнь в нищете и по смерти оставил двух дочерей, которые по причине своей бедности долго не выходили замуж. Но Деметрий Фалерский*, опровергая многими принятое мнение в своем сочинении, называемом «Сократ», говорит, что в Фалере знал принадлежавшее Аристиду место, в котором он и погребен. Доказательствами же достаточного его состояния полагает он, во-первых, то, что Аристид был архонтом-эпонимом*, получив эту должность по жребию, – как принадлежащую тем домам, которые обладали большим имением и потому называемы были пентакосиомедимнами*. Другим доказательством почитает он остракизм, ибо изгнанию были подвержены не бедного состояния граждане, но те, кто происходил от великого рода, возбуждавшего против себя знаменитостью своею зависть. Третьим и последним – то, что Аристид посвятил, как хорег, в Дионисовом храме в знак победы треножники, которые и поныне показываются и на которых есть следующая надпись: «Антиохийское колено получило награду в прении; Аристид был хорегом, Архестрат сочинил комедию». Хотя это доказательство, по-видимому, важнее других, но в самом деле оно самое слабое, ибо и Эпаминонд, который, как всем вообще известно, был воспитан и жил в крайней бедности, и философ Платон приняли на себя издержки немало стоящих хоров и дали награды: один – свирельщикам, другой – отрокам, составившим клики. Но Платону дал на то деньги Дион Сиракузский, а Эпаминонду – Пелопид. Добродетельные не ведут войны бесконечной, непримиримой против дружеских подарков. Почитая подлыми и низкими только дары, приемлемые из корыстолюбия и для сбережения, они не отвергают тех, кто может употребить с бескорыстием для чести и славы своей. Впрочем, Панетий* доказывает, что в рассуждении треножника Деметрий был обманут сходством имен, ибо со времени Персидской войны до конца Пелопоннесской только два Аристида известны по запискам как хореги, получившие награду, но ни один из них не есть сын Лисимаха. Один был сын Ксенофила, другой жил гораздо после, как то доказывают письмена, введенные в употребление после Евклида*, равно как и приписанное имя Архестрата, о котором никто не писал во время Персидских браней, но во время войны Пелопоннесской многие упоминают о нем как о содержателе хоров. Впрочем, мнение Панетия требует точнейшего исследования.
Касательно остракизма, то этому наказанию были подвержены все те, кто славой своей, родом и силой красноречия превышал других, ибо и Дамон, учитель Перикла, отличавшийся от других умом своим, был изгнан остракизмом. Идоменей* притом свидетельствует, что Аристид получил достоинство архонта не по жребию, но по выбору афинян. Если же он начальствовал и после сражения при Платеях, как пишет сам Деметрий, то весьма вероятно, что при такой славе и по совершении стольких подвигов он удостоился за доблесть свою той почести, которую другие получали через богатство. Как бы то ни было, Деметрий явно старается вывести из бедного состояния, как бы из великой беды, не одного Аристида, но и Сократа, уверяя, что последний не только имел свое поместье, но и семьдесят мин денег, которые получал от Критона в рост.
Аристид был приверженцем того Клисфена, который по изгнании тираннов* устроил афинское правление. Удивляясь более всех государственных мужей Ликургу, лакедемонскому законодателю, и следуя примеру его, он прилепился к аристократическому образу правления. Противником его был Фемистокл, сын Неокла, который держался стороны народа. Некоторые уверяют, что в самом детстве, когда они вместе воспитывались, как в важных занятиях, так в играх своих были всегда в ссоре и что тогда же, в распрях, обнаруживались их свойства. Один был гибок, дерзок, хитер, предприимчив и стремился с жаром ко всему; другой, опираясь на твердый свой нрав, непоколебимый в справедливости, не умел и в шутках употребить лжи, обмана, неблагопристойности. Аристон Кеосский уверяет, что причиной их вражды, столь далеко простиравшейся, была любовь к Стесилаю, уроженцу кеосскому, который красотой своей превосходил своих сверстников. Ревность их не прекратилась с исчезнувшей его красотой, но, как будто бы они получили через то навык и упражнение, в жару страсти и раздора устремились в гражданское поприще. Фемистокл окружил себя друзьями, которые служили ему оградой и давали немаловажную в республике силу. Некто сказал ему, что тогда хорошо управит Афинами, когда будет ко всем равен и беспристрастен; Фемистокл отвечал: «Да никогда не воссяду на то седалище, перед которым друзья мои не будут иметь никакого преимущества перед чужими!» Аристид, напротив того, шел один, как бы собственным путем, в управлении республики. Он не хотел участвовать в несправедливостях своих друзей или быть им неприятным, не угождая им. Притом видя, что могущество, происходящее от друзей, многих поощряло к несправедливым поступкам, он остерегался их, будучи того мнения, что добродетельный гражданин должен полагать силу свою только в том, чтобы действовать и говорить по всей справедливости и согласно с долгом своим.
Когда же Фемистокл, вдаваясь во многие дерзкие предприятия, восставал всегда против Аристида и препятствовал всем его намерениям, то и Аристид, частью защищаясь, частью уменьшая силу Фемистокла, от благосклонности народной возраставшую, был принужден супротивиться его предприятиям. Он думал, что лучше было бы отвергнуть некоторые полезные народу предложения Фемистокла, нежели допустить его сделаться во всем сильным тем, что успевал во всех намерениях своих. Наконец, некогда Фемистокл предложил нечто полезное для республики, Аристид восстал против него и одержал над ним верх, но, оставляя Народное собрание, он не мог удержаться, чтобы не сказать, что афиняне не должны ожидать себе спасения, пока и Фемистокла, и его не бросят в Варафрон*. В другой раз Аристид предлагал народу некоторое мнение. Многие противоречили ему и спорили, но он одержал верх. Председатель хотел уже собирать голоса народа, но Аристид, приметя из говоренных речей, сколь вредно было предложение его, отстал от него сам. Нередко предлагал он мнения свои посредством других, дабы Фемистокл из ревности к нему не препятствовал полезным его намерениям.
Всего удивительнее казалось в Аристиде постоянство при переменах, происходивших в правлении. Он не возносился почестями, ему оказываемыми, кротко и спокойно переносил неприятности и неудачи, почитая долгом вести себя всегда одинаково и служить отечеству совершенно бескорыстно и, так сказать, даром, не требуя в награду не только богатства, но даже славы. По этой причине, когда однажды представляли на театре Эсхилову трагедию*, в которой говорится об Амфиарае:
Он справедливым быть, а не казаться хочет;
Глубокую бразду ума он пожинает,
Которая мудрые советы возвращает,
– все зрители обратили к Аристиду взоры свои, как бы ему преимущественно перед другими эта приличествовала похвала.
Он имел твердость для справедливости не только противиться дружбе и благосклонности, но забывать гнев и вражду. В один день обвинял он одного неприятеля своего пред судом. По принесении на него жалобы судьи хотели немедленно произнести приговор над обвиненным, отказываясь слушать его оправдания. Аристид, встав с места своего, вместе с обвиняемым начал просить судей, чтобы они выслушали его и оказали ему законное удовлетворение. В другой раз Аристид судил двух частных лиц; один из них говорил, что противник его во многом обижал Аристида. «Говори лучше, обидел ли он тебя, – отвечал Аристид, – я здесь сужу твое дело, а не свое».
Поручено ему было управление доходами республики. Он показал народу, что много похищено общественных денег не только управлявшими в его время, но и прежде его, особенно же Фемистоклом, который:
Хотя был мудрый муж, руками не владел.
По этой причине, когда Аристиду надлежало дать отчет в своем управлении, Фемистокл, собрав многих против него, обвинял в похищении общественных доходов и, как свидетельствует Идоменей, произвел то, что он был осужден, но первенствующие и лучшие люди в республике изъявили свое негодование. Аристид не только был освобожден от платежа пени, но сверх того управление доходами опять поручено ему. После того притворяясь, что раскаялся в прежнем управлении своем, не наблюдая равной строгости, он сделался приятен тем, кто похищал общественные доходы, ибо он не изобличал их и не требовал во всем подробных отчетов. Эти люди, пресыщаясь народными деньгами, превозносили похвалами Аристида, просили за него народ и всеми силами старались, чтобы поручено было ему вновь то самое управление. Народ готов был избрать его, и тогда-то Аристид упрекал афинян, говоря им: «Когда я управлял общественными доходами тщательно и верно, то был вами поруган, теперь, когда много их предал хищникам, кажусь вам отменным гражданином; я более стыжусь оказываемой мне ныне чести, нежели прежнего осуждения. Жалею о вас, у которых более приносит славы угождать бесчестным людям, нежели сберегать общественные доходы». Сказав это, он изобличил в похищении доходов тех самых, которые его превозносили и говорили в его пользу, заставил их молчать и приобрел искреннюю и справедливую похвалу со стороны лучших граждан.
Между тем Датис, посланный в Грецию Дарием под тем предлогом, чтобы наказать афинян за сожжение Сард*, на самом же деле – для покорения греков, пристал всем флотом* к Марафону и опустошал окрестные области. Афиняне избрали в войне десять полководцев, между которыми первым по важности был Мильтиад, вторым по силе и славе своей Аристид. Присоединяясь к Мильтиадову мнению о сражении*, придал он ему немалый перевес. Каждый из полководцев начальствовал поочередно по одному дню. Когда начальство досталось Аристиду, то он уступил оное Мильтиаду, наставляя тем соначальствующих, что повиноваться разумнейшим и следовать им нимало не бесчестно, но славно и спасительно. Укротив таким образом ревность и убедив других полководцев повиноваться одному лучшему совету, подкрепил он Мильтиада, который сделался сильным властью, ни с кем не разделяемою. Все вожди отказались уже начальствовать по очереди и охотно повиновались Мильтиаду.
В сражении более всех претерпел центр афинского войска. Персы долгое время сюда устремляли свои усилия против колен Леонтиды и Антиохиды*. Здесь оказали в битве блистательные подвиги Фемистокл и Аристид, устроившиеся один подле другого, первый принадлежал Леонтиде, другой Антиохиде. Когда неприятели обращены были в бегство и принуждены сесть на корабли, то афиняне, видя, что персы не плыли к островам, но ветром и волнами теснимы были во внутренность Аттики, боясь, чтобы они не застали города без защитников, с девятью коленами обратились с поспешностью в Афины, куда и прибыли в тот самый день*. На Марафонском поле оставлен был Аристид с антиохийским коленом для охранения пленников и добычи. В этом случае он не изменил славе своей. Золото и серебро было рассыпано по всему стану, в шатрах и взятых судах находилось несчетное множество разного платья и всякого богатства, но Аристид ни сам не возжелал коснуться до них, ни других не допустил к тому; разве иные тайно от него воспользовались. Из числа их был факелоносец Каллий*. К нему прибегнул некто из варваров, почитая его царем по причине длинных его волос и повязки на голове*. Он повергся пред Каллием, взял его правую руку и показал ему великое количество золота, закрытого в одной яме. Но Каллий, человек жесточайший и беззаконнейший, взял золото себе, а перса умертвил, дабы он никому о том не объявил. По этой причине комические стихотворцы назвали потомков его «Златокопателями», намекая с насмешкою на место, в котором Каллий нашел богатство.
После сражения Аристид получил достоинство архонта-эпонима. Впрочем, Деметрий Фалерский пишет, что Аристид был архонтом незадолго перед смертью, после Платейского сражения. В общественных записках мы не находим после Ксанфиппида, при котором Мардоний побежден при Платеях, ни одного имени какого-либо Аристида. Но Аристид показан архонтом тотчас после Фаниппа*; во время же архонства последнего дано было сражение Марафонское.
Изо всех добродетелей, украшавших Аристида, справедливость была ощутительнее всех для народа, поскольку польза, от нее происходящая, самая продолжительная, самая обширная. Итак, человек бедный, из простого народа приобрел прозвание самое божественное, самое приличное царям – прозвание Справедливого, которого не желал иметь ни один из владык и царей. Им весьма приятны наименования Полиоркетов, Никаторов, Керавнов, а некоторым из них прозвания Орлов и Ястребов*; по-видимому, они более прельщаются славой, происходящею от насилия и могущества, нежели от добродетели. Но божество, которому они подражать и уподобляться желают, тремя существенными свойствами отличается, а именно: нетленностью, могуществом, добродетелью. Добродетель выше и божественнее других свойств, ибо пустое пространство и стихии не подвержены тленности; землетрясения, молнии, порывы ветров, разлитье вод имеют великую силу; бог справедлив и правосуден, потому что умствует и рассуждает. Того ради и человек обыкновенно изъявляет к божеству три различных чувствования: удивление, страх и благоговение. Он ему удивляется и ублажает его за его нетленность и бессмертие, боится и страшится за его могущество и власть беспредельную, любит, чтит и благоговеет перед ним за его правосудие. Хотя чувствования людей таковы, однако они желают бессмертия, к которому природа наша не способна, и могущества, которое большей частью основывается на счастье; добродетель же, единственное божественное благо, от нас зависящее, полагают они ниже всех, не ведая, что жизнь людей в могуществе, в великом счастье и власти справедливость делают божественной, несправедливость – зверской.
Однако участь Аристида была такова, что прозвание Справедливого, за которое был столько любим, впоследствии возбудило против него зависть. Фемистокл более всех рассеивал в народе слухи, будто Аристид уничтожает все судилища, ибо судит все дела и управляет всем один, и, наконец, нечувствительно составил единовластие без телохранителей. Уже народ, гордясь своей победой и почитая себя достойным величайшей власти, не любил тех, кто славой и великим именем превышал простых граждан. Афиняне, собравшись в городе со всех сторон, определили остракизм Аристиду, называя зависть к его славе – страхом тираннии. Остракизм не почитался наказанием за дурные дела, его называли только благовидным именем укрощения гордости и ограничения силы, слишком обременительной для народа. В самом же деле то было некоторое легкое утешение зависти, которой недоброхотство удовлетворялось без жестоких средств, одним только десятилетним удалением оскорбляющего ее предмета. Когда же некоторые начали подвергать этому наказанию людей подлых и бесчестных и наконец изгнали остракизмом Гипербола, то афиняне перестали оное употреблять. Изгнание Гипербола, говорят, произошло по следующей причине. Алкивиад и Никий, имевшие в республике великую силу, были между собой в раздоре. Народ хотел уже прибегнуть к остракизму; не было сомнения, что одному из них надлежало быть изгнанным. Тогда Алкивиад и Никий, уговорившись между собой и соединив своих приверженных, устроили все так, что изгнан был Гипербол. Народ негодовал и, видя, что тем важность наказания унижена и обесчещена, уничтожил остракизм навсегда.
Чтобы дать некоторое понятие об остракизме, мы опишем, как оный происходил. Каждый гражданин брал черепицу, на которой означал имя того, кому хотел определить изгнание, и приносил ее в место на форуме, огражденное со всех сторон деревянным забором. Архонты считали все вместе собранные черепицы, и если число определивших изгнание было менее шести тысяч, то остракизм почитался недействительным. Потом отделяли порознь имена, написанные на черепицах. Того, с чьим именем было более черепиц, объявляли изгнаным на десять лет, с позволением пользоваться своим имением.
Рассказывают, что, когда афиняне подавали черепицы против Аристида, один из безграмотных и самых грубых граждан, встретившись с самим Аристидом, дал ему как обыкновенному гражданину черепицу, прося его написать на ней имя Аристида. Аристид в удивлении спросил у него, не сделал ли ему Аристид какого-либо зла. «Никакого, – отвечал он, – я даже не знаю этого человека, но мне досадно слышать, что его везде называют справедливым». Аристид, услышав это, не произнес ни слова, написал свое имя и возвратил черепицу. Удаляясь же из города, поднял он руки свои к небу и произнес молитву, совсем противоположную Ахилловой*; он просил богов, чтобы никакой случай не принудил народ афинский вспомнить об Аристиде.
По прошествии трех лет, когда Ксеркс, пробираясь через Фессалию и Беотию, хотел напасть на Аттику*, афиняне уничтожили постановление и позволили изгнанным возвратиться в отечество. Более всего боялись они, чтобы Аристид не присоединился к неприятелю и не убедил многих граждан передаться ему. Они худо знали Аристида; еще до этого постановления он не преставал побуждать и увещевать греков к защите вольности своей; и после оного, когда Фемистокл избран был верховным вождем всех военных сил республики, он ему содействовал во всем, давал ему советы свои и для спасения общего делал славнейшим человека, ему враждебнейшего. Когда Эврибиад и другие начальники хотели оставить Саламин и неприятельские суда ночью, обступив их, заняли вокруг все проходы и острова, чего никто не предвидел, то Аристид, пробравшись сквозь неприятельские корабли с необыкновенной смелостью и ночью придя к шатру Фемистокла, вызвал его одного и сказал ему: «Если мы благоразумны, Фемистокл, то должны уже оставить пустой и ребяческий наш раздор и начать между собою прение спасительное и достохвальное, соревнуя один другому для освобождения Греции. Ты будешь начальствовать и предводительствовать войсками, я буду тебе помогать и давать советы. Мне известно, что в настоящем положении дела ты один постигаешь полезнейшие меры, советуя как можно скорее дать сражение в узких проходах. Союзники тебе противятся, но неприятели, кажется, в том тебе содействуют. Все море вокруг нас и за нами покрыто уже неприятельскими кораблями, так что и не хотящие по необходимости должны будут сразиться и оказаться мужественными. К бегству не остается уже никакой дороги». Фемистокл на это отвечал: «Аристид! Я бы не хотел, чтобы ты в этом одержал верх надо мною, однако буду стараться, соревнуя столь прекрасному, сделанному тобою началу, делами своими превзойти тебя». Потом Фемистокл открыл ему хитрость, которую употребил, чтобы обмануть варваров, и просил Аристида представить Эврибиаду и ему, что невозможно спастись, не сразившись. Эврибиад имел более доверия к Аристиду, нежели к нему. Когда в совете полководцев коринфянин Клеокрит сказал Фемистоклу, что его мнения не одобряет и Аристид, который здесь присутствует и молчит, то Аристид возразил, что не молчал бы он, если бы Фемистокл не предлагал совета самого полезного, что теперь не говорит ни слова не из уважения к Фемистоклу, но одобряя его мнение.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?