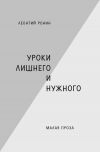Текст книги "Мистер Вертиго"

Автор книги: Пол Остер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Несмотря на мои приставания и отчаянное нытье, днем ее редко удавалось разговорить. Разве что вспомнит какой-нибудь случай, пробурчит что-нибудь под нос, и все. Как я ни упрашивал, она почти всегда от меня отмахивалась, но по вечерам, когда садились за ужин, становилась более благодушной. Она вообще была неразговорчива, не привыкла трепать языком и не любила, однако под настроение не прочь была повспоминать и оказалась неплохой рассказчицей. Рассказывала она просто, обходясь без живописных подробностей, но была у нее привычка вдруг задуматься, замолчать посредине начатой фразы, и эти ее паузы создавали потрясающий эффект. Я тогда тоже задумывался, примерял историю на себя, а потом, когда мамаша Сиу опоминалась и вела рассказ дальше, прошлое уже будто стояло перед глазами.
Однажды, без всяких видимых причин, она позвала меня к себе в комнату на втором этаже. Велела сесть на постель, а когда я устроился поудобнее, открыла крышку видавшего виды старого чемодана в углу. Я всегда думал, будто в нем лежат простыни и прочее белье, но в нем, как выяснилось, лежало прошлое: фотографии, бусины, мокасины и платья из сыромятной кожи, наконечники стрел, газетные вырезки и засушенные цветы. Она доставала их все по очереди, раскладывала на постели, садилась рядом на стул и принималась рассказывать про каждый предмет. Все оказалось правда: она и впрямь работала у Буффало Билла, – но что меня поразило, пока я разглядывал старые снимки, так это, какой она была тогда хорошенькой: стройная, с дерзким, смелым выражением лица, с полным набором белоснежных зубов и двумя длинными косищами. Настоящая индейская принцесса, мечта – как в кино, и мне никак не удавалось совместить ту крепенькую, аккуратную девушку с толстой угрюмой старухой, которая вела наше хозяйство, поверить, будто это одна и та же мамаша Сиу. Все началось, когда ей было шестнадцать, сказала она, тогда кто-то первый вспомнил о Плясках Духа, а к концу восьмидесятых это уже распространилось по всем индейским территориям. Времена были тяжелые, наступал конец света, и краснокожие люди решили, что остался единственный способ спасти народ от уничтожения, это колдовство. Индейцев вытесняли из прерий, загоняли в крохотные резервации, кавалерийские части теснили со всех сторон, и слишком их было много, этих Синих Мундиров, чтобы можно было надеяться на победу. Пляски были последним способом защищаться, индейцы собирались и выли, кружились, тряслись, входя в истерический транс, как психопаты в Шотландии или те самые придурки, которые доводят себя до экстаза, чтобы бессмысленным воем просить у Господа речи. От такой пляски – вернее, тряски – можно вылететь из своего тела, и тогда никакая пуля из ружей бледнолицых не догонит, и не убьет, и не напьется твоей крови. Пляски Духа стали плясать везде, а в конце концов и Сидящий Бык со своими людьми тоже. Армейские начальники перепугались – они боялись восстания в резервации – и велели Сидящему Быку, который приходился мамаше Сиу двоюродным дедом, прекратить это безобразие. Старик послал их подальше: в своем типи он может делать что хочет, даже сходить с ума, и кто они вообще такие, чтобы лезть в его личную жизнь? Потому Генерал Синих Мундиров (кажется, имя у него было Майлз или Найлз) позвал Буффало Билла, чтобы тот его уговорил. Сидящий Бык дружил с Биллом с тех пор, как когда-то давно работал у него в шоу, и мало кому из бледнолицых так доверял. Билл примчался в Дакоту на всех парах – бравый солдат, да и только, а Генерал все равно успел передумать и запретил встречаться с Сидящим Быком. Билл, понятно, что разозлился. Разорался и уже повернул было оглобли обратно, как вдруг заметил среди индейцев молоденькую мамашу Сиу (которую звали тогда Та-Чья-Улыбка-Подобна-Солнцу), немедленно подписал с ней контракт и взял к себе в труппу. Чтобы, значит, не возвращаться ни с чем. А ей он этим спас жизнь. Через несколько дней после ее отъезда и вступления в мир шоу-бизнеса Сидящий Бык был арестован, убит в стычке с охранявшими его солдатами, а через некоторое короткое время кавалерийский полк армии Соединенных Штатов уничтожил всех остальных – три сотни детей, стариков и женщин, – вступив с индейцами в бой, названный позже Битвой у Раненого Колена, хотя на самом деле это была никакая не битва, а обыкновенная бойня, когда их просто прирезали, как индюшек.
Мамаша Сиу рассказывала, и в глазах ее были слезы.
– Это Кастер нам отомстил, – сказала она. – Мне было два года, когда его нашпиговали стрелами, а к шестнадцати моим годам не стало нас.
– Эзоп мне рассказывал, – сказал я. – Я, может, чего и спутал, но вот чего точно помню, так это что белые потому и начали возить из Африки черных рабов, что индейцев трогать было нельзя. Эзоп сказал, они, конечно бы, с удовольствием сделали краснокожих людей рабами, но их главный священник из Старого Света запретил – сказал: нет, и всё тут. Тогда-то и позвали пиратов, и те поплыли в Африку и поймали там уйму чернокожих людей, заковали в цепи и увезли. Так Эзоп сказал, а я что-то не помню, чтобы он врал. К индейцам хотели хорошо относиться. Вроде как потому что «все люди братья» и прочая фигня – ну, чисто наш мастер.
– «Хотели», – сказала мамаша Сиу. – Хотеть одно, делать другое.
– Тут ты права, ма. Коли только болтать, а денег не давать, так это можно чего хочешь наобещать, а толку-то.
Она нагнулась и вынула из чемодана другие фотографии. Потом театральные программки, газетные вырезки и афиши. Поездила она не только по Штатам и по Канаде, но и по Европе. Она скакала на лошади перед королем и королевой Англии, давала автограф русскому императору и пила в Париже шампанское вместе с Сарой Бернар. Она ездила по гастролям лет пять или шесть, а потом вышла замуж за ирландца по имени Тед, невысокого, как все жокеи, а он был жокеем и выступал в стипль-чезе на лучших ипподромах Британии. У них была дочь по имении Даффодил, кирпичный домик и сад, где росли голубые зорянки и красные вьющиеся розы, и в течение семи лет счастью их не было границ. Через семь лет случилось страшное. Тед вместе с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе, а мамаша Сиу, не помня себя от горя, вернулась в Америку. Потом она второй раз вышла замуж, за слесаря, тоже по имени Тед, но только Тед Второй, в отличие от Теда Первого, оказался еще тот гулена, и мамаша Сиу все вспоминала свое прежнее счастье и вспоминала, и постепенно сама начала прикладываться к бутылке. Тогда они жили в Теннесси, на окраине Мемфиса, в жуткой хибаре, и однажды, летним утром 1912 года, совершенно неожиданно и случайно, мимо них по дороге прошел мастер Иегуда, а иначе давно бы лежать ей в могиле. Мастер шел и нес на руках Эзопа (всего через два дня после того, как нашел его посреди хлопкового поля), как вдруг из той самой хибары, которая тогда была ее домом, послышались крики и плач. Тед Второй с утра пораньше дубасил мамашу Сиу своими волосатыми кулаками, с первых же двух ударов вышибив ей шесть или семь зубов, а мастер Иегуда не привык проходить мимо чужого горя, и он вошел, осторожно посадил на пол больного ребенка, подошел сзади к Теду Второму, взял за горло двумя пальцами, большим и средним, надавил хорошенько и отправил поганца в мир сновидений, таким образом положив той драке конец. Потом мастер смыл ей кровь, лившуюся из разбитых десен и губ, помог встать на ноги и оглядел их убогое жилище. Чтобы принять решение, ему понадобилось секунд двенадцать, не больше. «У меня к тебе предложение, – сказал он изуродованной женщине. – Оставь эту мразь, пусть валяется, и пошли со мной. У меня на руках рахитичный ребенок, который нуждается в материнской заботе, и если ты возьмешь это на себя, я буду заботиться о тебе. Я нигде не живу подолгу, так что придется привыкнуть к странствиям, но клянусь душой своего отца, вы не будете голодать».
Тогда мастеру было двадцать девять лет, и выглядел он шикарно, с напомаженными закрученными усами и в безупречно повязанном галстуке. Как согласилась в то утро мамаша Сиу уйти вместе с ними, так пятнадцать лет потом и делила все превратности бродяжьей судьбы и воспитывала Эзопа, будто родного сына. Я не запомнил всех названий мест, которые она перечисляла, но самые интересные истории случились с ними в Чикаго, в городе, куда они часто заглядывали. Из Чикаго оказалась и миссис Виттерспун, и, едва мамаша Сиу принялась о ней рассказывать, у меня голова пошла кругом. Рассказы эти – как всегда у мамаши Сиу, обходившие красочные подробности – были и без подробностей до того ни на что не похожи, до того фантастически театральны, что прошло много лет, прежде чем я сумел сложить все воедино и восстановить примерную историю жизни Марион Виттерспун. Вышла замуж она, когда ей исполнилось то ли двадцать, то ли двадцать один. Ее муж был родом из Вичиты, из весьма состоятельной канзасской семьи, однако, едва получив наследство, переехал жить в большой город. По словам мамаши Сиу, он был красавчик, веселый и беспутный, и с до того хорошо подвешенным языком, что умел уболтать женщину быстрее, чем другой завязал бы шнурки. Все же три или четыре года молодая пара прожила неплохо, а потом мистер Виттерспун чересчур пристрастился к выпивке, не говоря уж о том, что без карт никогда и не жил и садился за карточный стол раз пятнадцать-двадцать за месяц, и уж конечно тогда проводил ночь не дома, а поскольку он предавался своим любимым занятиям скорей от души, чем от ума, то скоро от солидного доставшегося ему состояния остались рожки да ножки. В конце концов положение стало настолько отчаянным, что впору было брать жену и возвращаться в родные места, то есть в Вичиту, и ему, Чарльзу Виттерспуну, остряку, балагуру, франту, лучшему игроку всех Северных Штатов, подыскивать место в какой-нибудь душной страховой компании, где возиться с закладами на сено или коров до конца своих дней. Но как раз тогда (в четыре часа утра) на сцене (в задней комнате при бильярдной на Раш-стрит) и появился мастер Иегуда, и они сели играть вчетвером: мастер, вышеупомянутый мистер Виттерспун и еще два человека, чьих имен история не сохранила. Бедный Чарли проигрался до цента, потом захотел отыграться и едва не завыл от злости, получив трех вальтов и двух королей, – так что, как пишут в веселых журналах, это была явно не его ночь. Те двое бросили игру, а мастер Иегуда не бросил, а Чарли, поскольку это был его последний шанс, решил поставить на карту все. Сначала он стал играть на землю в Сиболе вместе с домом, который был дом его деда, то есть на расписку о передаче на них прав, – стал играть и проиграл, а потом написал другую расписку и сыграл на жену. У мастера Иегуды вышло на руки четыре семерки, и потому совершенно не важно, что вышло у мистера Виттерспуна, так как четыре семерки бьют любого туза, и мастер выиграл все – и землю, и жену, а бедный проигравшийся Чарли Виттерспун в отчаянии кинулся домой, вбежал в спальню, где спала его жена, достал из столика револьвер, выстрелил себе в лоб и забрызгал мозгами постель.
Таким образом мастер Иегуда оказался в Канзасе. После долгих скитаний по свету он наконец нашел место, которое стало им домом, и пусть дом оказался не совсем такой, как он его себе представлял, мастер не плюнул в колоду, где лежали четыре семерки. Я спросил: откуда же тогда у миссис Виттерспун деньги? Если муж у нее все проиграл, застрелился, то где она их берет – на дом, на красивые тряпки, на изумрудный «крайслер», – да еще и подбрасывает мастеру Иегуде на всякие там проекты? Мамашу Сиу вопрос не смутил. Да оттуда, что она умная. Миссис Виттерспун быстро сообразила, что с таким мужем никакого наследства не хватит, почитала разные книжки и начала каждый месяц вкладывать часть той ничтожной суммы, которую он выдавал на хозяйство, в займы, облигации и прочие ценные бумаги. К тому времени, когда Чарли застрелился, эти зернышки уже успели дать хорошие всходы: выросли ровно в четыре раза, а с таким капитальцем спокойно можно есть, пить, веселиться. А как же мастер? – спросил я. Если он ее выиграл, значит, она ему принадлежит, так почему же они не женились? Почему она не штопает ему носков, не варит обед и не носит в животе его детей и вообще живет в другом доме?
Мамаша Сиу медленно закивала головой, вверх-вниз, вверх-вниз.
– Мы живем в новом мире, – сказала она. – Никто никому здесь больше не принадлежит. Теперь женщину не продашь и не купишь, по крайней мере такую, как у нашего мастера. У них то любовь, то ненависть, то романы, то проблемы, то нужно чего, то не нужно, а время-то идет, а они-то привыкают друг к дружке. Балаган, театр, цирк и глупость в одной упаковке, и – доллар поставлю против пончика – так оно и будет до самой их смерти.
После таких рассказов материала для размышлений хватало, чтобы заполнить часы одиночества, но чем больше я размышлял, тем запутанней и непонятней мне все это казалось. Разбирать по составу настолько сложноподчиненные комбинации я не умел и в конце концов плюнул, сказав себе, что нечего ломать голову, того и гляди, замкнет где-нибудь в проводящих путях. Взрослых не поймешь, подумал я, лучше, если я сам тоже когда-нибудь стану взрослым, то тогда напишу себе нынешнему письмо, где все и объясню, а пока что с меня хватит. После чего я с облегчением вздохнул, но, освободившись от этих мыслей, быстро почувствовал мучительнейшую скуку, которая навалилась сразу всем своим белым, пушистым, порхающим однообразием, и в конце концов снова занялся работой. Не потому, что захотелось, а потому, что не нашел иного способа убить время.
Я опять заперся в своей комнате и через три дня бесплодных мучений наконец нашел ошибку. У меня оказался неверный подход. Отчего-то я с самого начала решил, будто подъем и движение это два разных этапа. Будто нужно сначала подняться, а потом перенастроиться и двигать «вперед». Вот я и старался выполнить задачу в два приема. Но на практике до «вперед» дело даже не доходило. Я поднимался в воздух и, как того требовал выбранный метод, начинал думать о том, чтобы переходить ко второй задаче, и тут же немедленно становился ногами на пол. Я повторял упражнение раз, два, три, десять, сто, тысячу, каждый раз выходило одно и то же, и в конце концов я до того разозлился на свое бессилие, что в ярости замолотил по полу кулаками. Вне себя, я вскочил и метнулся к стене расшибить к чертовой бабушке эту тупую башку. Движение длилось ничтожную долю секунды, тем не менее я, не успев даже коснуться побелки, вдруг почувствовал, что плыву, – в тот самый миг, когда ноги в прыжке оторвались от пола, сила тяжести меня отпустила и знакомая легкая волна понесла вверх. Не сообразив, в чем дело, я вмазался в стену и рухнул на пол, корчась от боли. Я грохнулся всем левым боком, но мне было наплевать. Минут двадцать я танцевал от счастья. Наконец я раскрыл секрет. Понял. Забудь про прямые углы, сказал я себе. По дуге, траектория про дуге. Нельзя сначала вверх, потом вперед – нужно одновременно вверх и вперед, одним плавным, спокойным движением отдаваясь во власть невидимого, обволакивающего пространства.
Потом восемнадцать дней, или двадцать, я работал как проклятый, совершенствуя эту технику, добиваясь, чтобы она вошла в плоть и кровь, превратилась в рефлекс, перестала зависеть от мысли. Освоить ходьбу по воздуху, похожую на прогулки по небу во сне, оказалось не проще и не сложней, чем ребенку научиться ходить, хотя и я поначалу, пока не расправил крылья, бывало, топтался на месте и падал. Главной моей задачей с того дня становилась длительность номера, иначе говоря – время и дальность движения. В начале разброс результатов был очень большой – от трех до пятнадцати секунд, но поскольку двигался я тогда невыносимо медленно, то даже и за пятнадцать успевал пройти в лучшем случае семь или восемь футов, так ни разу и не осилив расстояния от стены до стены. Красивой, радостной, легкой походки не было и в помине, шаг был осторожный, дрожащий – будто у канатоходца на высоком канате. Однако работал теперь я спокойно, без прежних истерик и слез. Пусть медленно, но я шел вперед, и мне все было по плечу. Своего предела в шесть или семь дюймов я тогда так и не одолел и потому решил сосредоточиться на ходьбе, отложив отработку высоты на потом. Когда научусь ходить, тогда займусь высотой и как-нибудь с ней тоже справлюсь. Такое решение показалось мне правильным, и, доведись начинать сначала, я принял бы снова его же. Откуда мне было знать, что время наше подходит к концу и дней нам осталось меньше, чем можно было подумать?
После возвращения Эзопа и мастера атмосфера в доме стала веселой и оживленной как никогда. Для нас заканчивалась целая эпоха, и мы думали только о будущем, без конца рисуя себе картины новой жизни вдалеке от канзасских степей. Эзоп собирался уехать первым – в сентябре в Йель, а в случае если бы наши расчеты оказались верными, то к концу года уехали бы и мы. Коли я перебрался на следующую ступень, то, прикидывал мастер, скорей всего, буду готов выступить перед публикой месяцев через девять. В том возрасте, в котором я был, девять месяцев тоже немалый срок, однако мастер впервые говорил о нашем отъезде как о чем-то реальном, замелькавшие в его речи слова «аренда, сцена, кассовый сбор» наполняли сердце восторгом, и от них внутри все дрожало. Я больше не был Уолтом Роули, уличной рванью, без семьи, без дома, которому-то и поссать-то по-человечески негде, я был теперь Уолт Чудо-мальчик, отважный дерзкий мальчишка, бросивший вызов одному из главных законов природы, освободившийся от силы тяжести, первый и единственный в своем роде настоящий воздушный ас. Стоит нам только выйти, показать миру, на что я способен, обо мне сразу заговорят, и я стану сенсацией, какой не бывало в Америке.
Что же до Эзопа, то его поездка по Восточному побережью уже закончилась фантастическим успехом. Эзопу устраивали специальные собеседования и экзамены, досконально исследовали, проверяли содержимое его курчавой башки, но, если верить мастеру, он им всем натянул нос. Эзопа согласились принять во всех колледжах и университетах, а Йель они выбрали потому, что тот давал еще и стипендию на все четыре года учебы, которой хватило бы на еду, жилье, и еще немного осталось бы на карманные расходы. «Бала-була-бульдоги всех стран, объединяйтесь!» Вспоминая об этом, я теперь понимаю, насколько невероятной была тогда эта его победа, победа юного чернокожего самоучки, перед которым пали холодные, неприступные бастионы элитарного образования. Но в те времена я еще не читал книг, и не было у меня линейки, чтобы измерить ею талант своего приятеля, – я просто знал, что он гений, и всё тут, и потому нисколько не удивился, услышав, что в Йеле все спят и видят, как бы его получить, и известие это показалось мне вещью естественной и вполне соответствующей нормальному порядку вещей.
Пусть я был слишком глуп, чтобы по достоинству оценить победу Эзопа над университетом, зато был сражен наповал его новым гардеробом. В дом он вошел в енотовой шубе, в сине-белом берете вроде нашлепки, и вид у него в этом наряде был уж такой непривычный, что едва я увидел его в дверях, как покатился от хохота. Кроме того, в Бостоне мастер Иегуда купил ему два коричневых твидовых костюма, и теперь, вернувшись, Эзоп не стал переодеваться в старое фермерское рванье, а разгуливал по дому в костюме, в белой рубашке с накрахмаленным воротничком, в галстуке и сверкающих, тупоносых, навозного цвета ботинках. Поразительно, до чего его изменила одежда: он, осознав в ней степень собственной важности и достоинства, будто бы стал даже ходить прямее. Эзоп начал бриться – хотя нужды не было никакой – и каждое утро взбивал в кружке мыльную пену и окунал в ведро с прохладной водой опасную бритву, а я торчал вместе с ним в кухне и помогал, то есть держал перед носом крохотное зеркальце и слушал его рассказы о том, что он видел на побережье Атлантики. Мастер не просто отвез его в университет, он дал ему ощутить настоящую жизнь, и Эзоп запомнил каждое ее мгновение, каждую минуту, дни плохие и дни хорошие, и дни, которые были так себе. Он рассказывал о небоскребах, о музеях и о театрах, о варьете, о кафе и библиотеках, об улицах, по которым ходят люди всех цветов и обличий.
– Канзас – это просто иллюзия, – сказал он мне как-то утром, сбривая свою иллюзорную бороду, – маленькая остановка по пути к реальности.
– А то я не знаю, – сказал я. – Да в нашей дыре все усохли еще до Сухого закона.
– Я в Нью-Йорке пил пиво, Уолт.
– Я б удивился, если б ты не попробовал.
– В забегаловке. Представляешь, нелегальное заведение на Макдугал-стрит, в самом центре Гринвич-виллидж. Жалко, тебя с нами не было.
– Терпеть не могу это мыло. Вот если «бурбон», тогда любого перепью, даже взрослого.
– Я не сказал, что мне понравилось пиво. Мне понравилось там стоять, в толчее, среди всех этих разных людей и пить пиво большими глотками.
– Спорим, тебе еще кое-что там понравилось.
– Лихо! Здорово угадал. Однако ты прав. Не только.
– Спорим, петушок твой там наконец поработал. Оно конечно, чего тут гадать, само собой.
На секунду Эзопова рука с бритвой застыла в воздухе, вид у него стал задумчивый, а потом он заухмылялся и наклонился к зеркалу.
– Могу сказать только, братец, что об этом мы не забыли, и хватит с тебя.
– Сказал бы хоть, как зовут. Я не тяну клещами, но хочется ж знать, кто была эта счастливица.
– Ну, если тебе так важно, то ее звали Мейбл.
– Мейбл. Что ж, с учетом некоторых обстоятельств, совсем и неплохо. Имя приятное – сразу ясно, что не кожа да кости, кой-чего еще тоже имеется. Старая, молодая?
– Не молодая, не старая. А насчет «кой-чего» ты попал в самую точку. Такая была мама негра – в жизни не думал, что такие бывают. Толстая, огромная – не поймешь, где начинается, где заканчивается. Это было вроде как барахтаться с гиппопотамом, Уолт. Но ничего – стоит начать этот танец, а потом природа сама сделает свое дело. Ложишься в постель мальчишкой, а уходишь мужчиной.
Получив аттестат мужской зрелости, Эзоп рассудил, что настала пора садиться за мемуары. Так он решил провести оставшееся до учебы время: рассказать историю своей жизни, начиная с того момента, когда он родился в глухом уголке штата Джорджия, и вплоть до ночи в борделе в Гарлеме, где он потерял невинность в объятиях толстой шлюхи по имени Мейбл. Писать он начал легко, однако его раздражало название, и помню, как он над ним мучился. Один день книга называлась «Исповедь чернокожего найденыша», другой – «Приключения Эзопа: правдивый и нелицеприятный рассказ о жизни пропащего ребенка», через еще один день книга стала называться: «Путь в Йель: жизнь чернокожего самоучки, от жалкой хижины до университета». Разумеется, перечень сей не полный, поскольку все то время, что он сидел над книгой, Эзоп думал и над названием, и в конце концов заглавных листков набралось столько, что пачка их была едва ли не толще рукописи. Эзоп работал над книгой ежедневно часов по восемь-десять, и помню, как тихонько заглядывал к нему, смотрел на его склоненную над письменным столом фигуру и поражался, сколько же нужно терпения, чтобы вот так сидеть целый день и ничего не делать, только царапать пером по каким-то паршивым бумажкам. Тогда я впервые столкнулся с писательством, и когда Эзоп меня приглашал послушать избранные места, соответствовать мне было трудно: я в равной мере утомлялся необходимостью сидеть тихо, а также степенью концентрации, какая требовалась от меня, чтобы вникать в его запинающийся рассказ. В его книге были мы все – мастер Иегуда, мамаша Сиу и я, – и на мой тогдашний, не тренированный слух это был настоящий шедевр. Иногда над некоторыми местами я смеялся, иногда плакал, но ради чего еще, как не ради этого пишутся книги? Сейчас, когда я пишу сам, не бывает и дня, чтобы я не вспомнил Эзопа. С тех пор прошло шестьдесят пять лет, а я и сейчас так и вижу, как он склоняется над столом, и пишет, и пишет, и свет падает из окна, подхватывает пылинки, и они танцуют и кружатся вокруг него. А стоит мне немного напрячь память, я слышу его дыхание, я и сейчас слышу скрип пера, царапающего бумагу.
Пока Эзоп сидел дома за столом, мы, не считаясь со временем, работали где-нибудь в поле. Как-то вскоре после их возвращения мастер, воодушевленный моим прорывом, объявил нам всем за обедом, что сеять в этом году не будем. «На кой черт возиться, – сказал он. – На зиму еды хватит, а к весне нас здесь не будет. По-моему, грех сажать то, что некому будет есть». Ответом на его предложение было общее ликование, и в первый раз за мою жизнь на ферме начало весны прошло без тяжелой страды, без пахоты, без непрерывной боли в разламывающейся от усталости пояснице. Мое открытие все переменило, и теперь мастер так в меня верил, что послал нашу ферму подальше. Любой на его месте поступил бы точно так же. Мы свое отпахали, и чего ради рыть землю носом, если завтра денег будет хоть отбавляй.
Все равно мы, конечно, уламывались – во всяком случае, я, – но моя работа мне нравилась, и сколько раз мастер велел повторить трюк, столько я и делал, ни разу не отказавшись. Когда установилась теплая погода, мы стали задерживаться допоздна, пока не поднималась луна, и работали при свете факела. Счастье будто само несло меня, как волной, и я не ведал усталости.. К первому мая я уже запросто мог пройти ярдов десять-двенадцать. К пятому – двадцать, а еще примерно через неделю – сорок: сто двадцать футов по воздуху, почти целых десять минут сплошного фантастического волшебства. Именно в тот день мастеру пришла в голову идея ходить по воде. В северо-восточной части наших владений, довольно далеко, так что уже не было видно от дома, был пруд, куда мы стали отправляться после завтрака каждое утро. Сначала я оробел – я не умел плавать, а проверка на прочность духа в поединке с сим элементом оказалась совсем не смешной. Пруд был глубокий – половина его была мне с головкой – и в ширину, наверное, футов около шестидесяти. В первый день я свалился в воду раз шестнадцать или, может быть, двадцать, и четыре из них мастеру пришлось нырять и спасать меня. На следующий день мы явились туда, запасшись сменной одеждой и полотенцами, однако всего через неделю в них уже не было нужды. Я догадался в воздухе представить себе, будто бы никакой воды под ногами нет, и таким образом сумел преодолеть страх. Если я не смотрел вниз, то мог пройти по ее поверхности, не замочивши ног. Все оказалось просто, и к концу мая 1927 года я разгуливал по нашему пруду не хуже Иисуса Христа. Когда я начал осваивать этот фокус, Линдберг совершил первый беспосадочный перелет через Атлантику из Нью-Йорка в Париж за тридцать три часа. Мы узнали об этом от миссис Виттерспун, примчавшейся из Вичиты с целой кипой газет на заднем сиденье «крайслера». Наша ферма была до того отрезана от прочего мира, что мы ничего не знали даже о крупных событиях. Не пожелай тогда миссис Виттерспун ехать в такую даль, так бы и жили в неведении. Мне это совпадение и по сей день кажется странным – я в Канзасе поднялся в воздух над крохотным прудом точно в то самое время, когда Линдберг летел через океан, и мы, каждый делая свое дело, были в воздухе одновременно. Будто небо вдруг открылось для человека, а мы стали в нем пионерами, Колумбом и Магелланом нового океана. Я в глаза его никогда не видел, но тут ощутил с ним некую внутреннюю связь, будто бы нас теперь соединяли узы тайного братства. Я не мог признать за простое совпадение и то, что самолет его назывался «Дух Сент-Луиса». Сент-Луис был и мой город – город чемпионов, город героев двадцатого века, и пусть Линдберг, этот Одинокий Орел, и не догадывался о моем существовании, он назвал свой самолет и в мою честь.
Миссис Виттерспун провела у нас два дня и две ночи. После ее отъезда мы снова занялись делом, сосредоточив внимание теперь на высоте. Горизонталь мы уже отработали, пора было переходить к вертикали. Признаюсь, вдохновил меня Линдберг, мне захотелось обойти его на очко: он летал в машине, а я хотел сам. Пусть у меня меньше масштаб, зато это совсем фантастика, и мой успех в одночасье затмит всю его славу. Как я ни бился, я ни на дюйм не поднялся выше прежнего. Полторы недели мы с мастером пытались понять, в чем причина, но безуспешно. Потом, вечером пятого июня, мастер выдвинул одно предположение, которое наконец позволило сдвинуться с мертвой точки.
– Я всего-навсего лишь размышляю вслух, – сказал он, – но по-моему, все дело в твоей подвеске. Весит она одну унцию – в крайнем случае, две, но, принимая в расчет сложность твоей задачи, возможно, этого и достаточно, чтобы тебя держать. При подъеме в направлении, противоположном действию силы тяжести, вес тела растет в геометрической пропорции за каждый миллиметр, а это означает, что на высоте в шесть дюймов на тебя давит дополнительная сила, равная примерно сорока фунтам. Что составляет половину твоего веса. Если мои вычисления верны, то наши неудачи оказываются весьма логичными.
– Я ношу эту штуку с Рождества, – сказал я. – Без нее не получится, это мой талисман.
– Получится, Уолт, получится. В первый раз, когда ты оторвался от земли, твой талисман был у меня. Помнишь? Понимаю твои к нему теплые чувства, однако мы в своем деле соприкасаемся с глубинными пластами духовных материй, и вполне вероятно, что ты, целый и цельный, никогда не сделаешь того, что должен, и, чтобы талант твой развился во всей полноте, для начала нужно отречься от части себя.
– Вряд ли он при чем. На мне ведь есть одежда? Есть. Есть носки, башмаки? Есть. Не только же палец меня тянет вниз, они тоже. И я что, черт побери, должен разгуливать перед публикой в чем мать родила?
– Почему ты не хочешь попробовать? Терять мы, Уолт, ничего не теряем, а вдруг возьмем да и выиграем. Не прав так не прав. Но – если прав – было бы очень жалко этого не проверить.
Так он меня убедил, и пусть неохотно, с большим сомнением, я снял шарик и отдал мастеру.
– Ладно, – сказал я, – проверим. Но коли не выйдет, потом со мной лучше об этом и не заговаривайте.
Я удвоил прежний рекорд высоты меньше чем через час – сначала было двенадцать, потом четырнадцать дюймов. К заходу солнца я поднялся на два с половиной фута, убедительно доказав справедливость догадки мастера, прозревавшего суть и корень нашего искусства. Восторг был полный – воспарить, оказаться буквально на грани полета, – однако сохранять вертикальное положение удавалось лишь до двух футов, а выше меня начинало качать и подташнивать. Такое случилось впервые, и я не удерживал равновесия. Тело будто вытягивалось, будто становилось составленным из частей, которые болтались в воздухе каждая сама по себе – голова и плечи отдельно, а ноги отдельно. Потому на двух с половиной футах я, чтобы не кувыркнуться, ложился параллельно земле, инстинктивно угадав, что горизонтальное положение здесь удобнее и безопаснее. Ни о каком движении вперед я даже не думал – я слишком переволновался, но зато в тот же вечер, когда мы, вконец вымотавшись, собрались идти домой, я, прежде чем опуститься, вдруг неожиданно для себя прижал к груди подбородок и медленно сделал сальто, описав полный правильный круг, и даже не чиркнул о землю.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?