Текст книги "Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души"
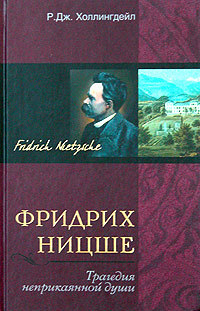
Автор книги: Р. Холлингдейл
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Каждый философ, чья мысль является крупным вкладом в философию, поначалу сталкивается с некоей новой ситуацией, которую, как он полагает, никто, кроме него, не способен осознать и объяснить. Классический тому пример – Кант, «пробудившийся от своей догматической спячки» пониманием того, что основные положения британской философии, особенно Дэвида Юма, ввергли мир в состояние необъяснимости и разрушили те основы, на которых прежде делались попытки дать этому миру объяснение. Теперь было довольно сложно опровергнуть их доводы; попросту говоря, умозаключения английской философии были справедливы, но неприемлемы. Для Канта Юм представлял опасность, которой нельзя было пренебречь; с ней следовало сойтись в открытую и создать новую картину мира, которая принимала бы во внимание юмовскую, но не сводилась бы ею на нет. Философия Канта стала ответом на вызов британского нигилизма – таков же и смысл философии Ницше. Главным противником был тогда Чарльз Дарвин, в чьем лице снискала славу теория эволюции. Нет необходимости специально указывать на то, что он не был автором этой теории; но есть необходимость подчеркнуть, что до Дарвина эта теория была одной из многих, касающихся происхождения человеческой расы, тогда как после Дарвина она считалась доказанной. Кризис философии, спровоцированный Дарвином, был, по существу, кризисом эволюции, ставшим насущной «проблемой» лишь после того, как своей гипотезой естественного отбора ученый доказал, что существует некий механизм, с помощью которого этот отбор мог бы происходить. Ницше принял фундаментальный смысл гипотезы Дарвина, а именно что человечество эволюционировало чисто натуральным путем через случайность: похоже, существовала некая цель этой эволюции, но Дарвин показал, что тот способ, которым эволюционировали высокоорганизованные животные и человек, заключался, возможно, в случайных видоизменениях особей. Естественный отбор был для Ницше, по существу, эволюцией, свободной от всякой метафизической подоплеки: до простого, но основательного открытия Дарвина было сложно отрицать, что мир следует некоему курсу, заданному головным предприятием; после него необходимость такого головного предприятия исчезла, и то, что казалось упорядоченным движением, теперь объяснялось чистой случайностью. «Вся природа мира, – писал Ницше в «Веселой науке», – это… хаос бесконечности» (ВН, 109), и эта мысль, ставшая основой его философии, возникла непосредственно из его понимания Дарвина.
Дарвинизм довершил взгляд на действительность, который вызревал в уме Ницше в течение юности. Во-первых, он утратил веру в доказательность религии: отныне смысл реальности был тайной. Он обратился за разъяснениями к Шопенгауэру, но в то же время вырабатывал противоядие против него на работах Ланге. Метафизический мир закрыт для человека – был ли он открыт Шопенгауэру? Нет, потому что он непознаваем. Все, что составляло предмет размышлений, было «представлением»; представлениями, соответственно, были и вещь-в-себе, и воля, – весь мир метафизики был представлением. Это отношение и принял Ницше. Феноменальный мир был единственным, где люди не имели возможности «соприкасаться» со сверхчувственной реальностью. И даже в том случае, если факт эволюции предполагал внешнюю силу, управляющую миром, Дарвин доказал, что и тогда в гипотезе головного предприятия не было нужды, чтобы дать объяснение наблюдаемым явлениям.
Последствия не замедлили сказаться. Бог, коли таковой существовал, был непознаваем: он мог быть не более чем представлением в умах человечества. Ничто существующее в феноменальном мире не исходит «извне». Если вселенная и познаваема, то она должна быть познаваема изнутри. Отчасти эту познаваемость объяснил Дарвин: «божественные» атрибуты человека на самом деле отпущены ему животным миром. Никаких контактов с «потусторонним» у человека не было, он ничем не отличался от любого другого существа. И как Бог был смыслом вселенной, так человек был смыслом земли. Таким образом, и Бог, и человек в их прежнем понимании более не существовали. Понятия вселенского и земного теряли смысл. Ощущение, что этот смысл улетучился, похоже, ускользнуло от внимания тех, кто приветствовал Дарвина как благодетеля человечества. Ницше считал, что эволюция давала верную картину мира, но что картина эта пагубна. Его философия явилась попыткой выработать новую картину мира, которая принимала бы во внимание дарвинизм, но не сводилась бы им на нет.
Знание и любовь Ницше к античной Греции были чрезвычайно глубоки, в этом отношении он особенно прославился тем, что отверг мнение Винкельмана и Гете о греках как о расе прекрасных детей, увидев в них жестокий, свирепый и воинственный народ, который создал культуру уникальной ценности умением управлять своими импульсами и перенаправлять их. Он показал, насколько эллинский мир обязан шестому веку (до н. э.), который ранее считался чуть лучше варварского пролога доблестям пятого; и вполне вероятно, что, даже если бы Ницше сам по себе не был оригинальным мыслителем, его бы помнили за экспозицию той эпохи. Его чувство к Греции шестого века настолько очевидно, что следует задуматься, не повлияло ли оно на его философию. Я полагаю, что в этом не остается никакого сомнения, если вникнуть в его мысли о сходстве времени, в котором он жил, со временем философов-досократиков[31]31
Сам Ницше, тем не менее, относится не к «досократикам», а к «доплатоникам». В работе «Философия в трагическую эпоху Греции» он говорит о «республике гениев от Фалеса до Сократа», и многим непонятно его восхищение досократиками, пока не становится ясно, что он считал Сократа последним из них.
[Закрыть]. Ситуацию своего времени он характеризовал как «нигилистическую»: ценности и значения утратили свой смысл, и философия столкнулась с необъяснимой вселенной в той мере, в какой этого не случалось с доплатоновской эпохи. Начиная с Платона, философия основывалась на предположениях, более не представляющих ценности, и, чтобы найти философов, которые стояли перед решением проблем, не имея предварительных исходных посылок, следует вернуться к Гераклиту, Пифагору и Сократу.
Ницше не только обнаружил природу своей дилеммы у греков, он также нашел ключ к ее решению. Задолго до того, как он сформулировал теорию воли к власти, он обнаружил, что движущей силой культуры эллинов было состязание, агон, желание превзойти. Неудовлетворенный приобретенной картиной жизни в античном обществе, он задействовал свое мастерство классического филолога, чтобы составить для себя соответствующую картину, как он полагал, более близкую к истинному положению дел. Это он, по существу, и считал предметом классической филологии. «Все научное и художественное движение [филологии], – говорил он в лекции «Гомер и классическая филология», – склонно… к наведению мостов через пропасть между идеальной античностью, которая, вероятно, является всего лишь буйным цветением тевтонской мечты по югу, и реальной античностью». В античном мире, как он выяснил, «базовые» эмоции были сложно переплетены с «высшими» эмоциями.
«Когда речь идет о гуманности, – писал он в статье «Состязание Гомера», одном из пяти «Предисловий к пяти ненаписанным книгам» 1872 г., – за этим кроется представление о том, что гуманность есть то, что отделяет и отличает человека от природы. Но на самом деле такого разделения нет: «природные» качества и те, что называются специфически «гуманными», сложно переплетены. Человек в его высшем и благороднейшем проявлении полностью природен и наделен опасным двояким природным характером. Те свойства, которые внушают ужас и считаются негуманными, на самом деле, возможно, являются той единственной плодотворной почвой, на которой может произрасти весь гуманизм в порыве, действии и деянии. Так и греки – самый гуманный народ античности – имели склонность к жестокости, к брутальному удовольствию разрушать».
Греки были жестоки, свирепы и хищны; тем не менее, они стали самым гуманным народом античности, изобретателями философии, науки и трагедии, первой и лучшей европейской нацией. Что вызвало к жизни этот эллинский мир? В «Состязании Гомера» Ницше заостряет внимание на первых строках поэмы «Труды и дни» Гесиода – фрагменте, который он называет «одной из самых примечательных эллинских мыслей», достойных немедленного усвоения вновь прибывшим странником при входе в эллинскую этику:
Знай же, что две существуют различных Эриды на свете,
А не одна лишь всего. С одобреньем отнесся б разумный
К первой. Другая достойна упреков. И духом различны:
Эта – свирепые войны и злую вражду вызывает,
Грозная. Люди не любят ее. Лишь по воле бессмертных
Чтут они против желанья тяжелую эту Эриду.
Первая раньше второй рождена многосумрачной Ночью;
Между корнями земли поместил ее кормчий всевышний,
Зевс, в эфире живущий, и более сделал полезной:
Эта способна понудить к труду и ленивого даже;
Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет,
Станет и сам торопиться с насадками, с севом, с устройством
Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству
Сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных полезна.
Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник;
Нищему нищий, певцу же певец соревнует усердно[32]32
Пер. В.В. Вересаева.
[Закрыть].
Этот отрывок Ницше комментирует так:
«Вся греческая античность думает о досаде и зависти совершенно иначе, чем мы, и рассуждают подобно Гесиоду, который в первую очередь определяет как зло ту Эриду, что ведет людей друг против друга к истребительным войнам, а потом восхваляет другую Эриду как добро, что, подобно ревности, досаде, зависти, поднимает людей на подвиги, но не военные подвиги, а состязательные».
Греки полагали, говорит он немного позже в том же предисловии, что «каждый природный дар должен развиваться путем состязания».
Он уже объявил, что «борьба есть постоянная пища души», и таким образом перефразировал философа, сказавшего, что «война есть отец всех вещей». Гераклит, «темный» мудрец из Эфеса, пророк «вечного становления», воплощал своим учением, как считал Ницше, глубиннейшее прозрение природы греческой души. В статье «Философия в трагическую эпоху Греции» он говорит о Гераклите с огромным вдохновением:
«Гераклит постиг актуальность борьбы противоположностей, говорит он, и эта концепция, извлеченная из чистейшего источника эллинизма… есть та самая добрая Эрида Гесиода, перевоплощенная в мировой принцип; это идея состязания… переведенная из гимназии и палестры, из художественных состязаний, из борьбы политических партий и из городов в наиболее обобщенный принцип, так что им регулируется механизм вселенной. [Более того, Гераклит учил] вечному и всеохватному становлению, тотальной нестабильности всего сущего, которое постоянно трудится и становится, но никогда не застывает на отметке «есть», [и это] ужасная и сбивающая с толку идея… Требовалась поразительная сила, чтобы перевести этот эффект в его противоположность, в возвышенное, в счастливое изумление».
То, как Ницше это представил, очень походит на его собственную зрелую философию, и позже ему придет в голову, что Гераклит, вероятно, учил тому самому вечному возвращению.
Как бы ни были привлекательны ранние философы, следует поостеречься (чего не сделал Ницше) и не впасть в иллюзию того, что осведомленность о них есть нечто большее, нежели весьма смутное представление. Они кажутся гигантами, но, возможно, это эффект туманной дымки, которая их обволакивает. Может быть, Гераклит был старым сварливым оригиналом вроде Шопенгауэра; тем не менее, Ницше живописует для себя героический портрет древнего мудреца, «гордого и одинокого искателя истины»[33]33
Лекция 10. Доплатоновские философы.
[Закрыть], и воспроизводит этот образ всякий раз, когда хочет убедить нас, что занятие философией – это трудное и одинокое призвание. Фигура Ницше – Гераклита, непреклонного и одинокого на фоне альпийских скал, имеет тенденцию возникать в каждом произведении Ницше, начиная с работы «Человеческое, слишком человеческое» и кончая «Ecce Homo». «Скиталец» из последней части сочинения «Человеческое, слишком человеческое» (ЧС, 638), из пролога и эпилога части «Скиталец и его тень», из раздела 380 «Веселой науки» – все это Ницше – Гераклит. Таков же, в свете доктрины огня Гераклита, и автопортрет, ставший содержанием стихотворения под названием «Ecce Homo»:
Ja! Ich weiss, woher ich stamme!
UngesКttigt gleich der Flamme
GlЁuhe und verzehr ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich.
(Да! Я знаю, где я прянул!
Ненасытный, точно пламя,
Я горю и жру себя.
Все светло, что я хватаю,
Пепел все, что покидаю:
Несомненно, пламя я.)
(ВН, 62)
В философе, ведущем совсем не сократический диалог в лекции 1872 г. под названием «О будущем наших образовательных учреждений», уже угадывается Ницше-отшельник, современная версия Гераклита. Вот как философ описывает свое предназначение:
«…Хотите ли вы жить жизнью пустынника во враждебном удалении от толпы?
…Полагаете ли вы, что можете одним рывком достичь того, что я под конец намеревался завоевать сам только после долгой и упорной борьбы, чтобы хотя бы иметь возможность жить, как философ? И не боитесь ли вы, что одиночество станет вам мстить? Но попытайтесь жить жизнью отшельника культуры – нужно обладать неимоверным богатством, чтобы жить ради блага всех на собственные средства!» (Лекция 1).
Наиболее впечатляющий автопортрет Ницше в позе Гераклита – это фигура Заратустры, гордого и одинокого искателя истины, еще более гордого, одинокого и загадочного, чем его прообраз.
Но у личности Ницше была и другая сторона: терпеливый исследователь, «ученый» философ, который углублялся в мелкие, частные вопросы и пытался постичь реальность в ее деталях. Именно эта его сторона обнаружила себя, когда он назвал философию «опытом» [Versuch] и принял эксперимент в качестве философского метода:
«Предоставьте мне какой угодно сомнительный план, на который я мог бы ответить: «Давайте испытаем его!» [Versuchen wir's!] Но я не хочу более ничего слышать о чем-либо или о каком-либо вопросе, который не допускает эксперимента» (ВН, 51).
Эту свою сторону он отождествлял с Сократом. Locus classicus аргумента в пользу того, что Ницше восхищался Сократом и вылепил себя по его образу и подобию, является глава 13 книги Кауфманна, к которой я должен отослать читателя. Сократовский тон – разумный, логический, слегка язвительный, с насмешкой, в том числе и в свой адрес, – более типичен для Ницше, чем полагают те, что знакомы только с Заратустрой. Более того, сам Сократ, гораздо более живой и реальный, чем по большей части вымышленный Гераклит, составлял «проблему» для Ницше, занимавшую его постоянно: проблема Сократа (СИ, II) была проблемой самого разума, и сознание того, что разум, способность обосновывать – дар неоднозначный, позволяло Ницше одновременно восхищаться им и называть «декадентом». В очерке «Опыт самокритики», предпосланном в качестве предисловия к изданию «Рождения трагедии» 1886 г., Ницше говорит, что «задачей» книги было «уловить… проблему самой науки…» (РТ, предисловие, 2):
«…каково с точки зрения признака жизни значение всей науки? Каков конец – или, хуже, каково начало – всей науки? Может быть, дух науки не более чем страх перед лицом пессимизма и бегство от него? Изощренное средство самозащиты против – правды? А с моральной точки зрения что-то вроде трусости и лжи? С аморальной – лукавство?» (РТ, предисловие, 1).
Этот знак вопроса, поставленный против философии как таковой, персонифицировался для Ницше в фигуре Сократа, человека, который стал «рационален до абсурда». Сократу приходилось сражаться с инстинктами своего века, и, чтобы «успешно бороться против инстинктов, существует формула декаданса: пока жизнь восходит, счастье и инстинкт суть одно» (СИ, II, 11). Но все философы борются с инстинктами своего века:
«Что в первую и последнюю очередь требует от себя философ? Преодолеть в себе свой век… Я, в той же мере, что и Вагнер, – дитя этого века, иначе говоря – decadent: только я осознал это, только я защищался от этого» (В, предисловие).
Ницше приходилось «преодолевать свой век», но бороться с инстинктами века декаданса означало быть не меньшим декадентом. Философия была, строго говоря, самовопрошанием о жизни, и в этом смысле была симптомом декаданса. Здоровая жизнь – радостная жизнь, говорит он, а там, где боль и страдания доминируют над радостью, жизнь нездорова, то есть в упадке. Радостную жизнь не нужно пояснять, она сама себе подтверждение. Только там, где возобладало страдание, ощущается потребность в «объяснениях». И наоборот: там, где даются объяснения (то есть философия), можно ожидать такое состояние дел, когда жизнь представляется несчастной.
Таким образом, Дарвин и греки, а не Вагнер и Шопенгауэр служили отправными точками философии Ницше; и причина, почему его ранние работы кажутся фальстартом, состоит в том, что он пытался истолковать дарвиновские проблемы и прецедент Древней Греции в свете эстетики Вагнера и метафизики Шопенгауэра. И только пройдя этот этап, он обратился к своей собственной теории.
4Мировоззрением Вагнера и Шопенгауэра пронизана первая книга Ницше, «Рождение трагедии», которая начинается с изучения греческой культуры и оканчивается полемикой вокруг опер Вагнера. Она включает двадцать пять разделов; перемена курса прослеживается начиная с раздела 16, и вторая часть книги носит характер обобщения уже готовых утверждений. Работа «Рождение трагедии из духа музыки» была опубликована в январе 1872 г. Двумя годами ранее Ницше читал в Базеле лекции «Греческая музыка-драма» и «Сократ и трагедия», и ни одна не имела ровно никакого отношения к Вагнеру и его художественным устремлениям. В июле 1870 г. Ницше совершил поездку в Трибшен в компании Роде и, пока был там, прочел собравшемуся обществу «Греческую музыку-драму». «У Вагнера возникли «определенные сомнения» по поводу лекции, – пишет Ньюман, – и он поделился с молодым профессором «ясными и проницательными» замечаниями». Этих «сомнений» Вагнера было в ту пору достаточно, чтобы заставить Ницше усомниться в направлении своих мыслей относительно греческой культуры, и уже лучшее впечатление он произвел скетчем своей будущей книги – предположительно под названием «Происхождение трагической идеи». Его он подарил Козиме на Рождество 1870 г. «Козима пришла в восторг от скетча, но в своем дневнике сделала характерную запись, что ей было «особенно приятно, что идеи Рихарда могут распространиться и на эту область». Как всегда, в существовании юного профессора она не усмотрела иного смысла, как быть полезным Вагнеру своими греческими штудиями»[34]34
Цит. по: Newman Ernest. The Life of Richard Wagner. London, 1947. Vol. 4. P. 319; цитаты в цитате взяты из дневника Козимы.
[Закрыть].
Работа над самой книгой «Рождение трагедии» началась примерно в начале 1871 г. 15 февраля Ницше был предоставлен университетом отпуск по состоянию здоровья, и он отправился в Лугано вместе с Элизабет; там, рассказывает Элизабет, он непрестанно трудился над новой книгой. Вероятно, представление о том, какой именно она должна быть, сложилось в его уме самое позднее к концу февраля, поскольку все это изложено в предисловии, написанном в этом месяце. Это предисловие, адресованное Вагнеру (впоследствии оно было заменено более кратким предисловием к изданию 1872 г.), четко дает понять, что книга вовсе не о Вагнере, а о греческой культуре и ее значении для Германии 1870-х гг. Рабочим названием книги была «Греческая жизнерадостность», и обсуждение музыки-драмы Вагнера никоим образом здесь не предполагалось.
В начале апреля Ницше покидает Лугано и возвращается в Базель, но по пути заезжает в Трибшен, где остается с 3 по 8 апреля. Вполне обоснованно полагать, что к тому времени «Греческая жизнерадостность» была завершена и что Ницше захватил ее с собой, чтобы прочесть Вагнерам. Мы можем только догадываться о событиях той недели, но напрашивается вывод, что Вагнер уговорил Ницше переделать книгу, чем тот и занялся по возвращении в Базель. 26 апреля Ницше послал рукопись первой ее половины Фрицшу, уведомив его о том, что «истинной целью» его сочинения было пролить свет на феномен Вагнера в связи с его отношением к греческой трагедии. Теперь книга называлась «Музыка и трагедия». Октябрь Ницше провел в Лейпциге с друзьями Роде и Герсдорффом и тогда же передал Фрицшу полную рукопись «Рождения трагедии из духа музыки». Краткое «Предисловие Рихарду Вагнеру» датировано «концом 1971 г.».
Убедительность и значительность книги придали особый вес доводам в пользу того, что драма-музыка Вагнера является возрождением античной трагедии, и, даже при отсутствии прочих доказательств, этого единственного факта достаточно, чтобы понять, насколько Ницше подчинился влиянию Вагнера. В его письмах того периода нет никаких указаний на то, что книга подверглась переделке против его воли или убеждений: Вагнер побеседовал с ним, и теперь он увидел вещи в ином свете, – вот до чего доходило дело. Все, что касалось изменений, происходивших в душе Ницше, он до поры до времени хранил про себя; что касалось его публичных действий, он горел желанием сделать все, что содействовало бы делу Вагнера. Что до самого Вагнера, то он был не способен поступать иначе, чем поступал. Сказать, что он слишком поспешно выступал в печати по самому незначительному поводу, – это значит ничего не сказать. Он блестяще усвоил фундаментальную аксиому ремесла публициста: заставь знать свое имя – и распространил свое собственное на всю германскую прессу столь беспримерным образом, на какой стала способна только рекламная индустрия нашего времени. Уже говорилось о том, что многими публикациями он причинил себе больше вреда, чем извлек пользы; что в деле обретения непопулярности он был злейшим из своих врагов и что путь его был бы менее тернист, если бы он умел обуздать склонность к публичным дебатам. Но в его случае это было невозможно. Вагнера никогда не волновала непопулярность, собственные заблуждения, но не было на свете другого человека, кто бы столь же небрежно относился и к своему «доброму имени». Он не жаждал доброго имени, он добивался власти и славы, и, поскольку он действительно их желал, он их имел. Последующие поколения пребывали в полной иллюзии, что именно оперы стали причиной шумихи, сопровождавшей имя Вагнера во второй половине его жизни, тогда как истинное положение вещей заключалось в том, что Вагнер был автором и опер, и шумихи, причем часто они никак не были связаны; будь он сапожником, он сделал бы себя самым обсуждаемым сапожником в истории сапог. Поэтому нет нужды задаваться вопросом, был ли интерес Вагнера обусловлен его расчетом на то, что книга Ницше «Рождение трагедии» будет способствовать продвижению его, Вагнера, мероприятия. Еще один публичный печатный орган – и этого уже было достаточно.
Эффект, который книга произвела на публику, отвечал всем ожиданиям: убежденный вагнерианец полагал, что она восхитительна, и первое издание быстро разошлось; но коллеги Ницше по профессиональному цеху сочли, что он излишне пожертвовал научными стандартами в угоду пропаганде. Такого мнения придерживался Ричль, которому Ницше заблаговременно послал копию в конце декабря 1871 г.; в своем дневнике от 31-го числа Ричль откомментировал прочитанное как «geistreiche Schwiemelei», что можно перефразировать как «интеллектуальный дебош». Ницше прождал ответа месяц и затем, 30 января, написал учителю письмо, выразив разочарование, что не получил его замечаний. Ричль ответил 14 февраля. Он был вежлив, но мнения своего не скрывал: он отверг книгу на том основании, что это был труд не ученого, а дилетанта, каковое обстоятельство могло повлечь за собой недооценку достоверного знания студентами. Это был почти самый суровый приговор профессиональному филологу, к тому же абсолютно обоснованный. Но тон, которым он был вынесен, во многом сгладил боль суждений, и, пересылая это письмо Роде, Ницше заметил, что Ричль не «утратил своего дружеского великодушия» к нему.
Первая резкая публичная отповедь пришлась на 1 июня с публикацией статьи Ульриха фон Виламовица-Меллен-дорфа «Zukunftsphilologie!» («Филология будущего!»). Виламовиц, филолог, бывший учеником Пфорташуле одновременно с Ницше, расценил «Рождение трагедии» как бесстыдное извращение филологии в интересах Вагнера и обвинил автора в серьезнейших фактологических ошибках и общей некомпетентности. Против Виламовица в октябре выступил Роде со статьей «Afterphilologie» («Субфилология» или «Филология злословия». – Примеч. пер.), прозванной «Открытым письмом филолога Рихарду Вагнеру». Роде обвинял Виламовица в «безграничной тупости и безграничной лживости», а также в неспособности понять, что же имел в виду автор. Ницше сам снабдил своего друга материалом для «Субфилологии» и 25 октября написал ему, что и сам он, и другие коллеги Роде нашли, что памфлет вышел «в духе Лессинга». Но это были еще далеко не все беды, которые «тупой» Виламовиц призвал на его незадачливую голову. В ноябрьском выпуске «Музыкального еженедельника» появилось «Открытое письмо Фридриху Ницше, профессору классической филологии Базельского университета», сочиненное самим Meister! Нет сомнений, что Вагнер имел добрые намерения, но его защита Ницше, справедливо раскритикованная Ньюманом как «хвастовство неисправимого дилетанта», обернулась для того большим злом, нежели вся прочая критика. В начале 1873 г. Виламовиц возобновил драку, затеянную в «Филологии будущего!» статьей «Zukunftsphilologie! Zweites Stu ck» («Филология будущего! Часть вторая»), направленной теперь уже скорее против Роде, чем против Ницше. Перепалка на сей раз переросла в фарс: первое выступление Виламовица задало оскорбительный тон по отношению к Ницше и его книге; Роде ответил примерно тем же; Вагнер, имевший в своем арсенале неисчерпаемый запас ругательных эпитетов, назвал Виламовица «задиристым мужланом»; теперь снова подошел черед Виламовица, и тот вдвое усилил удары по врагу. Впоследствии Роде и Виламовиц дружно смеялись над этим эпизодом своей молодости – все удары оказались достаточно безобидными, ни один не достиг цели; дружеское послание Ричля оказалось гораздо более болезненным.
Что все это означало для Ницше, становится ясно из письма Вагнеру, написанного в середине ноября 1872 г.:
«После всего, что случилось со мной за последнее время, я на самом деле не имею права впадать в уныние, так как живу поистине в солнечной системе дружбы, утешительной поддержки и вселяющей силу надежды. Но есть одно обстоятельство, которое в данный момент ужасно меня тревожит: зимний семестр начался, а у меня совершенно нет студентов! Наши филологи так и не появились!.. Сей факт объясняется весьма просто: я вдруг приобрел столь дурное имя среди своих профессиональных коллег, что наш маленький университет страдает от этого!.. Вплоть до последнего полугодия число филологов постоянно росло – теперь их всех словно ветром сдуло!»
В течение зимнего семестра 1872/73 г. он прочел всего одну лекцию, и ту для двух нефилологов. Вина за все это частично лежит на пропаганде Вагнера, однако его по-настоящему серьезная ошибка заключалась в том, что он позволил себе абсолютно непрофессиональное обращение с предметом, в котором считался квалифицированным специалистом. Теперь понятно, что он вынашивал определенные филологические идеи, смутно маячившие перед его мысленным взором, и в своем исследовании античной трагедии попытался обозначить их. Но современники увидели в черно-белом цвете лишь то, что бросалось в глаза: совершенно ненаучное исследование проблемы, для решения которой едва ли хватило бы всего имевшегося в наличии научного аппарата.
Ранняя философия Ницше, за исключением тех рукописей, которые он бросил или счел слишком слабыми для публикации, находит свое отражение в «Рождении трагедии» и «Несвоевременных размышлениях». Поле исследования – культура; цель – обнаружить, какой тип культуры наилучшим образом содействует появлению «философов, художников и святых».
В «Рождении трагедии» ценно то, что объединяет ее с философией Ницше в целом: это гипотеза о том, что творение есть продукт состязания и что созидательная сила – это подконтрольная и перенаправленная страсть. Недостатком данного произведения является его опора на дуализм воли и представления, природы и человека (здесь они выступают под именами Диониса и Аполлона), метафизический характер которого Ницше, похоже, не осознает в полной мере. Книга начинается ошибочным сравнением, которое показательно для этой путаницы:
«Было бы весьма выигрышно для эстетической науки, если бы… пришли к сознанию, что поступательное движение искусства зависит от двойственности аполлонического и дионисийского начал подобно тому, как продолжение жизни зависит от двойственности полов» (РТ, 1).
Двойственность полов не является двойственностью в том же смысле, что и Аполлон с Дионисом: Аполлон и Дионис воплощают противоположные побуждения, тогда как мужское и женское начала представляют противоположные аспекты одного и того же побуждения. Ницше мыслит Аполлона и Диониса не как явления, а как «принципы», и в этом качестве их можно описать только метафорой: мечта и опьянение так же соотнесены друг с другом, как аполлоническое и дионисийское начала:
«Аполлон, как бог всех пластических сил, есть в то же время и бог, вещающий истину. Аполлона можно назвать великолепным, божественным образом principii individuations, в жестах и взорах которого с нами говорит весь восторг и мудрость «иллюзии», со всей ее красотой… Дионисийское опьянение [просыпается] либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем… приближении весны… [Человек] чувствует себя богом, он сам шествует теперь столь же восторженный и возвышенный, какими видел во сне богов. Человек уже больше не художник: он сам стал творением искусства; художественная мощь всей природы… явлена в этом исступлении…» (РТ, 1).
Художник «имитирует» видения или опьянение или, в редких случаях, и то и другое вместе:
«Относительно этих непосредственных состояний природы каждый художник является только «подражателем», и притом либо аполлоническим художником видения, либо дионисийским художником опьянения, либо, наконец, – как, например, в греческой трагедии – художником и опьянения, и видения одновременно» (РТ, 2).
Аполлоническое искусство – это искусство масок; не в силах вынести лица действительности, художник надевает на него маску «иллюзий». Это распространяется и на Олимпийский пантеон.
«Тот же инстинкт, который нашел свое воплощение в Аполлоне, породил и весь олимпийский мир вообще… Какова же та огромная потребность, из которой возникло столь блистательное собрание олимпийских существ?.. Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслониться от них блистающим образом-видением – олимпийцами… Где бы мы ни сталкивались в искусстве с «наивным», мы вынуждены признать наиболее мощное действие аполлонической культуры, которой всегда приходится сначала опрокидывать царство титанов и убивать чудовищ и при посредстве могущественных и радостных иллюзий одерживать победы над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной восприимчивостью к страданию… Гомеровская «наивность» может быть понята лишь как совершенная победа аполлонической иллюзии…» (РТ, 3).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































