Текст книги "Звездочет"
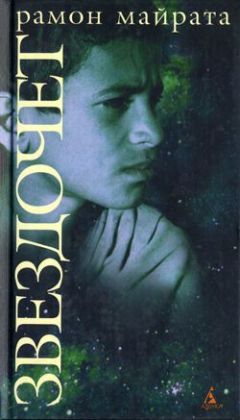
Автор книги: Рамон Майрата
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
19
Не успев коснуться простыни, Звездочет начинает видеть сон – ему снится, что город его испепеляет война. Утром Дон врывается к нему в спальню с латунными похмельными глазами, отполированными боевым задором, удивительным в столь ранний час.
– Подъем! – командует она, стягивая с него простыни. – Едем предотвращать штурм.
Он встает, полный сомнений, одурманенный сном, в котором речь шла под конец о том, что будет после смерти, а развязку он не может вспомнить.
– Почему так рано? – протестует он, суя руки под струю воды.
Она, заглядывая из-за его спины в зеркало, подправляет себе губы красной помадой.
– Без твоего отца ночи для меня невыносимы.
Она оставила автомобиль у подъезда, и мальчишки из квартала, толкаясь и переругиваясь, исследуют «паккард-36». Звездочет наспех забрасывает в чемодан пяток вещей.
– Война не может ждать, – поучает Дон.
Тронувшийся автомобиль испещрен скабрезными надписями. Он коброй вьется в лабиринте кадисских улочек, еще темных. Солнце едва лизнуло блестящие купола сторожевых башен и потекло по итальянскому мрамору высоких галерей, а внизу, у тяжелых деревянных дверей, еще клубятся сумерки. Море дает о себе знать лишь мерными вздохами – пока они не выезжают на площадь Сан-Хуан-де-Дьос. С серьезной сдержанностью наблюдает Звездочет за музыкантами своего оркестра, связанными по рукам и ногам тяжелыми инструментами и совершенно потерянными среди толпы, штурмующей автобус кофейного цвета с блестящими никелированными бордюрчиками.
Фридриху уже удалось занять место. Его смутный далекий профиль, полный невыразимой печали, выдающей одинокую и самоуглубленную душу, маячит за треснувшим стеклом, по которому разбежалась отвратительная паутина.
Они проезжают мимо, и, когда пересекают Ворота-на-Сушу, воздух становится более свежим. Звездочет наблюдает, как взгляд красноватых, подобно голубиным, глаз Дон преодолевает слой пыли на грязном лобовом стекле «паккарда», как он проникает сквозь легкий туман, окутывающий квартал Сан-Северьяно и густонаселенное предместье Сан-Хосе. Именно сейчас, когда начинается это путешествие, Звездочет в первый раз сравнивает лицо Фридриха, полускрытое за тревожной паутиной треснувшего стекла, с живыми и решительными чертами лица женщины рядом с ним, ведущей машину. Робкое, серебрящееся солнце освещает второе водохранилище, а по другую сторону дороги, на берегу моря, темный пляж Виктории и силуэты летних шале едва начинают голубеть.
Она больше не произносит ни слова. Кадис заканчивается замком Ущелья, чьи бастионы господствуют над единственной дорогой, выводящей из города. У подножия его охровых каменных стен, увитых плющом, они проходят первый контроль. Между султанами агав и лопастями опунций стоит длинная очередь крестьян, молча и покорно ожидающих, пока жандармы обыщут их поклажу и разрешат им войти в Кадис. Один жандарм, только что погружавший руки по локоть в корзину с оливками, заляпал им пропуска.
Перешеек, который соединяет город, крепко объятый океаном, с континентом, тянется между морскими волнами, остервенело бьющимися о пустынный пляж, и спокойными водами бухты. На нем хватает места лишь для шоссе и железнодорожного полотна. Утро уже начинает наливаться всепроникающим светом, вдоль дороги на телеграфных столбах плещутся нацистские флаги и штандарты – должна приехать с визитом делегация «гитлерюгенда». По недостатку средств свастику отпечатали только на лицевой стороне полотнищ, поэтому если едешь из Кадиса, видишь полыхающие по сторонам красные знамена.
Дон с непонятной Звездочету страстью начинает говорить о войне. Шоссе изрыто выбоинами, кое-где содрано покрытие, – ужасно, но она не хочет снижать скорость, будто от этого зависит жизнь. Оси «паккарда» скрежещут и пугают чаек, которые, взлетая, устремляются во все стороны. Она объясняет ему, что Гитлер решил превратить Средиземноморье в главный театр военных действий – в качестве альтернативы невозможной высадке на Британских островах. «Если он сможет завладеть Суэцким каналом и Гибралтарским проливом, двумя воротами Средиземноморья, Англия окажется совершенно изолирована от своей империи. Его идея – сформировать на континенте антибританский блок, куда входили бы и Франция с Испанией. На наше счастье, эти две страны оспаривают друг у друга север Африки, и Гитлер не может поддержать испанские интересы в Марроко и Алжире без того, чтобы не потерять поддержку правительства Виши». Война вулканирует на ее губах – как и по другую сторону автомобильных стекол. Страдающий бездельем часовой нацеливает на них свое ружье и держит их на мушке, пока они едут мимо гнилых деревянных бараков стрельбищ Торрегорды. Шоссе сворачивает налево, чтоб пересечь речку Арильо, соединяющую воды бухты с Атлантикой. Вдали, на солончаках Львиного острова, отделенного от твердой земли каналом Санти-Петри, образуется соль, которую насыпают белыми пирамидами среди ярко-зеленой травы.
Когда они въезжают в городок Сан-Фернандо, солнечный свет, ослепивший их блеском соляных пирамид, тонет в глухой черноте людской толпы. Прохожие в трауре по погибшим в недавней гражданской войне жмутся к стенам домов, как облако комаров, отстраняясь от автомобиля, который подскакивает на булыжниках Королевской улицы, по ошибке свернув с шоссе. Над кронами араукарий, дающих тень этому моряцкому городку, сохранившему дух восемнадцатого века, возносятся трубы республиканского крейсера, который стоит в сухом доке арсенала Ла-Каррака. Только что закончили демонтаж противовоздушной батареи, и в синем небе бухты кран нервно встряхивает орудия.
Она погружена в свои мысли, когда раздается свисток, обязующий их остановиться. Они недалеко от замка Сан-Ромуальдо, который стережет мост Суазо через канал, осушивший низкий берег. Сеть накрыла щиповок, которые конвульсируют на сухой, обезвоженной глине. Жандармы прерывают игру в карты и подходят к автомобилю. Солнце сверкает на лакированной коже их головных уборов. За ними увязывается осел, которого они конфисковали и теперь не знают, куда девать. Они изучают пропуска и вдруг замечают бидоны с бензином, которыми нагружен «паккард».
– Эй, Звездочет! – нетерпеливо кричит Дон. – Из каждых пяти слов четыре я не понимаю. Разговаривают на этом ужасном андалусийском. Я не понимаю, что они говорят.
– Говорят, что в горах расплодились бандиты и что от одного выстрела могут вспыхнуть бидоны и мы взлетим в воздух.
– Скажи им, что отсюда до Альхесираса нет ни одной бензоколонки.
– Говорят, что и так это знают. И чтоб мы ехали осторожно.
Зеленая пена огородов и виноградников начинает вытеснять зольные растения и розовато-голубоватую ряску солончаков. Взгляд мальчика взбирается по холмам Святой Анны; стая горлинок оживляет сонные руины замка Йро. Когда они достигают Чикланы, шоссе превращается в проспект с растущими вдоль него деревьями. Справа улицы взбегают в гору.
– Я счастлива. Пойдем что-нибудь выпьем. Она сворачивает налево и останавливается на главной площади, расположенной несколько на отшибе у реки. На вывеске единственной таверны – какая-то выцветшая птица. На фоне белой стены – темная расщелина входа. Войдя, они на несколько мгновений цепенеют под воздействием сонной атмосферы, царящей внутри. Потом Звездочет ускользает в туалет, а она стучит по стойке, радостно крича:
– Есть ли что выпить?
Отмахиваясь от тучи мух, Звездочет краем уха слышит ее голос, и в него закрадывается подозрение, что война ей по душе. Вернувшись, он видит ее в выжидательной позе, с поднятой рюмкой.
– Это чиклана. Она так же хороша, как херес.
– Я не пью.
– Хотя бы смочи губы, юноша. Я хочу, чтоб мы подняли тост.
– За что?
– За эту войну.
Звездочет закрывает глаза: он пытается осознать леденящий тост. Это очень характерное для него движение, придающее особую выразительность его лицу. Он закрывает глаза, когда разговор становится особенно напряженным или когда вокруг происходит что-нибудь исключительное. Но это отнюдь не значит, что он отключается от внешнего мира.
– Ты думаешь, я сумасшедшая?
Укутанная в темноту таверны, где лишь чудесно сияет вино, как бы подвешенное в воздухе, она чувствует, что мальчик с закрытыми глазами ждет чего-то и, внимательный ко всему происходящему, не упускает ни жеста, ни слова. Она догадывается, что внешний мир входит в него другими путями, помимо зрения и вкуса, и проникает в него на такую глубину, какой никогда не достигнуть ни взгляду, ни обонянию. Она не настаивает больше на тосте, но замечает с неловкостью, что он впитывает малейшее ее движение, пока она пьет свою первую рюмку. Ей не по себе.
– Но война – это что-то ужасное, – говорит он наконец.
– Не всегда, Рафаэль, – облегченно начинает спорить она. Щеки ее вспыхивают, она спешит оправдаться: – Смотри, в Англии я работала в одной страховой компании. Скучнейшая работа. Все дни отвратительно однообразны. У меня было такое чувство, что я отказываю себе во всем, даже в любви. Поскольку я говорю по-испански, меня направили в твою страну, когда закончилась гражданская война. Британское правительство только что признало Франко, и я уезжала из Лондона, когда там каждый день проходили демонстрации протеста против этого. Моя задача заключалась в том, чтоб возобновить работу компании в Испании и принимать участие в делах, касающихся выплат за причиненный войной ущерб. Но сразу же со мной вступило в контакт наше посольство.
В то время как она рассказывает, чувства мальчика, к ее удивлению, яснейшим образом отражаются на его лице. Кажется, что его закрытые глаза под сведенными от напряжения бровями проникают благодаря их собственному свету сквозь сумрак, в который погружены его мысли. В глубине этого сумрака дышит странная правда – лишенная видимостей, первозданная.
– Почему они выбрали тебя?
– Очень просто. Работа в страховой компании предоставляла мне надежное алиби для поездок по всей Испании. Конечно, – продолжала она, – в мои возможности не слишком-то верили. Вначале мне давали пустяковые задания. Потом я познакомилась с твоим отцом. Тогда я поняла, что могу делать что-нибудь и поважнее для моей страны.
Внутренний взгляд, который она ощущает на себе, одновременно и скрытый, и всепроникающий, для нее – тайна. С тех пор как они познакомились, она помнит мальчика молчаливым в шуме любовных безрассудств его отца, притаившимся среди лихорадочно кружащих голубей и взрывов чувств, всегда в замешательстве от всех и всего, от любви и от войны, всегда склоненным над самим собой, как писатель над чистым листом.
– А моя страна? Что будет в моей стране, когда закончится война? – спрашивает он.
– Если победит Германия, из мира исчезнут гражданские свободы и вся земля превратится в один гигантский загон для рабов. Но если победим мы, все страны примут демократическую систему. И твоя тоже. Поэтому я и пью за войну, Рафаэль, что она освободит все народы от большой опасности и даст им свободу.
Впервые ей кажется, что ее слова проникли за опущенные веки мальчика. Когда он открывает глаза, они полны света, голого света, как солнце, которое беспощадно зажигает кучу развалин. Он поднимает дрожащую рюмку и решается выпить за эту необходимую войну, леденящую ему сердце.
– Первый раз пробую вино, – признается он.
– Тебе нравится?
– Похоже на уксус.
– Так вот скажу тебе, что это замечательное вино.
Золотым всполохом исчезает вино между его губ, оставив чистый и прозрачный стеклянный след.
20
Стайка ребятишек, хрупких скелетов, готовых вот-вот рассыпаться, бежит за ними до самого выезда из Чикланы. Они маячат за мутным стеклом, а Звездочет глухим, как рокот колокола, голосом произносит:
– Это дети умерших.
Тогда Дон вспоминает, куда они едут, и, быстро оторвавшись от преследующих детей, выводит машину на шоссе, которое между сосен и каменных дубов скользит к Соломенной лагуне. Блеск солнца слепит их, время от времени бросая им в глаза вспышки от ружей карабинеров и военных патрулей и снова топя их в общем сиянии пейзажа. Она упрямо повторяет, желая видеть все простым и ясным:
– Если мы выиграем войну, вам нечего бояться. Наверняка вы вернетесь к монархии. Мы уж позаботимся о том, чтобы дать пинка Франко и фашистам.
Она опустила стекло, и ее слова улетают в настороженно молчащие поля, где колышутся на ветру лохмотья неузнаваемых мундиров на солдатах, сидящих в засадах. Они очень молоды и похожи на усталых и голодных нищих. Некоторые из них уже сражались на этой двойственной и противоречивой войне. Уже шесть лет они воюют то за одних, то за других. То против одних, то против других. Они неподвижны, как чучела, и лениво меняют позы, лишь когда зашевелится кустарник или быстрая тень, как дикая кошка, мелькнет на шоссе и группа всадников отнимет у них кофе, табак или антибиотики и исчезнет в горах, не настигнутая апатичным и неуверенным выстрелом. Кажется, что мешки с контрабандой, взваленные на коней, едут совершенно самостоятельно; только они да шевелимые ветерком листья реальны на этой земле.
Глаза Дон выискивают приготовления к войне, а видят жестокую борьбу за выживание. Солдаты откладывают свои маузеры или шмайссеры и, как ястребы, кидаются на сигаретный окурок, который она выбрасывает из окна. Шоссе тянется параллельно невидимому побережью; кажется, они проехали уже тысячу километров.
– Куда мы едем? – спрашивает Звездочет, увидев, что они свернули с дороги и катят вниз по устью высохшего ручья между лоснящихся от солнца косогоров.
Она указывает на крыши, виднеющиеся среди сосен и дрока, где свет дробится тенями:
– В Кониль.
– Для чего?
– Я договорилась встретиться там с одним человеком.
– С кем?
Искры разговора – часть дуэли между влюбленной женщиной и одиноким подростком.
– Его зовут Епископ, он хозяин ремонтной мастерской и один из наших агентов, – отвечает она, когда земля кончается и синие лоскутья моря просачиваются вдруг между белыми домиками Кони-ля. – Все это побережье кишит шпионами «оси», Рафаэль. Немцы организовали разведывательную сеть в прибрежных селениях, которая позволяет им отслеживать движение кораблей, проходящих по заливу. Они также используют рыбацкие суда с коротковолновыми передатчиками. Благодаря этим данным их субмарины потопили много кораблей из наших конвоев. С помощью Епископа нам удалось задержать в открытом море «Энрике-два», одно из этих фальшивых рыбацких судов, и радист передал нам немецкий шифр. Поэтому я хочу встретиться с этим человеком. Для нас он герой, и я хочу лично сказать ему об этом.
Городок мертв в этот час сиесты; пестрые пятна, тени и солнце – вот все, что они видят. Только однообразный стук кирок разбивает сумрачную тишину улиц: на берегу заключенные строят фортификационные сооружения. Но из дверных и оконных проемов, чернеющих на фоне ослепительной белизны стен, доносится как бы жужжание пчелиного роя: это грозди невидимых глаз наблюдают за ними. Кипит вода в радиаторе автомобиля. По дороге они мельком заметили пехотный полк, не в самом блестящем виде, стоящий в Чанка-Вьехе, и флаг жандармерии на здании почты. Сейчас сигнал рожка обнаруживает, что городок полон солдат. Одна рота занимает церковь Святого Духа, а другая, инженерная, – мэрию, из подвалов которой доносится странное для сего места лошадиное ржание. Небо парит над городком, как пестрая птица. Вечереет.
Они спрашивают о ремонтной мастерской. Им приходится разговаривать с темными зарешеченными окнами, из-за которых отвечают безликие существа. И лишь в таверне, благодаря нескольким рюмкам вина, Дон удается сломить молчание и выжать пару слов из запечатанных осторожностью губ.
– Мастерская? Какая мастерская? Если нет ни для кого работы, с тех пор как рыбаки перестали выходить за тунцом? Сейчас эта мастерская, о которой вы говорите, превратилась в стойло для осла, и ничего более. Она возле кладбища, которое роют заключенные в Лас-Анимасе.
Они поднимаются по склону до забора, который шатается под напором двух противоположных ветров – одного с моря и другого с суши. Заключенные взламывают спину горы и вырубают в ней могилы. Под одним из деревьев громоздится куча костей, на которую слетают засохшие листья. На соседствующих со смертью пределах стоит мастерская, сохраняющая покосившуюся вывеску: «Ремонт». Их облаивает собака, когда они стучат по неокрашенной раме закрытого окна; она все лает, хотя на порог уже выходит молодая полная женщина, которая, впрочем, по-старушечьи дрожит и вытирает о фартук руки, обклеенные чешуей.
– Нет его, – отвечает она.
– А куда он ушел?
– Так, с ослом… За свечой.
– Мы его подождем, – говорит Дон.
Она не позволяет им войти. Закрывает за собой дверь, и дом превращается в неприступную крепость, внутри которой они слышат прерывистое возбужденное дыхание. Собака то рычит, то лает в течение этих часов. Они понимают, что таков ее способ чувствовать себя живой. Когда заканчивается сиеста, день уже практически прошел. Заключенные прекратили долбить камень и исчезли. На сколах блестят кварц и отполированные бока ископаемых ракушек.
Дон снова стучит в окно:
– Скажите нам, где мы можем его найти. Мы пойдем его искать.
Из-за решетки двери доносится:
– Скоро вы увидите его на пляже, сеньора. Как и всех.
Улицы городка наполняются печальными силуэтами, которые колеблют вечерний сумрак. С высоты холма они видят толпу калек, стариков, женщин и детей в трауре, которые идут к пляжу и погружают свои ступни в песок. Свежий морской ветер расталкивает эту процессию одноруких, хромых, слепых, кособоких, растягивает ее темным языком по пляжу. Это тоже – война. Впереди шагает ослик, несущий зажженные фонари. Он привязан за ногу, и его силуэт покачивается, как лодка на фоне сереющего пляжа, который через несколько минут окончательно погрузится в темноту. Осел, хромая, уходит по песку, оглушенный, должно быть, древним рокотом темного океана. Его такая домашняя и привычная фигура растворяется во тьме.
– Что они делают? – удивляется Дон.
Звездочет вдруг понимает, что они как бы смотрят фокус, но с запретной для зрителей стороны – где видно, как он делается. Мирный деревенский силуэт измученного животного исчез в темноте, на его месте покачиваются лишь два фонаря.
Напротив, во взрыхленном волнами море, вспыхивают желтые огни какого-то судна. Дон представляет себе глаза матросов, всматривающихся в этот фальшивый горизонт с фонариками, покачивающимися на спине осла, как в продолжение океана. Во тьме ночи они верят, что разглядели путеводную звезду, на которую надо держать курс. До нее внезапно доходит смысл происходящего: если трюк удастся, судно сядет на мель, и толпа его атакует, потому что по морским законам третья часть груза корабля, потерпевшего крушение, достается тому, кто его спасает. Судно качнулось, кажется, оно готово развернуться к берегу.
– На что способны люди, чтобы выжить! – бормочет Дон в замешательстве от увиденного.
Но сегодня судьба не улыбнулась несчастным. Судно в конце концов проходит вдалеке, а ослик, осыпаемый руганью, возвращается в окружении нищих. Когда человек, равнодушный к тому, что могли они натворить, и животное, уставшее от своей насильственной иноходи, приближаются к забору, Дон выступает от стойла навстречу им:
– Это мог быть один из наших кораблей.
– Тем лучше. Английские корабли больше нагружены.
– Но ведь вы работаете на нас.
– Я не могу бросить мою семью на произвол судьбы. Откуда-то мы должны брать картошку, яблоки и яйца. А от этого никто не умирает. Они всего лишь садятся на мель, а потом мы им помогаем снова выйти в море.
– Ограбив их.
– Послушайте, сеньора, то, что мы выловили бы в море, нам никогда бы не продать в этом богом забытом месте.
Поспав несколько часов в автомобиле, остановленном в первом попавшемся месте, Дон открывает глаза и видит мир, который узнает лишь отчасти, где к грубости войны добавилась растерянность.
– Я верила в его честность, – говорит она. – Этот человек нам очень помог. А сейчас я спрашиваю себя, почему он это делает.
От Кониля до Барбате одна дорога бежит вдоль берега, а другая – в конце пляжа Пальмар ответвляется и взбирается на скалы Вехер, окутанные туманом, в котором мелькает что-то белое.
– Видишь это? Как странно! – говорит она, указывая на белые клочья света в разрывах тумана. – Похоже на лучезарные туники, туники ангелов, которые летают над горой.
Звездочет, наверное, подумал о чем-то веселом: его разбирает смех. Серый туман начинает рассеиваться, и постепенно свет до полной ясности отполировывает вершину, на которой возвышаются несколько мельниц; лопасти их напряжены ветром.
– Ты спутала мельницы с ангелами, – смеется мальчик. – Это мне напоминает историю, которую рассказал дон Ромеро Сальвадор. Там говорилось об одном кабальеро – он сражался с мельницами, как будто бы это были великаны.
По мере того как цилиндрические башни мельниц приближаются, оси под деревянными крышами начинают скрипеть, а лопасти – поворачиваться все медленнее.
– Почему их останавливают? – спрашивает она недовольным тоном, потому что это прекрасное видение примирило ее с собственной ошибкой. – Они не ангелы, но божественны.
– Как я понимаю, правительство покупает урожай зерна за очень низкую цену в обязательном порядке. Земледельцы продают намного меньше, чем собрали. Если бы они так не делали, у них не было бы хлеба. И они мелют свое зерно тайком, ночью или в туман, чтоб инспектора об этом не узнали.
Вернувшись на главное шоссе, они оставляют в стороне скользкий склон Ла-Муэла, по которому тянутся вниз, как голубые вены, ручейки воды, стекающие с грузовиков, перевозящих рыбу. Справа дорога теряется в долине, а потом снова возникает на склоне горы Вехер, прорезая, как ножом, свой извилистый путь. Прижавшись щекой к стеклу, Звездочет созерцает золотые слитки соломенных хижин, разбросанных по полям среди дубов и зарослей терновника. Дон отрывает руку от руля и показывает на кубистический силуэт городка над отвесной скалой, отчетливо прорисовывающийся на прозрачном небе. Через несколько минут резкое нажатие на тормоз заставляет их подпрыгнуть на сиденьях.
Дорожное происшествие. Обвалился фрагмент древнего римского моста в селении Ла-Барка. Мост не выдержал веса пушки, которая сейчас высовывается из фиолетового ила реки. Солдаты, стоя по пояс в воде, бессильно упираются вымазанными в глине руками в стальной ствол. Дон решается пересечь пострадавший мост. Среди криков солдат слышатся рычание мотора и срывающийся шелест шин по шатающимся камням растрескавшихся арок.
Начиная от Ла-Барки заметны свежие ссадины следов, оставленных артиллерийской колонной. Как сомнамбулы, бродят солдаты, ступая по мутно-белым вязким берегам лагуны Ла-Ханда. Стаи уток, голубей и лысух репетируют свой отлет в Африку в небе, которое, отражаясь в насыщенной минералами воде лагуны, превращается из синего в пепельное. Нет никаких следов знаменитой пушки, обещанной Гитлером, но на горизонте взгляд как магнитом притягивается фантастическими силуэтами «виккерсов» и «круппов», с мертвым спокойствием нацеленных на пролив.
Толстый человек с бородой, как куст ежевики, укрывшийся от солнечного жара под сенью одинокого пробкового дуба, сигналит им, чтоб они остановились. Его огромное тело, одетое в лохмотья, кажется куском скалы, отломившейся от хребта Фатас, который виден как раз за его спиной. На нем плетеный пояс с привязанной к нему сумкой, в которой он что-то прячет. Возможно, браконьер. Он просит довезти его до Тарифы. Насилу втискивается в дверь машины.
В этой зоне через каждые несколько километров их останавливает контроль. Они боятся за человека, занявшего все заднее сиденье. Но когда тощие солдаты подходят и разглядывают сумку великана, лица у них вытягиваются и они тут же отпускают автомобиль.
От Фасинаса дорога устремляется прямо к морю. Человек почти ничего не говорит. Когда Дон его о чем-нибудь спрашивает, отвечает односложно и туманно. Обломки кораблей, как остовы деревьев, торчат из воды у Лос-Кабесоса. Впервые вдали появляются берега Африки, вытесняя из мыслей Европу. Перед въездом в Тарифу человек просит, чтоб его высадили возле разрушенной башни. Когда он выходит из автомобиля, среди руин появляется собака, которая, завидев его, виляет хвостом. Только тогда они видят, что в руках у него по пистолету, которые он запихивает за пояс. Из-за пазухи он достает лист бумаги и передает его Дон. Это листовка, подписанная объединением антифашистских сил.
– Отдайте это англичанам и скажите, что для некоторых война еще не кончилась и они продолжают сражаться. – Он говорит весомо, но с трудом, будто забыл, как это делается.
Потом человек и собака уходят, а солнце бьет им в спины: кажется, они оставляют солнечный след. Он гаснет в сказочных бастионах Тарифы.
Дорога вслепую кружит вдоль крепостных стен и выводит к Голубиному острову. На одиноком волнорезе несколько солдат стоят в карауле возле пехотных казарм, с глазами такими напряженными, будто выглядывают утонувший перстень, – там, где воды Атлантики и Средиземноморья сшибаются лбами и смешиваются, истекая кипящей пеной. По другую сторону пролива величественная горная цепь накачивает мускулы проходящим облакам. До нее рукой подать. Она похожа на лежащую на спине женщину.
Длинная набережная, по которой метет ветер, связывает остров с Тарифой, раскинувшейся на холме за крепостными стенами. Они оберегают ее уютный мирок перед лицом необъятного горизонта. С высоты виден порт, где бороздят воду торпедные катера. Душераздирающие вопли группы женщин, смешиваясь с воем ветра, взмывают по круто берущим вверх, словно лестницы, и на удивление пустым улочкам. В это самое утро, на рассвете, местные рыбаки, вытягивая из моря сеть, заметили, что она слишком тяжела. Но времени на догадки у них уже не было: страшный взрыв пустил судно ко дну. Живое серебро пойманной рыбы скрывало мину. Из пятнадцати членов экипажа спаслись трое. Они только что сошли на берег, обессиленные, поддерживаемые под руки, и склоняют головы, когда колокола начинают звонить по погибшим. Толпа, подобная огромной черной волне, ползет за ними к церкви. Снова вышло из облаков пышное солнце, и столбы пыли, которые взметает на пустой набережной ветер, загораются золотом.
Покинув Тарифу, шоссе начинает подниматься на Сьерра-де-Кабрито. Длинные вереницы штрафников из дисциплинарных батальонов бредут босиком по кюветам. Не обращая внимания на опасные повороты, их автомобиль обгоняют три черных лимузина. Это делегация итальянской фашистской организации «Дополаборо» едет с визитом в Альхесирас. Проезжая, итальянцы приветствуют несчастных поднятыми руками, а те отворачиваются и цедят сквозь зубы ругательства, со взглядами, затерянными в Африке, и липкими от глины кулаками, словно приваренными к телу.
Звездочет тоже чувствует освобождение, созерцая другой континент. Перед этой панорамой идея универсума перестает быть абстрактной и становится конкретной и осязаемой. Он знает, что воображение его расширяется и он никогда уже не перестанет стучать в каменные ворота этих фиолетовых гор, таинственных, как зеркало. Здесь, в проливе, страна, в которой он живет, кажется ему и более далекой, и более близкой одновременно. Простой пейзаж его детства, в котором открылась ему жизнь, берег Кадиса, полон окон, дающих выход его воображению в иную реальность. Кадис – это отплывающие корабли, живые краски заморских стран, которые радугой переливаются над горизонтом, ревностная свобода местных жителей, презирающих законы, как птичьи ловушки, магия его отца, для которого слово «невозможно» не имеет никакого смысла, и загадки, сверкающие драгоценными камнями в стихах, хранимых, как сокровища, за губами сеньора Ромеро Сальвадора.
Дон продолжает говорить об орудийных стволах, которые торчат, направленные на море, между вереском и волчьей ягодой по заросшему кустарником склону. В ее голосе раздражение. Будто боится, что эта война без фронтов, полыхающая вокруг, война одиноких мужчин и женщин против голода и смерти, может смести принципы ее собственной войны, такие четкие и ясные. Внезапно она видит следы «своей» войны. Среди кустов, над которыми гудят пчелы, валяются почерневшие останки английского четырехмоторного самолета.
– Похоже, что он загорелся раньше, чем упасть, – говорит она. – Мы приближаемся к зоне военных действий.
Между голыми пробковыми дубами появляется венчающая горную гряду скала Гибралтара. Она покрыта зеленью, среди которой зигзагом движется череда грузовиков к замаскированным батареям. Красные вспышки фонарей на сигнальной башне придают скале смутное сходство с вулканом, готовящимся к извержению. На другом берегу бухты стоит на возвышенности Альхесирас, окруженный холмами, по которым течет Ла-Мьель, Медовая речка. Последний паром, отплывающий в Танжер, гаснет оранжевой искоркой среди больших военных кораблей, набивших до отказа бухту, в которой отражается закатное солнце.
– Видишь это белое пятнышко вон там, над обрывом? – говорит Дон. – Оттуда немцы контролируют все побережье. Это вилла «Кончита», сердце их разведывательной сети.
Вдруг звено самолетов испещряет розовый свет заката. Она нахмуривает брови, и тоска вздымает ей грудь – Звездочету кажется, что он узнает смятенное хлопанье крыльев запертых в комнате голубей. Ее руки вцепляются в руль, и «паккард» мчится по улицам Альхесираса, не обращая внимания на удивленных полицейских-регулировщиков. Прожекторы мельтешат над скалой Гибралтара, из порта на полной скорости вылетают быстроходные катера. Они прибывают в Ла-Линеа, когда первые столбы дыма начинают окутывать скалу, а по бокам кораблей поднимаются водяные смерчи. Стадо овец, пасущихся на ничейной земле, начинает метаться среди блокгаузов и колючей проволоки.
В этот час рабочие-испанцы обычно возвращаются из арсенала и с верфей. Десять тысяч мужчин и женщин толпятся у таможни со своими котомками на плечах. Несмотря на то что за их спинами пулеметные очереди уже завесили все небо, они пытаются предъявить свои чеки на покупку разрешенных продуктов и показать мешки, в которых белый хлеб прикрывает жестянки консервов, килограмм кофе или фунт сахара. Пограничники не знают, что делать. Отблеск взрывов выдает растерянность на их лицах.
Местные контрабандисты – «арампа» – пользуются этими мгновениями замешательства. Сотни собак бросаются бежать с привязанными к спинам пакетами, проскальзывают сквозь проволочные ограждения, перепрыгивают пулеметные гнезда. Пограничники нервно стреляют, в то время как взрывы другой войны заглушают хлопки их ружей.
Выжившие собаки убегают по улицам Ла-Линеа и прячутся за дверями, которые им открывают. Все это длится едва ли десять минут. Стекла «паккарда» вылетели. Она сжимает его руки. Они не могут ни слышать, ни видеть, задыхаясь в густом угольном дыму, поднимающемся с горящей набережной Гибралтара.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































