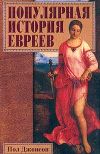Автор книги: Райнер Ханк
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Поэт Вильгельм Гауфф, теолог с университетским образованием, считал, что начинающаяся индустриализация и «похожее на везение в азартной игре» процветание благодаря удачной спекуляции капиталом деморализуют общество, разрушают семейные узы и служат почвой для «поиска наслаждений, пьянства, безделья и мошенничества». Деньги пульсируют, как теплое, бьющееся сердце. Но пульс денег – это холодный ритм доходов от процентов и курсов, процесс обогащения, который с самого начала христианско-иудейской традиции считался бесполезным приумножением, по причине чего торговец и спекулянт представлялись холодными, злыми и бесполезными в сравнении, например, с ремесленником, создающим ценности своим собственным трудом. Нужно догадываться о чем-то, что есть в этом мире мифологических образов (в который в начале XIX века вписывается и Карл Маркс), чтобы научиться понимать долгую традицию сердечной символики и ужесточившийся в свое время западноевропейский антикапитализм.
Общее у левоальтернативного, консервативного и христианского сердечного тепла это то, что они черпают энергию из традиции образов романтического мира сказок, в котором погоне за богатством как греховной жажде наживы отводится место только в царстве неорганического холода. Эта образность в историческом плане оказалась исключительно стабильной. У того, кто за капитализм, холодное сердце, которое перестало биться. Он как бы уже мертв, хотя он живет. А тот, чье сердце бьется, не может быть капиталистом или неолибералом. В изречении, которое неосознанно включено в название этой книги, а именно то, что у того, кто в двадцать лет не стал левым, нет сердца, присутствует сказочный мир Гауффа. Любой поэтому услышит во второй части этой общеизвестной сентенции, что тот, кто в сорок лет уже не левый, имеет, правда, разум, но тоже холодное сердце. Что хуже?
И что вряд ли может быть увидено и ни в коем случае не может быть переоценено: сердечная холодность в литературной традиции, конечно же, связана с фригидностью и бесплодием, нарциссическим отказом от существования в плоти и крови. «Мама, о горе! Твое жестокое сердце», – причитают неродившиеся в «Женщине без тени» Гуго фон Гофмансталя. Лишь целомудренные девственницы холодны. Мало того, что наживающийся на процентах капитал бесплоден; и сам капиталист, если анализировать это понятие, тоже как бы фригиден. Неудивительно, что самых красивых и желанных женщин можно было увидеть в коммунах левых. Страсть и капитализм или консерватизм взаимно исключают друг друга.
«Эй, не дай себя ожесточить», – пел Вольф Бирман в своем «Ободрении», которое мы все принимали близко к сердцу. Зонг, который звучит почти как хорал, написанный в судьбоносном 1968 году (который был и годом пражской весны), стал чем-то вроде связующего лейтмотива поколения. «Горе тому, кто не откроет свое сердце». На большом концерте Бирмана в Кёльне в 1976 году, который стал причиной лишения его гражданства ГДР, он вновь спел «Ободрение»: быть левым не значило быть за бюрократически-мелкотравчатый социализм гэдээровского образца; было достаточно выступать за лучший мир, в котором не побеждает сердечный холод. Холод делает несвободным. Бирман, который и сегодня, когда его слушаешь, остается великолепным бардом, выдал лицензию на то, что можно было сохранить сердце на левой стороне груди и все равно считать ГДР чем-то кошмарным. «Не может быть, чтобы это было все, немножко воскресенья и детского крика, немножко футбола и водительских прав», – пел Бирман. Он пел о том, что было у нас на сердце.
Последний раз Бирман спел свое «Ободрение» еще раз в Германском Бундестаге на заседании в связи с 25-й годовщиной падения берлинской стены 9 ноября 2014 года. Что значит спел, – он прохрипел и прокричал его депутатам от ПДС, которым пришлось его выслушать, в лицо. Здесь автор и исполнитель собственных песен сумел превратить свое произведение в антисоциалистический боевой зонг. В том, что он раньше исполнял малопривлекательные социалистические боевые песни, его сегодня необязательно нужно обвинять; но не следует забывать и об этом: «Команданте Че Гевара», например, гимн герою-революционеру, которого он – без всякой иронии – обожествлял как «Иисуса Христа с автоматом». Изображение предводителя повстанцев – черный берет с красной звездой, вьющиеся волосы, тонкая гаванская сигара – висело тогда во многих студенческих жилищах. Воля к борьбе, участие в боевых действиях («Ты не стал бонзой, не стал большой шишкой») и демонстративное мужское начало вместе создавали иконографию революционной романтики, которая в Геттингене и Тюбингене представлялась не такой грозной, как в Боливии или на Кубе. Немножко мягче, обворожительнее команданте, между прочим, представал в исполнении певицы Джоан Баэз (и многих других). Че, убитый в 1967 году в возрасте всего 39 лет американским ЦРУ, был главным святым того времени. То, что он, убитый, хладнокровно убивал людей, предпочитали не замечать. Он ведь воевал за правое дело.
Следуя этой традиции образов, альтернативное движение согревало сердца следующими словами: «Политическим активистам срочно необходима та мера способности мечтать, креативности, сердечности и общности, которая сохранит в них поток тепла, не позволит им превратиться в технократов. Мечтателям новой духовности и альтернативных форм жизни срочно требуется такой политико-экономический глазомер, который позволит им строить свои мечты на длительную перспективу», – пишет историк Свен Райхардт из Констанца. С точки зрения литературной критики такую прозу следовало бы анализировать как чистый кич, с идейно-исторической точки зрения можно было бы показать, как именно в Германии из обращенной в прошлое романтической критики цивилизации и прогресса развилось немецкое движение за реформирование жизни, противопоставившее изначальное, аутентичное, непосредственное тепло как психический бастион на пути устрашающего модерна с его холодным опытом. Претензия на аутентичность привела к психологизации повседневной жизни. Психоанализ слишком важная вещь для того, чтобы быть доступным исключительно больным людям, говорил американский терапевт Ирвин Йелом: нужно всегда быть честным, непосредственным, аутентичным. И обеспечивать друг другу обратную связь, «Feedback», понятие, прочно вошедшее в моду и показывающее, что жизнь, вопреки всем альтернативным намерениям, иногда может потребовать достаточно больших усилий.
Соответственно претензия на альтернативность проникала во все сферы жизни. Появились альтернативные пивные и кафе, альтернативные магазины для детей, альтернативные формы проживания и так далее. Прилепленное слово «альтернативный» служило как бы сигналом принадлежности. Новая духовность («левый психобум») и новое отношение к телу с его «отрытой» сексуальностью создавали экспериментальные поля для альтернативной жизни. Это могло себе позволить поколение, которое было первым, выросшим с противозачаточной пилюлей и все больше и больше избавлявшимся от страха перед нежелательной беременностью. Довольно подробно, но при длительном изучении утомительно, это изложено в исследовании Свена Райхардта «Аутентичность и общность» («Authentizität und Gemeinschaft»), стандартном произведении о левоальтернативной жизни в 1970—1980-е годы. А тот, кому больше нравится узнавать все в оригинальном изложении, может прочитать содержание вышедшей в 2007 году беседы редактора журнала Spiegel Кордта Шниббена в связи с годовщиной событий 1968 года с его левыми бременскими друзьями и подругами тех лет. Старое самосознание сохранилось полностью, ирония держится в приемлемых границах: «Мы жили в убеждении, что у нас было право вновь изобрести секс, формы проживания, музыку и демократию». Интересно обратить внимание на последовательность.
Под огонь критики попало как материальное, так и буржуазное. Нельзя было придавать значение одежде; прихорашиваться или хотя бы признаваться в этом послужило бы доказательством фиксации на внешнем. Малодетная буржуазная семья считалась не аутентичной, приспособленческой, не «прогрессивной». Заявлять о своих правах стало особенно тяжело частной собственности и владению, этим достойным достижениям правового государства европейского Просвещения. Предубеждения против частной собственности касались как основного закона капитализма, так и ориентации на исключающие иные варианты отношения пар. Частная собственность имела в любом случае плохую репутацию. Тому, кого обвиняли в «фиксации на обладании», должно было быть стыдно. В первую очередь осторожность надо было проявлять мужчинам, они скоро стали называться «шови» или «мачо» и считались особенно зафиксированными на обладании собственностью. «Я тогда на самом деле чувствовал себя в сексуальном плане неспособным соответствовать предъявляемым требованиям, и все это из-за этой сраной теории, которая утверждала, что нельзя предъявлять претензии на владение. То есть это время для меня выглядело так, что я, с одной стороны, влюблялся, а с другой стороны – должен был мириться с тем, что эта женщина, в которую я влюбился, не может мне принадлежать, и я ей тоже» (Кордт Шниббен). Малейшие признаки, позволявшие сделать вывод о наличии этой культурно-опосредованной страсти подчинения и овладения, жестоко преследовались. Альтернативой претензий на обладание были, правда, взаимозаменяемость и безразборность отношений. А этого как-то тоже не хотелось.
Как и в случае холодного сердца, здесь за пренебрежением к «обладанию» также стоит долгая традиция. «Обладание» презирается как недостойная форма существования. У него всегда была плохая репутация, как показал лингвист Харальд Вайнрих в своем великолепном эссе «Об обладании» («Über das Haben», 2012). Еще в перечне категорий Аристотеля (четвертый век до нашей эры) обладание смогло занять лишь восьмое место из десяти позиций. Превыше всего там стоит категория «бытия». Психоаналитик Эрих Фромм (1900–1980), чье «Искусство любви» («Kunst des Liebens») тогда наряду с Гербертом Маркузе входило для каждого из нас в перечень обязательной для прочтения литературы, написал на этом материале в 1976 году свою необычайно популярную книгу «Иметь или быть» («To have or to be»). Целью была жизнь, по возможности полностью свободная от «обладания». Не только в обращении с материальными благами, но, как пишет Фромм, и в учебе, в воспоминаниях, в разговоре, чтении, знании, в вере – и, конечно, в сексе – желание обладать было под запретом. В мягкой, менее революционной форме, нежели в марксизме, за этим скрывается принципиальный бунт против частной собственности:
«Суть модуса обладания в существовании вытекает из сути частной собственности», – говорит Фромм. Тот, кто хочет преодолеть обладание, должен отменить и частную собственность. И он должен, самое позднее, детям, которые мутузят друг друга в песочнице из-за формочек, объяснить, что спор из-за «моего» и «твоего» прямо ведет в ориентированный на обладание капитализм. Здесь жизненный проект левого альтернативного крыла встречался с жесткой теорией марксистов. И за этим с самого начала стояла педагогическая программа перевоспитания.
Если есть желание воспроизвести сегодня жизненные ощущения того времени, рекомендую бросить взгляд в дневники писателя Мартина Вальзера. Для Вальзера, родившегося в 1927 году и принадлежащего к совершенно иному поколению, политика не главное, а лишь важный сопутствующий элемент. Именно по этой причине у него можно так хорошо проследить очарование и изменение коллективных убеждений и позиций. Романы Вальзера могут отличаться индивидуальностью, но к его политическим предпочтениям это никак не относится. Он примыкает к любым явлениям моды, причем всегда на стороне большинства. Вальзер никогда не придерживался левоальтернативной утопии мира коммун с совместным проживанием, а вел классический буржуазный образ жизни с заботливой супругой, четырьмя дочерьми и загородным домом на берегу Боденского озера. Но мятежная левая совесть вынуждала социалиста Вальзера, которым он был в начале 70-х годов, в качестве выражения правильности убеждений вопреки интересам буржуа Вальзера выступать за социализацию побережья озера: все должны были иметь возможность без помех взирать на Боденское озеро. В этом случае социализм уже продвинулся бы чуточку в сторону Южной Германии. Буржуа Вальзеру повезло в том, что его левая утопия на Боденском озере в результате осталась нереализованной.
В 70-е годы Вальзер играл в коммуниста. В 80-е он превратился в друга рынка. Позднее он считался немецким националистом и был объектом насмешек из-за его фантазий на тему единства. Еще позже он стал набожным и писал о протестантском учении об оправдании. А из-за того, что его некоторое время даже подозревали в антисемитизме, он в конечном итоге посвятил себя публикации еврейских поэтов. Мартин Вальзер не упускает ничего. Как и многих других, его политизировала война во Вьетнаме, и после этого все сильнее радикализировал левый климат. Человек языка начинает пользоваться агитационным жаргоном: «Каждое слово, которое здесь произносится в болтовне о демократии, должно оцениваться критерием продолжающегося изо дня в день геноцида во Вьетнаме, который происходит с согласия и к выгоде тех, кто здесь говорит о демократии».
Своим собственным путем Вальзер пришел к культу аутентичности. Эрика Рунге – так звали тогда героиню писателей и семинаров по германистике, чьи «Боттропские протоколы» («Bottroper Protokolle») в зеленой обложке издательства Suhrkamp воспроизводили то, как рабочие на самом деле мыслили и говорили. Это было тем, о чем тогда мечтали многие, а именно что интеллектуалы примирятся с рабочими, чтобы показать им и всему миру, что и у них сердце на правильном месте и что они идентифицируют себя вместе с правильным классом. Многие левые студенты, например во Франкфурте Йошка Фишер со товарищи, отправлялись на автосборочный конвейер, скажем, на заводы «Опель», чтобы побрататься с рабочими, которые о таких акциях в большинстве случаев не хотели ничего знать. Правда, для того чтобы объекты эксплуатации обрели нужное классовое сознание, всегда требуется некоторое время. Но так далеко Вальзер заходить не собирался; конвейер его не манил. Однако он с энтузиазмом участвовал в усилиях по привитию профсоюзного сознания писателям. Его мечтой был «Профсоюз средств массовой информации», который объединил бы всех деятелей культуры. У профсоюзов тогда еще была положительная репутация, для многих левых интеллектуалов они были приютом коллективного в его противостоянии экзистенциалистскому уединению поэта и одновременно инструментом реального изменения общества. Рабочие не желали быть по-настоящему аутентичными. И Эрика Рунге была вынуждена признаться, что она выдавала за протоколы то, что на самом деле было чем-то вроде лоскутного одеяла, смонтированной мозаикой из самых красивых фраз о рабочих. Фикция остается фикцией.
Разумеется, Вальзер также игнорирует опыт Солженицына. Более того, он потешается над тем, что часть немецкой общественности шокирована описаниями ГУЛАГа, причем не только Генрих Бёлль, который предложил Солженицыну приют, но и Гюнтер Грасс, продемонстрировавший свою солидарность. Вальзер язвит: «Я бы предложил следующее: Мы закажем доски с изображением Солженицына. Такие доски мы выставим в общественных местах. Может быть, нам удастся разместить вокруг них фонарики со свечами. После этого мы предлагаем, чтобы каждый проходящий мимо снимал шляпу или какой-то иной головной убор». Так диссидент Солженицын превращается в тирана Гесслера, который требует от западных левых подчинения, к которому готовы слабаки Бёлль и Грасс, но в котором ему отказывает стойкий бунтарь Вальзер. Здесь на самом деле требовался такой деятель, как Мартин Вальзер, который мог стилизовать иммунизацию и вытеснение советской системы бесправия под проявление гражданского сопротивления à la Вильгельм Телль для того лишь, чтобы не надо было менять собственную картину мира.
Вальзер флиртовал с ГКП, но всегда громко жаловался, если люди называли его коммунистом, во всяком случае, когда они использовали эту политическую классификацию для оценки его литературной продукции. Однако среди своих Вальзер вполне мог выступать с позиций вульгарного марксизма. Он на полном серьезе утверждал, что Федеративная республика движется курсом в направлении фашизма. Частная собственность была и для него чем-то крайне отвратительным, из-за чего он с энтузиазмом принимал участие в попытках социализировать издательство Suhrkamp. По той причине, что Зигфрид Унзельд, издатель Suhrkamp, был одновременно единственным предпринимателем, которого он знал близко, тот в знак благодарности удостаивался чести играть в его книгах роль образцового капиталиста из книжки с картинками. Издательство Suhrkamp должно было стать своего рода югославской моделью рабочего и авторского социализма: «Я хотел бы, чтобы часть той доли, которая принадлежит Зигфриду, была распределена между сотрудниками». В романе Вальзера «Письмо лорду Лисцу» («Brief an Lord Liszt») действует фабрикант Артур Тиле, капиталист чистейшей воды, эксплуататор, который эксплуатирует все, что ему достается, и держит зависимых от него людей в полном подчинении. Унзельд, читая это, сразу же узнал себя и, судя по всему, терпеливо вынес порицание, тем более что он рассчитывал в будущем на прибыль от вальзеровских книг.
Любопытно то, что Мартин Вальзер поносит в качестве предпринимателя именно Унзельда, того человека, за счет которого он существовал, – как, конечно, и тот за счет Вальзера. Ведь издательства до наступления эры интернета были единственными институциями, которые могли обеспечивать распространение литературы. Вальзер, предвыборный лозунг которого гласил: «Ничто не может быть истинным без своей противоположности», – судя по всему, не обратил внимания на это противоречие. Это нечто большее, нежели клише? Вряд ли. Вальзер вел серьезный диспут с капитализмом? Вряд ли. Это типично? Да. Капиталист-эксплуататор выступает как аксессуар, колорит, чтобы на этом фоне можно было рассказать какую-нибудь историю. Социализму левых как-то на самом деле не хватало истинной серьезности.
Вальзер пребывал в лучшем обществе из возможных. Ганс Магнус Энценсбергер, который родился в 1929 году и таким образом немного моложе Вальзера, тогда тоже не щадил усилий, чтобы приспособиться к духу времени (о чем он написал в 2014 году в книге под названием «Сумятица» («Tumult»). Энценсбергер был бóльшим анархистом, менее предсказуемым, чем Вальзер, он сам называет себя «биллиардный шар». Он тоже познал соблазн возможности увлекать за собой большие массы людей: «Я заметил, как можно было водить возбужденную толпу за кольцо в носу, если найти нужный тон». Тон, который делал музыку, был тогда именно левым тоном. А американцы были свиньями и империалистами. Сегодня Энценсбергер утверждает, что ему за это стыдно. Но если он входит в образ того, кем он был тогда, то он и сегодня еще может возмущаться по поводу ЦРУ и всего такого.
Вальзер называет себя в эти годы социалистом. Галлистль, герой романа, которого он тогда – в 1973/1974 году – моделировал в своих дневниках, должен был бороться за прекрасный новый мир. В необходимости развивать общество в сторону социализма сомневаться ни в коем случае нельзя, гласит запись от 2 июля 1974 года. И когда католик Вальзер 17 августа 1975 года участвует в престольном празднике в великолепной возвышающейся над Боденским озером построенной в стиле рококо монастырской базилике Бирнау, он иронизирует по поводу отца-предстоятеля и его проповеди, извлеченной из сундука, набитого марксистским старьем. Рай невозможно построить на земле, изрекал священнослужитель. В то время как страждущие благ и страждущие справедливости едины в отрицании потустороннего мира. Вальзер возмущается в роли фейербаховского критика религии, обвинявшего христиан в том, что они утешают людей перспективой загробной жизни, не давая им возможности наслаждаться лучшей жизнью здесь. Если бы я в тот летний воскресный день оказался на мессе в Бирнау, я бы присоединился к поэту.
Вальзер (а также Энценсбергер) дают возможность догадываться о том, почему именно интеллектуалы были (и есть) столь падки на левые идеи. Писатели и левые связаны между собой своего рода естественной близостью. Тот, кто пишет политически ангажированную литературу, хочет сделать мир с помощью своей литературы лучше. Тот, кто придерживается левых политических взглядов, хочет добиться того же – своими действиями, если его выберут, или посредством революции, если выборы для этого не требуются. Обе группы укладывают действительность в историко-философскую схему: из долины скорби в земной рай. Обе рисуют картины того, как будет выглядеть этот лучший мир. Обе имеют план и представляют себя воспитателями рода человеческого. Они претендуют на то, что либерал Фридрих Хайек в полемическом запале назвал «самонадеянным знанием».
В полдень на излете лета 2007 года мы сидим в саду семейства Вальзеров – берег озера все еще не социализирован – и говорим о капитализме. На столе испеченный супругой Кете знаменитый сливовый пирог, кофе, а хозяин дома позволяет себе бокал белого вина с минералкой. Да, говорит Мартин Вальзер, задним числом ему стыдно за все то, что он писал и говорил. Самое ужасное, говорит он, это его тогдашнее выступление в Констанце про «капитализм и демократию»; оно все полно общих мест и свидетельствующей об отсутствии опыта лексики: «Что касается капитализма, то я хотел бы зашить себе рот, когда я сегодня смотрю на то, что я тогда писал». Писатель, говорит он сегодня, не должен пользоваться заученной лексикой. Правда, его произведения на тему капитализма с течением лет становились все серьезнее. Теперь он считает, что читатель в романе всегда должен знать, где его герои зарабатывают деньги, иначе это не выглядит правдоподобно, – и превыше всего ставит деньги: единственное средство, делающее человека свободным и независимым. Вальзер и сам, иногда с большим, иногда с меньшим успехом, спекулирует акциями. Его истинный герой сегодня, следовательно, Уоррен Баффетт: «Зарабатывать деньги – это для Баффетта искусство, которым он занимается ради него самого». Вальзер сохранил горячее сердце и восхищается холодными капиталистами.
Вдоль берега проплывает лебедь. Смеркается. От коммуниста и социалиста до друга спекулянтов и их приверженца – намного длиннее путь интеллектуала в XX и XXI веке вряд ли мог бы быть. Раньше его от денег «тошнило», сегодня Вальзер видит в деньгах выражение свободы. Вальзер великий конвертит. Он говорит о своем обращении. Многие интеллектуалы в течение лет прошли схожий путь, как и Вальзер. Но лишь немногие говорили об этом так открыто. В капитализм его обратил немецкий экономист Герберт Гирш, прежде всего его книга «Прощание с экономической теорией» («Abschied von der Nationalökonomie»), говорит Вальзер. Книга вышла в 2001 году. И то и другое у меня общее с Вальзером: встреча с Гиршем и позднее обращение в другую веру. Я к этому вернусь.
Что мы читали? Как могло случиться так, что в целых сообществах, университетских как-никак, части интеллектуальной карты мира просто-напросто отсутствуют? Из книг на прилавках, которые в 70-е годы были установлены в столовой тюбингенского университета, мне запомнилось имя Исаак Дойчер. У троцкистов, которые, будучи меньшинством, как-то вызывали симпатию, была выложена его трехтомная биография Троцкого. Дойчер, польский еврей, с 1939 года живущий в Англии, семья которого была уничтожена нацистами, был в то время одним из героев «Новых левых». В 1967 году он умер, дожив лишь до 60 лет: интеллектуал, которому ни разу не удалось получить постоянную университетскую должность. Он был марксистом и антисталинистом; даже догматические троцкисты находили у него изъяны. Но молодежь в Беркли и Оксфорде любила его и охотно приглашала его на свои «Teach-ins», как тогда называли протестные мероприятия. Дойчер примирял Beach Boys «новых левых» на американском западном побережье со старыми левыми из среды рабочего класса Европы: родившийся в 1907 году, он был как бы еще свидетелем коммунистической революции и предупреждал молодых хиппи о необходимости в своем культурном бунте помнить о рабочих, что они охотно выслушивали, не принимая это особенно близко к сердцу.
Не хочу врать. Об Исааке Дойчере я знал достаточно мало; он меня тогда особенно и не интересовал. Сегодня он совсем забыт, хотя его биографии Троцкого и Сталина все еще можно найти на Amazon среди букинистических изданий. Почему же я упоминаю здесь этого человека? Потому что на меня нахлынули слабые воспоминания о прилавке с книгами в Тюбингене, кода в 2013 году издательство Yale University Press опубликовало вышедшую из-под пера Дэвида Кота захватывающую двойную биографию Исаака Дойчера и его в целом намного более авторитетного либерального антагониста Исайи Берлина. Это две параллельные биографии .двух еврейских интеллектуалов, эмигрантов из Восточной Европы, ставших противниками «холодной войны», которые вели между собой ожесточенную и захватывающую полемику на тему «социализм versus либерализм» и из которых один, Берлин, тогда уже был известен как минимум так же, как сегодня, но только второй, Дойчер, смог со своими произведениями добраться до книжных развалов в Тюбингене.
Как это происходит? То, что ты наталкиваешься на определенных мыслителей, а на других нет? Мы читали (почти) всего Адорно (в любом случае, слишком много), но не знали Хайека и отвергали Поппера. Мы читали (во всяком случае, делали вид, что читаем) Маркса и Гегеля, но нам никогда бы не пришло в голову, почитать Адама Смита. На прилавке с книгами нам в руки попадался Исаак Дойчер, но мы ни разу не слышали ничего об Исайе Берлине, не говоря уже о том, что мы понятия не имели о его «Двух концепциях свободы» («Two Concepts ofLiberty»), той вводной лекции в Оксфордском университете в 1958 году, в которой Берлин возвел в ранг мирового культурного наследия различие между «свободой от чего-то» и «свободой чего-то», негативом и позитивом. Несомненно, энциклопедически образованный коллега Хеннинг Риттер, о котором я позднее услышал от Исайи Берлина, уже тогда успел его прочитать. А Ральф Дарендорф, от которого я могу ожидать очень многое, наверняка тогда уже встречал его. Но до Тюбингена (да, видимо, и до Марбурга) биографии этих «либералов холодной войны» не доходили. Сегодня, разумеется, мало кто еще помнит Дойчера, в то время как считается хорошим тоном как минимум делать вид, что тебе известна разница между «негативной» и «позитивной» свободой, т. е. что ты читал своего Берлина.
Понятно, что всегда существуют интеллектуальные моды. Потом появились французские структуралисты, им на смену пришли постструктуралисты и так далее. Но здесь речь не об этом: тот, кто знает только Адорно и Дойчера, но не знаком еще и с Хайеком и Берлиным, видит лишь половину мира, не может решить, прав ли Адорно, неважно, чью сторону он в конечном итоге примет. Однако было бы намного умнее (и честнее) сразу принять к сведению позиции обеих сторон спора. Но это наивно, так интеллектуальная социализация явно не функционирует. Этот странный сдвиг по времени в занятии вещами, которые можно было бы освоить одновременно, представляется разновидностью феномена «что мы видим и что нет»: «Что мы читаем и что нет». Именно эти некие обобщенные «мы»; никто точно не знает, как это происходит. Один рассказывает другому. Если сегодня читать двойную биографию «Исаак & Исайя» («Isaac & Isaiah»), видно, что многие обходные пути и задержки в процессе интеллектуального созревания можно было бы сократить. На самом ли деле их можно было бы сократить? Вопрос риторический. В открытой для дискурса Англии времен «холодной войны» между левыми и либералами, очевидно, использовалась гораздо более радикальная аргументация, нежели в монополизированной левыми Германии после 1968 года, где, как представляется сегодня, даже эра Аденауэра в том, что касается идеологии, была более открытой и дружелюбной в отношении дискуссий, чем ей приписывалось позднее.
О чем шла речь в этой радикальной конфронтации идей: в то время как для марксиста Дойчера, вне сомнений, высшей целью является равенство, либерал Берлин оспаривал тот факт, что равенство вещь самоочевидная. Берлин утверждал, что полное равенство может быть достигнуто лишь авторитарными методами, оно, таким образом, порождает неравенство. В то время как для Дойчера – и всех социалистов-прогрессистов – история человечества протекает целенаправленно, т. е. детерминированно. Берлин против этого возражает. На его аргумент, что тем самым отрицается индивидуальная ответственность людей за свои поступки, Дойчер возражает, что детерминизм не означает фатализм, иначе идея коммунистической революции при детерминированном ходе истории лишена смысла. И в то время как Берлин ставит индивидуальную, «негативную» свободу, а именно право делать или не делать все, что хочешь, в центр своих рассуждений, Дойчер отвечает ему ссылкой на то, что негативная свобода абстрагируется от реального распределения власти: бедняк не может реально делать или не делать все, что ему хочется, у него нет реальной свободы обедать в гостинице Ritz. На это Берлин отвечает, что это имеет отношение не к свободе, а лишь к тому обстоятельству, что у бедного человека нет денег. Тот факт, что у него нет денег, не означает, что его свобода ограничена, а указывает лишь на то, что у него отсутствуют экономические средства для того, чтобы реализовать свою свободу желательным образом. Свобода как осознание (исторически детерминированной) необходимости (Дойчер) или свобода как акт индивидуального выбора – большего противоречия представить себе невозможно: так протекали дебаты среди либералов «холодной войны» в послевоенной Англии.
И конечно, речь шла о роли частной собственности: является ли частная собственность необходимым условием свободы? Или частная собственность представляет собой необходимое ограничение свободы? Во всяком случае, я ведь не могу поставить палатку в саду моего богатого соседа, что, вне всякого сомнения, чувствительным образом ограничивает мое право делать или не делать все, что мне вздумается. Этот конфликт сегодня так же актуален, как и тогда. Левые обвиняют либералов в том, что они абсолютизируют собственность, ради чего они даже сознательно готовы смириться с ограничением в остальном признаваемой неограниченной человеческой свободы. Права собственности, если лишить их обычного пафоса, не что иное, как социальные и правовые конвенции, которые могут оформляться различным образом. Просто не надо превращать их в фетиш. Почему в Тюбингене не нашелся преподаватель или «Teach-in», который просветил бы нас относительно этих двух основных позиций вне связи с личностями? Это были бы основные вопросы хорошей жизни, вытекающие из истории идей, которые и сегодня еще как минимум так же актуальны, как тогда. Это помогло бы укрепить, а не ослабить левую позицию восприятия справедливости как равенства. Между прочим, при личном сравнении Берлина и Дойчера либерал выглядит не очень привлекательно: Берлин не только с помощью успешных интриг не позволил своему антиподу Дойчеру получить место преподавателя университета, но позднее еще и наглым образом отказался признаться в этой своей интриге перед вдовой Дойчера. Таким образом, Берлин был интриганом и трусом. Либерал Ральф Дарендорф указывал на то, что мужество не входит в число выдающихся либеральных добродетелей, а вот трусость часто представляет собой одну из их антидобродетелей.