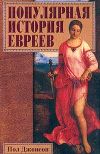Автор книги: Райнер Ханк
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Когда началось мое сближение с либерализмом, неолиберализм уже давно существовал. Я не отношусь к числу тех, кто все замечает на раннем этапе, скорее наоборот. Госпожа Тэтчер уже была лишена власти, срок президентства Рональда Рейгана завершился, правда, в Германии Гельмут Коль в 1982 году взялся за то, чтобы осуществить «духовно-моральный поворот», который, однако, имел мало общего со свободой и тем более с экономической свободой. Причем, несмотря на то, что Коль имел в своем правительстве такого рыночника, как Отто граф Ламбсдорфф из СвДП. То, что «черно-желтый» проект должен был привести к неолиберализму, вызывало страх, который постоянно подогревала СДПГ. А вот о том, чтобы этого никогда не случилось, заботился министр труда Норберт Блюм, своего рода воплощение католического социализма в правительстве Коля, который все черно-желтое время до 1998 года провел в правительстве в качестве министра труда и министра социального обеспечения и служил гарантом того, что неолиберальные мысли или тем более законы нигде не могли пробить себе дорогу. Позднее, правда, Коль говорил, что было ошибкой оставлять Блюма все это время на своем посту. Но было уже поздно, да и точно не известно, что побудило Коля прийти к этому запоздалому мнению.
Блюм был последним крупным архитектором пышного социального государства. Расходы на пенсии и здравоохранение постоянно росли; работодатели жаловались на слишком высокие «накладные расходы на зарплату» (эта формулировка каким-то образом исчезла из обихода). Система бисмаркского социального страхования была дополнена обязательным страхованием на случай потребности в уходе, которое Блюм превозносил как естественное дополнение и окончательное усовершенствование государства, заботящегося о своих гражданах. Черно-желтый период, тот долгий отрезок времени с 1982 по 1998 год, был попыткой вновь вызвать к жизни старый добрый послевоенный мир, силой которого была провинция, та база, на которую опирался Коль. И воссоединение Германии основывалось на этой модели. Очевидно, что это было анахронизмом.
Если в Германии вообще когда-то существовал неолиберализм, то на такое название может претендовать принятый вскоре после наступления нового тысячелетия под названием «Харц» пакет реформ социал-демократа Герхарда Шредера. Под впечатлением от слабого роста, высокой и устойчивой безработицы, растущего государственного долга – и, конечно же, под угрозой политического краха – Шредер призвал к чувству собственной ответственности граждан, добился законодательного ограничения функций заботящегося о своих граждан государства и изобрел формулу «Требовать и помогать», которая отменяла выходящие за все разумные пределы требований к социальному государству и увязывала поддержку с подтверждаемой готовностью к труду. О том, что эта программа понималась как неолиберальная, говорит отход левых от СДПГ под руководством Оскара Лафонтена и важных деятелей профсоюза металлистов, травма, с которой партия не справилась до сих пор.
Этот умеренный неолиберализм в немецком варианте на самом деле окольными путями пришел от Маргарет Тэтчер к Герхарду Шредеру: самым смышленым учеником Тэтчер в Великобритании был лейборист Тони Блэр, который заискивал перед политическим центром с помощью обещания «третьего пути» – в качестве коррекции программ обычных эгализирующих левых, чье понимание государства всеобщего благосостояния для успешных средних слоев заключалось прежде всего в угрозе постоянно растущего налогового бремени. Как известно, сам Шредер не сторонник крупных теоретических проектов; ему достаточно иметь, как он когда-то сказал «Bild, Bams und Glotze» (газету «Бильд», газету «Бильд в воскресение» и «ящик»). Молодые и амбициозные почитатели Шредера, Бодо Хомбах и Франк-Вальтер Штайнмайер, были теми людьми, которые посещали либеральную школу в лондонском Сити, чтобы из полученных знаний смастерить политическую концепцию современной социал-демократии в Германии. Помимо реформирования рынка труда («Харц») нужно – о чем часто забывают – в первую очередь назвать радикальное снижение предельных ставок налогов на доходы и полную отмену налога на продажи министром финансов в кабинете Шредера Гансом Айхелем, которые могли бы вытекать из либеральных представлений: налоги не должны иметь конфискационный характер, поскольку это противоречит праву граждан на собственность и праву делать с ней всё, что они считают нужным, – а не то, что предписывает государство. Айхель знал разницу между ставками налогообложения и налоговыми поступлениями, то, что более низкие ставки могут принести в казну больше денег, поскольку это стимулирует экономически активных граждан на достижение более высоких результатов.
Когда Шредер на рубеже двух тысячелетий начинал свои реформы, я уже успел стать либералом. Осенью 1988 я начал работать в Frankfurter Allgemeine Zeitung – FAZ в качестве экономического редактора. После защиты диссертации в 1983 году я успел потрудиться в качестве референта в католической организации под названием «Cusanuswerk», занимающейся поддержкой талантливых молодых людей, которая предоставляла студентам финансовую помощь и способствовала обмену мыслями. Если быть честным, то вопрос, левый ли я, в 80-е годы уже не представлялся мне столь важным. Мои ангажированные друзья назвали бы меня «аполитичным» и вызвали бы у меня угрызения совести. Раньше, так это вспоминается мне сегодня, это были времена лишенного в интеллектуальном смысле ориентиров бродяжничества. Еще в студенческие годы моим истинным героем стал Ницше, который эмфатически возвел отсутствие позиции в ранг позиции и ничто не ненавидел так, как непросвещенное морализирование, которым так любят заниматься левые, удовлетворяющиеся наслаждением от своих добрых намерений. Из кьеркегоровского «Или/Или» я знал, что хорошо когда-нибудь перейти от эстетического к этическому существованию, если не хочешь без пользы прожить свою жизнь в неприглядной бесконечности образа какого-то Дон Жуана. Левых авторов я уже давно не читал. Петер Вайс с его «Эстетикой сопротивления» («Ästhetik des Widerstands») был, как мне думается, последним классиком из этого разряда. Экономика меня по-прежнему интересовала мало. Позиция, мировоззрение отсутствовали. Ангажированная политическая активность лишилась моего интереса. Католическое во мне побледнело.
И вот случай предоставил мне «окно возможностей», срочно потребовавшуюся смену места жительства, и начинающему редактору отдела экономики FAZ в уже более продвинутом возрасте пришлось окунуться в ледяную воду экономики. Дебаты на конференциях в газете, вечернее изучение стандартного учебника и, в середине 90-х, продолжительное пребывание в Массачусетском технологическом институте – вот что помогало мне приобретать новые знания.
Мне было поручено, с тех пор прошло 25 лет, заниматься германским рынком труда и наблюдать за действующими лицами в тарифных конфликтах из-за согласования уровня зарплаты. Это меня интересовало, поскольку это не было простой экономикой. Речь шла о профсоюзах (которые тогда еще были сильными), 35-часовой неделе, о менеджерах, о политике. Но и об экономике.
Журналисту, пишущему об экономике, необязательно нужна экономическая теория. Я знаю многих коллег, которые даже гордятся тем, что обходятся без теоретических рамок. Они считают это необходимым условием своей независимости. Они бы сказали, что это позволяет им смотреть на мир без предрассудков. У экономической редакции FAZ своя либеральная традиция. Это накладывает свой отпечаток. Было бы наивно утверждать, что я пришел к либерализму в безвоздушном пространстве. Наоборот, об этом я пишу здесь: решения, касающиеся ценностей, принимаются только в социальной среде. Но либеральная традиция FAZ уже тогда была, а сегодня тем более совсем не едина. Говоря яснее: либеральные рыночные позиции и в FAZ, возможно, иначе, чем можно предположить, представляют собой меньшинство. Я бы слишком облегчил себе задачу, если бы стал описывать путь к либерализму как роман о развитии чистого разума. Но все те, кто приписывают это духовное пробуждение процессу чистого оппортунизма, ошибаются точно так же.
Не будем затягивать с ответом: мое либеральное пробуждение произошло не в редакции FAZ, а в начале 90-х годов, на скорее незаметной международной конференции на тему «Будущее труда». Это была встреча с тогда уже вышедшим на пенсию шефом Кильского Института мировой экономики Гербертом Гиршем. Это тот же самый – сегодня уже также почти забытый – человек, который примирил поэта Мартина Вальзера с капитализмом. Гирш был учителем старой школы, без лишних профессорских повадок, он не был человеком, склонным к запугиванию, который приводит своих слушателей в ужас нагромождением математики. От себя, своих учеников и собеседников он требовал, чтобы все было ясно и понятно и, если необходимо, могло быть сформулировано в очень краткой форме. С тех пор я не соглашался ни с одним автором (и тем более ни с одним журналистом), который настаивал на том, что для того, чтобы изложить суть того или иного вопроса надлежащим образом, ему необходимо минимум 250 строк.
Гирш сам конвертит. Он долгое время был кейнсианцем, консультировал социал-демократические правительства и изобрел так называемое «глобальное управление». Интересно в этом представление о том, что политические деятели могут вести экономику к успеху, а именно – посредством фискальной или денежной политики, а также и политики на рынке труда. Это представление с 1973 года оказалось в кризисе, и экономисты, как и политики, занимающиеся экономикой, были вынуждены пересмотреть свои взгляды, поскольку их кейнсианские инструменты тонкой настройки перестали действовать: все больше людей не могло найти работу, инфляция сохранялась на высоком уровне, экономика росла слабо. Гирш раньше многих других распознал далеко идущие перемены 1973 года и назвал те шоковые явления, от которых страдала экономика. Мало того, что потрясения в сфере нефтедобычи увеличивали затраты компаний, их хозяйственная деятельность усложнялась и из-за инфляции в оплате труда и экспансивной социальной политики. «Исчезающее чудо» – так звучала гиршевская формула удушающего воздействия государства всеобщего благосостояния на рост экономики и благополучие граждан.
Гирш был одним из первых немецких экономистов, распознавших необходимость по новой распределить позиции на командных высотах в борьбе за власть между рынком и государством. Он стал ведущим представителем политики, основывающейся на предложении. В отличие от политики, основывающейся на спросе, которая в периоды экономических кризисов вынуждает государство стимулировать спрос с помощью денег, чтобы появлялись рабочие места, политика, исходящая из предложения, стремится сделать условия хозяйственной деятельности более привлекательными для компаний: нужны рамки хозяйственного порядка (отсюда и «политика формирования хозяйственного порядка»), при котором налоги повышаются лишь незначительно, расходы на заработную плату и социальные расходы не создают избыточную нагрузку на компании, а государственное регулирование – от экологии и энергетики до семейной политики – не душит возможности ведения хозяйственной деятельности. Задача государства, в отличие от политики, основанной на спросе, заключается в том, чтобы оставаться в стороне от событий, происходящих в экономике, не вмешиваться в ситуацию, а сконцентрироваться на архитектуре рамок хозяйственного порядка. Это государство ночных сторожей в лучшем смысле этого слова. При наличии хороших рамочных условий компании будут производить и инвестировать – а предложение создаст себе свой спрос. Если обеспечить предприятиям возможность получать прибыль, они не выпустят эту прибыль из своих рук, а вновь инвестируют свои средства – на благо своих клиентов и своих работников.
Примерно так звучали идеи, которые Гирш и другие пропагандировали тогда, именно в 80-е годы, и которыми он приводил в ужас всех социал-демократов и даже у «черно-желтых» вызывал мало радости, если отвлечься от Отто графа Ламбсдорффа, которого, однако, коррупционный скандал вокруг концерна Flick из-за так называемых «пожертвований» вытеснил из центра власти.
При моей первой встрече с Гербертом Гиршем речь шла «только» о рынке труда. Те годы в начале 90-х были грозным временем, когда Германия опасалась роста безработицы до четырех миллионов и уже распространялись – экономические и политические – сценарии наподобие тридцатых годов. «У немцев заканчивается работа?» – так звучали названия дискуссий на телевидении и в евангелических академиях. Задающие тон круги выступали за то, чтобы в качестве акта солидарности работа была перераспределена между всеми. Поскольку общество из-за кризиса капитализма раскололось на инсайдеров и аутсайдеров – имеющих работу и безработных, – было бы только честно сподвигнуть всех к солидарному отказу: радикальное сокращение времени работы в течение недели и рабочего времени в течение жизни представлялось левым и профсоюзам спасительным выводом из создавшейся ситуации. Кроме того, считалось, что государство должно создавать рабочие места, расширять государственные службы и с помощью политических мер, относящихся к рынку труда, субвенционировать деятельность предприятий. Так это звучало везде. И это было как-то понятно и мне.
Гирш возражал против этой теории труда как некоего «торта». Она рассматривала количество подлежащих отработке часов как фиксированное и заданное изначально: если торт уменьшается в размере, поскольку предприниматели заменяют людей машинами, или потому что рынок насытился (так тогда говорили многие), все существенные потребности уже удовлетворены и спрос невелик, тогда и для рабочих остается меньше работы. В этом случае объем работы нужно пропорционально сократить. Все работают меньше, чтобы работа была у всех. Профсоюзные левые называли это солидарностью и надеялись на то, что доходы, несмотря на сокращение рабочего времени, будут оставаться стабильными.
Политика предложения, как ее представлял себе Гирш, была прямо противоположна этой теории. Гирш хотел рассматривать работу не как статичную, а как динамичную величину. Если есть много безработных, то это (в том числе) связано с тем, что цена труда (заработная плата тех, кто предлагает свой труд) слишком велика. Вместо перераспределения работы труд следует сделать более дешевым, считал Гирш. Тогда рабочие снова найдут свой рынок труда. Разделение на инсайдеров и аутсайдеров не вопрос распределения, а вопрос власти: инсайдеры перекрывают аутсайдерам доступ к горшкам с мясом, чтобы законсервировать свои привилегированные зарплаты, которых добились сильные профсоюзы. Эту власть необходимо сломить. Рабочие должны иметь право заключать с работодателями договоры не по указке законодателя или профсоюзов. Нет закона, говорящего о том, что у нас заканчивается работа. Статичная теория пирога, какую бы солидарность она ни провозглашала, ведет не к солидарности, а к краху. В конечном итоге все работают всё меньше, не знают, куда девать эту массу насильно добытого свободного времени, и к тому же не имеют достаточного дохода. И что здесь может быть справедливого?
Для человека, который, как я, вырос в левой среде, это был чистый нонсенс. Гигантская провокация. Поскольку экономист утверждал, что рынок труда – это такой же рынок, как и любой другой, и что он функционирует по таким же законам. Разве мы, левые и католики, не говорили, что нельзя превращать работу в такой же товар, как любой другой, чтобы люди рассматривались как «человеческий капитал» и их ценность тем самым сводилась к приносимой ими экономической пользе? Гирш отвечал: когда желающие лишь добра левые подходят к работе не как к рынку, защищают ее и регулируют с помощью запретов на увольнения, директив по оплате труда и продолжительности рабочего времени, они не предотвращают безработицу, а создают ее, причем к тому же еще и в особенно несправедливой форме: одни являются счастливыми обладателями рабочего места, а другим надо идти на биржу труда.
Но вот о чем мне приходилось задумываться: каким бы бесстыжим я ни находил этого старого экономиста, я тем не менее не мог ничего противопоставить его аргументации. Мое сердце бунтовало, но мой разум не находил изъянов в ясности мыслей, а втайне они ему даже казались привлекательными. Если сердце бунтует против разума – кто здесь судья? Это старый, простой вопрос, на который есть много сложных ответов. Я, во всяком случае, вскоре смог обнаружить в себе своего рода эмоциональное рвение страстно рекламировать аргументы разума. Растущее беспокойство вызывал у меня тот факт, что большинство моих коллег и многие из моих друзей отдавали предпочтение представлявшемуся мне все более и более наивным сердцу. Кто мог быть против солидарности? Кто выступал за низкие зарплаты вместо высоких? Так просто быть хорошим – пока отказываешься принимать к сведению неприятные последствия морали горячего сердца. В принципе, Гирш спорил с левыми на поле их собственных идей: разве допустимо, чтобы группа привилегированных лиц оспаривала право непривилегированных на труд? Это чисто властная позиция и противоположность солидарности. Могло ли быть так, что левые стоят не на той стороне? Они часто говорят о своей солидарности с бесправными, а на самом деле защищают привилегированных.
Приписывать мое прозрение встрече с Гербертом Гиршем я стал позднее. Но часто так и бывает. Сам момент не воспринимается как стечение обстоятельств и поворот. Но задним числом понимаешь: вот именно тогда это произошло. Это, разумеется, был не один этот день, одна эта конференция. Конечно, это был не только этот (при взгляде назад с сегодняшних позиций уже не представляющийся столь значительным) экономист Герберт Гирш. Как человека, намного более важного в теории и оставляющего более длительный след, я сегодня назвал бы Фридриха Хайека. С практической точки зрения и в повседневной деятельности для меня был важен также Ханс Барбье, в то время шеф-идеолог экономической редакции FAZ и ученик Герберта Гирша.
Так левый стал либералом. С этого момента он должен был жить с обвинением в холодности. Нет сердца, говорили другие. Существует прежде всего одно неблагоприятное обстоятельство, из-за которого либерализму так трудно получить эмоциональное признание. Все всегда видят лишь половину существа дела. Видят жесткосердие, которое требует от рабочего соглашаться получать соответствующую уровню рынка (это необязательно должно, но может означать: более низкую) зарплату. А вот что остается незамеченным: левая солидарность могла бы привести к тому, что кто-то, кто до сих пор имел работу, эту работу потеряет. Это ли цель нашей солидарности? Люди смотрят на обваловщика, работающего на скотобойне за 4 евро 50 центов в час. И сердце каждого сентиментального гражданина говорит, что ему это не по душе, но и общество не должно так обращаться с этим человеком. Его работодатель наверняка сможет платить ему 8 евро и 50 центов. Но вот что остается незамеченным: Даже если скотобойня оставит на работе своего обваловщика за 8 с половиной евро, потому что ситуация с заказами хорошая (она при такой хорошей конъюнктуре могла бы даже нанять еще больше обваловщиков), она не была бы связана завышенным минимальным уровнем оплаты труда. Этим я хочу сказать следующее: даже если минимальный уровень зарплаты не создает неизбежно безработицу, он тем не менее может приносить вред, поскольку он препятствует тому, чтобы большее число людей дополнительно могло бы получать зарплату и иметь хлеб. Кто был готов доказывать эту взаимосвязь: если рабочего увольняют, левые никогда не признаются в том, что причиной могли быть слишком высокие, ибо не ориентированные на производительность, зарплаты. Они скажут, что фабрикант увольняет людей, потому что он нашел более дешевую машину или потому что он хочет обеспечить себе бо́льшую прибыль. Нельзя доказать, что не происходит что-то, что в другом случае могло бы произойти.
Поэтому разуму так трудно противостоять сердцу. Сердце знает не только те чувства, которых недостает разуму. Сердцу всегда приходят на помощь конкретные, живые образы, которые как наглядные примеры всегда оказывают должное воздействие: покрытый потом обваловщик в Мекленбурге, истощенная швея в Бангладеш, которая вынуждена работать за жалкую зарплату и в невыносимых условиях. Их можно видеть и считать, что они понятны. Разум, наоборот, оперирует абстрактными заключениями, нежелательными последствиями и спрашивает: вы были бы готовы согласиться и с тем, чтобы эта швея осталась без работы, что ей грозит, если повысить размер минимальной зарплаты? Ей, возможно, пришлось бы вернуться в свою семью, отправившую ее на заработки. Не исключено, что в этом случае она станет зарабатывать на жизнь проституцией. Многие видят в этом не только абстрактную связь по схеме «если – то», но даже и демагогическую, определяемую собственными интересами угрозу со стороны капитала. Можно оправдать любое плохое состояние, если сравнить его с худшим состоянием, говорят они в таких случаях. Это верно. Но экономическое мышление – это мышление, исходящее из альтернатив. Левому морализаторству альтернативы не нужны. Для этого у него есть его столь эффективные пафосные формулы.
У сердца есть образы. У разума их нет. И образы внушают, что они и только они говорят правду. Это напоминает одну из героинь пьесы Бертольда Брехта «Святая Иоанна скотобоен», которая, услышав теорию о том, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца, восклицает: «Какой глупец! У него что, башка без глаз?» Точно так же аргументируют левые друзья всего видимого, когда говорят: вы с вашими холодными сердцами, вы что, не видите, как плохо живется обваловщику! Вы что, на самом деле хотите отказать ему в праве на получение минимальной заработной платы?
Так я стал либералом. Таким, который все больше радикализировался. Я противился обманчивым образам сердца, стремился загнать их в апорию, становился все более воинственным – и с тех пор не допускал прежде всего одну претензию: монополию левых на справедливость. Создать впечатление, что именно они взяли напрокат мораль и справедливость, – это победа левых с далеко идущими историческими последствиями. Вызывает уважение, что эта семантическая победа удалась! А либералов (даже истинных) они постоянно подозревают в низких, эгоистических мотивах и, конечно же, в пристрастной ангажированности в пользу предпринимателей, богатых, правящих или просто в пользу самих себя, собственных привилегий. На обычной карте мира мир выглядит так: здесь левые, посвятившие себя общему благу, заботятся о бедных и слабых, которые страдают от растущего неравенства в обществе и ради справедливости намерены изменить и улучшить эту неприемлемую ситуацию с помощью политических мер. На другой стороне либералы и консерваторы. Они не страдают от существующего статус-кво, ибо он выгоден привилегированным слоям. Либеральные интеллектуалы, эти прислужники капитала, оправдывают общество, в котором нет равноправия, и восхваляют индивидуализированный эгоизм. И так далее. Добрые против злых. Гностическая экономика, в которой ясно, где добро, где зло, где свет и где тьма. Универсальные интересы против партикулярных интересов. Общее благо против блага правителей. Семантическая победа принадлежит левым. Я в течение десятилетий разделял это семантическое высокомерие. Теперь нет. Я принял решение в будущем оспаривать претензии левых на статус единоличных носителей справедливости. Либерализм выступает против монополий как ничем не оправдываемых центров частной власти. Левая монополия точно такой же центр власти. Его можно перебороть, не претендуя при этом для самого себя на новое право единоличного представительства. Это можно сформулировать и иначе: я решил взять цель справедливого общества из «старой веры» и не позволять левым оспаривать серьезность этого непреходящего поручения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?