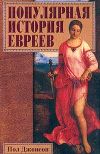Автор книги: Райнер Ханк
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
III
А платоновская пещера остается столь желанным местом. Почему конвертиты (не) предатели, и какие претензии свечная промышленность имеет к солнцу
То, что решения, касающиеся ценностей, всегда несут на себе некоторые черты религиозного акта, можно прочитать у Уильяма Джемса: Человек окунается в них и смотрит, понесут ли они его и если да, то как далеко. Это описание не лишено смысла, ведь оно указывает на последовательность, придающую рациональности противоположное направление. Мы не шли сначала на теоретический семинар жизни, чтобы узнать, каким человеком каждый из нас хотел стать и какие для этого нужны взгляды, предпочтения и ценности, и после этого подать заявление на получение нашего левого членского билета. Все происходит в обратной последовательности: мы просто отправлялись в эту среду, где возможность перенять признанные там ценности – в не совсем жестком варианте, но и без простой возможности свободного оформления – включена в плату за вход или, что правильнее, ожидается другими участниками движения. Признание политических или моральных ценностей тем самым всегда несет в себе нечто от акта веры. Это как бы естественный призыв. Быть левым с этой точки зрения значит присоединиться к религиозному сообществу. Мне с моим опытом пребывания в католической церковной общине это было не чуждо. Христианином тоже ведь не становятся посредством акта принятия решения, даже если крещение представляет это таким образом. В процессе крещения волевой акт совершают крестные и родители, в то время как младенец спит, попискивает и терпит все происходящее. А когда он просыпается, он обнаруживает, что он стал членом общины. Слова Уильяма Джемса «Воля к вере» следуют латинской фразе primum vivere, deinde philosophari. Сначала приходит жизнь, после этого можно пытаться ее понять. Человек живет вперед и – надо надеяться – оглядываясь назад, понимает что-то из этой жизни.
Если бы мы начинали с рефлексии, то мы никогда бы не начали жить, подобно той сороконожке, которая начала пересчитывать свои ножки и поэтому топталась на месте. Это влечет за собой последствия. Человек легко попадает в сообщество единоверцев, а вот выйти из него может лишь с большим трудом. Но именно этого мы при вступлении в сообщество, которое происходит в пространстве предрефлективных волевых тенденций, еще не знаем. В этот момент мы заняты мыслями о вступлении в сообщество; было бы противоестественно думать о выходе из него, когда мы как раз внутренне размышляем о требуемом поведении, обязанностях и вознаграждениях, связанных со вступлением. Принадлежность создает привязанность и требует лояльность. В благодарность человек получает то тепло, которое сообщество внесло в свою альтернативную программу. Все говорят на одном языке, разделяют общие убеждения, имеют дело с общими противниками, восхищаются задающими тон другими членами сообщества. Одним словом: состояние принадлежности, когда оно наступило, представляется, разумеется, не как рай, однако предстает все-таки в определенной бесповоротности. С этого момента лозунг, при свободном цитировании Рудольфа Аугштайна, звучит так: «В случае сомнений – налево».
Эта связь и принадлежность затрудняют выход. Тот, кто когда-нибудь решается покинуть религиозное сообщество, должен из-за своего «решения» смириться с обвинениями в нелояльности, чтобы не сказать больше. Причем не только перед другими и от других, а в большинстве случаев в еще более болезненной форме от самого себя и перед самим собой. Эта строгая проверка совести не признает оправдания, что при вступлении в сообщество определенных ценностей человек был еще молод, еще не оценил моральные или философские импликации его дорефлексивного волевого решения, но в процессе практического испытания левого жизненного проекта понял, что это все-таки не его идеал, что он за прошедшее время развился дальше, созрел и так далее. Все эти обоснования, молящие о разрешении на выход, высказываются в качестве дешевых рационализаций: не думай, что они могут облегчить твою нечистую совесть, даже если ты на это надеешься! Мартин Вальзер, оглядываясь назад, называл свое радикально-левое время «вторым религиозным опытом своей жизни после католицизма».
Почему человек отказывается от своих ценностных убеждений, если они до сих пор служили ему ориентиром и опорой в жизни? И поскольку, как мы увидели и узнали, речь идет не о когнитивных позициях (или идет о них, вероятно, лишь в меньшей степени, чем представляется), а о целостных формах жизни, которые предполагают некую принадлежность к общине, это затрудняет выход еще больше. Но одно уже ясно: в любом случае выход и переход будут связаны с кризисом.
Я, правда, могу сформулировать вопрос совершенно иначе: откуда, собственно говоря, возникают эти настолько удивительно устойчивые угрызения совести, которые сопровождают прощание с прежней верой? Откуда берется эта сила привязанности к убеждениям, которые возникли уже очень давно и которые чем дальше, тем очевиднее оказались не в состоянии скрывать свои заблуждения, слабые с интеллектуальной точки зрения места и искажения? Откуда вся эта душевная мука, которая была связана с началом автономного мышления, такая, что теперь понадобилась еще даже и эта книга как акт размышлений? Очевидно, не так просто изложить свою биографию как нормальный процесс созревания, который привел меня из мира романтической мифологии греющих сердец в реальный мир, кажущийся холодным только тому, кто по сей день не желает отказаться от своего романтического уюта. Ведь взросление происходит именно так, или? Не так же ли как минимум удивительна мучимая совестью реакция, которая требует от меня постоянно стремиться доказывать моему прежнему окружению, что я не стал другим, что я все еще верен идеалам справедливости – только теперь в новом теоретическом одеянии либеральной традиции? Странно.
Может быть, нам помогут женщины – ведь мы уже раньше столкнулись со странной политически-эротической взаимосвязью между прежней левой привязанностью к ценностям и первыми привязанностями к партнеру, которого мы любим. Я еду к Анне в Штутгарт. С Анной и ее другом Томасом (они встретились еще в общей квартире в Тюбингене сорок лет тому назад, уже 20 лет состоят в гражданском браке, живут в разных городах Германии, любовно называют себя «помолвленными»), меня связывает многолетнее знакомство. Томас старый верный друг еще со времен нашего «Кукушкина яйца», наши контакты за все эти годы никогда не прерывались. Томас никогда не высказывался по поводу моей смены ценностей. Я, в принципе, не знаю, что он по этому поводу думает. С одной стороны, политика для него сегодня, наверное, уже не так важна, как тогда. Вместе с тем я уверен, что он никогда бы не разделил мое сегодняшнее мировоззрение, но у него нет (никогда еще не было) большого желания конфликтовать. Он принимает к сведению то, что я думаю и пишу и, разумеется, читает FAZ. Но он молчит. Анна смотрит на это иначе. Для Анны я уже много лет с политической и интеллектуальной точек зрения постоянный источник раздражения. Стоит нам оказаться рядом, как она начинает дискуссию, которая быстро перерастает в своего рода вежливую ссору. Она считает, что я полностью переоцениваю значение рынка, поднимаю его на слишком большую высоту. Что государство вполне имеет право на существование как выражение воли граждан и политического строительства и что я этого не понимаю. Она считает, что потребление сегодня везде стоит на первом плане и что это уже просто перебор, если потребление становится смыслом жизни. В 70-е годы это было не так, считает она.
Для нее очевидно, говорит Анна, что в 70-е годы и среди тогдашних левых интеллектуальные споры, мнения, идеи, идеологии, взгляды были важнее, чем материальные вещи, в то время как сегодня все выглядит наоборот. Интерес к дискуссиям и критическому анализу невелик, зато роль играют материальные блага. «Я не могу отрицать, что я тоже люблю потреблять, что-то покупаю». Если бы люди были полностью низведены до статуса «потребителей» или пользователей, то это имело бы оттенок чего-то пассивного, ослабляющего, разрушительного, безголового, – так считает Анна.
Анна на год или два старше меня, по профессии биохимик. Интересно то, что она, выбрав для учебы в университете «материалистическую» дисциплину, тем не менее с такой пронзительной серьезностью ощущала свою привязанность к «духовному». Она, по ее словам, стала изучать биохимию, потому что она в то время, когда ко всему нужно было относиться критически, когда все при теоретическом рассмотрении теряло свою убедительность, не могла найти ориентацию, опору или масштаб ценностей. «Чем я должна была руководствоваться в своих выводах и оценках?» – спрашивает она. Тогда она видела выход в обращении к чему-то «материальному», к субстанции, которая, возможно, легче для понимания. Помочь, возможно, могло бы знание того, как функционирует дух, как тикает человеческий мозг. Но это, как она говорит, разумеется, очень быстро оказалось ложным предположением.
Тогда, в Тюбингене, в наших совместных жилищах, я не воспринимал Анну всерьез. Но тем не менее этот контакт окольными путями в течение всех этих лет сохранялся. Тогда уже Анна была левой, что для представителей естественнонаучных профессий отнюдь не было само собой разумеющимся.
«Мы тогда выступали против ориентации на деньги, ориентации на прибыль, на потребление. Для нас был важен дух. Каждый из нас хотел стать исследователем и ученым. Самое ужасное, что могло случиться с нами в профессиональном плане, была бы работа представителем фармацевтической компании». Поэтому представителем фармацевтической компании она, разумеется, не стала. Становиться исследователем она тоже не стремилась. Потом она вышла замуж, родила дочь. Уже много лет она работает редактором в издательстве в Штутгарте. Несколько лет она была членом производственного совета, вела переговоры об удобных для семейных работников моделях регулирования рабочего времени. Иногда ее можно встретить в какой-нибудь политической группе, которая занимается конкретной коммунальной работой, но в которой обсуждают и угрозы, исходящие от Соглашения о свободной торговле.
Я навещаю Анну тихим днем в конце лета 2014 года в ее милой трехкомнатной квартире в заднем корпусе жилого дома на востоке Штутгарта. Раньше это был рабочий район. В 80-е годы там стали селиться молодые люди, они освежили этот квартал. Объектом джентрификации эта территория не стала, в отличие от штутгартского юга и запада. Когда-то Анна купила эту квартиру. Она не захочет отсюда уехать, хотя она уже скоро выйдет на пенсию и могла бы съехаться с Томасом. На столе сыр из магазина экологически чистых продуктов. «Критичным было тогда быть левым, – говорит она, – я это переняла. Это было в некотором смысле то окружение, в которое я вросла, и которое было мне симпатично и близко». Настоящей активисткой, по ее словам, она никогда не была, «для этого у меня было слишком много сомнений и мало уверенности». Вожаки, мужчины, вызывали у нее некоторое восхищение, но прежде всего удивление, как можно быть так во всем уверенным. «Если я представляю себе, что я выросла бы в нацистской Германии, то потребовалось бы много усилий, чтобы ни в чем не участвовать». При этих словах мы немножко пугаемся, но не берем их назад.
Нет, конечно, стать левым в 70-е годы не было «безальтернативным» вариантом. Но надо ведь занять какие-то духовные позиции, прежде чем подвергать их сомнению. А альтернативы, которые тоже можно было бы выбрать, были бледными или перегоревшими. Во всяком случае, тогда нужно было бы приложить значительные усилия, чтобы не стать левым. Мы и не ставим себе это в вину. Но Анна ставит мне в вину обращение в либерализм, мое сегодняшнее видение мира. Анна говорит, что сегодня она тем не менее все еще левая и что для нее это важно. На следующий день Анна присылает мне сообщение по электронной почте. Она пишет, что после нашего разговора она вдруг стала сомневаться, в чем, собственно, заключается ее сегодняшняя левизна. «Сегодня ведь понятие «левый» интерпретируется в значительной мере как социальный, в смысле оказывающий помощь, – пишет она. – Такие понятия, как самоопределение, эмансипация и т. д., почти уже не играют никакой роли. Ну да, кое о чем еще надо было бы подискутировать».
«Предатель». Во всех дебатах я слышу это обвинение. Анна обвиняет меня больше всех. Как и Карин, подруга из среды берлинских левых. Обвинения в предательстве звучат из уст женщин (другие «перебежчики» тоже сообщают мне об этом). В этих обвинениях есть и такой подтекст: оппортунист, карьерист. Что такое предатель? Человек, грубо нарушивший оказанное ему доверие. Брехтовский Галилео Галилей, герой, это типичный интеллектуальный предатель. Он предает истину и науку, когда он из страха прогибается под авторитетом Папы. Здесь, у Брехта, он предшественник того коммунистического героя, который становится предателем, когда он из «материалистических» соображений отказывается от утопического идеала. Обеспечивает себе комфортное существование. Оставляет свои убеждения позади.
«Не перебарщивай», – говорит Анна. Можно посмотреть на вещи намного проще. Предательство звучит для нее слишком героически. «Предательство для меня это вообще уже не категория», – говорит она. «То, что ты воспринимаешь как упрек с моей стороны, на самом деле исходит от тебя», – бросает она мне в лицо. Это мои угрызения совести из-за того, что я отвернулся от левых, заставляют меня оправдываться. Анна права.
Она постоянно возвращается к тому, что мир сместился от идеализма в сторону материализма и эгоизма. Бренды, символы, статус, красивая татуировка – все эти внешние проявления, с ее точки зрения, сегодня играют слишком значительную роль. «Если ты не натренирован, у тебя нет шансов». А то, что я еще и не вижу в эгоизме ничего плохого, она понять не может. «Для меня всегда существовало противоречие между твоим поведением – доброжелательный, предупредительный, обращенный к людям, что, как я думаю, отражает твою принципиальную сущность, – и твоей политической позицией, которая, грубо говоря, представляется мне скорее расчетливой, эгоистичной и никак не дружелюбной».
Вот оно что! Любезности Анны («доброжелательный») делают ситуацию еще более невыносимой. Доброжелательный человек не имеет права быть либералом. В течение всех наших многочисленных бесед за прошедшие годы мне, очевидно, не удалось разъяснить ей доброжелательную сущность либерализма. В ее случае это тем неприятнее, что она в принципе относится ко мне хорошо. Приговор – «эгоистичный», «расчетливый» – упорно продолжает держаться. Мне тоже не удалось разъяснить человеческий и сверхчеловеческий смысл оценки затрат и результатов: Мало того, что мы все, если быть честным, постоянно оцениваем соотношение затрат и результатов («Мышление с учетом альтернатив»), – сколько я хочу «инвестировать», чтобы сблизиться с новым партнером? Что даст переход на новую работу? От чего я отказываюсь? Что вообще плохого в том, чтобы (на рынке, в любви) открыто и честно говорить друг другу, что мы ожидаем друг от друга и не умалчивать о том, что если люди сходятся друг с другом (на рынке, в любви), то это имеет свою цену? В противном случае мы обманываем сами себя. Именно в любви, возражает Анна еще раз, не должно быть взаимозачетов, это обязательное условие.
Тут поможет только одно: начать сначала, по возможности без предварительных условий перечитать слово за словом содержание либерального учения. Апология либерализма – это далеко не то, что сейчас обязательно требует дух времени. И поэтому это тем более необходимо.
Все начинается с индивидуума, и только с него. Когда человек получает возможность заглотнуть слишком много свободы, ему может стать дурно. Так это произошло с немецким либеральным философом по имени Вольфганг Керстинг. Сегодня, когда ему уже почти семьдесят и после полной событий жизни в борьбе за свободу он говорит: «С некоторых пор я страдаю от недуга, который можно назвать публицистическим пресыщением. Если использовать полную магнетизма метафору, то свобода, справедливость – все эти моральные лозунги нашего политико-культурного самовосприятия меня больше не привлекают, они меня, наоборот, очень эффективно отталкивают. По этой причине я – как бы это лучше выразить? – прекратил свое участие в политическом дискурсе». Так это бывает. Свобода неделима, как часто любят говорить. Но тот, кто рассуждает о ней, должен следить за дозировкой.
Со свободой дело обстоит примерно так же, как с Землей у Бертольда Брехта, которая вращается вокруг Солнца. Идея, может быть, и правильная, но только увидеть это, к сожалению, невозможно, из-за чего поверить в эту теорию достаточно сложно. Противоположный вариант, а именно то, что Солнце вращается вокруг Земли, представляется более вероятным. Это можно каждый день наблюдать собственными глазами.
Свобода – это одно из тех ощущений, которые быстро забываются и становятся сюрпризом, если они возвращаются, говорится в одном романе Бодо Кирххоффа. К ней можно привыкнуть настолько, что она больше не будет ощущаться. При этом мы ведь постоянно нуждаемся в ней, в первую очередь в качестве предпосылки для самореализации. Как это «само» могло бы реализоваться, если бы оно не было свободно? По этому свободу не следует ограничивать и в понятийном плане, предписывать ей, что ей можно, а чего нельзя. Это было бы противоречием внутри самого понятия. Свобода это свобода, не равенство или лояльность, или справедливость, или культура, или человеческое счастье, или спокойная совесть, пишет Ральф Дарендорф. Свобода подчиняется анархическому импульсу, выглядит несовершенной и странным образом ненаполненной. Свободу можно использовать и во вред, не вопрос, но это не аргумент против свободы, а вопрос к морали наших поступков.
Я не хочу все это сверхинтерпретировать, придавать слишком большое значение преемственности. Но между маркузовским «Эссе об освобождении», моим восхищением «Теологией освобождения» и речью сегодняшнего либерала о свободе существуют не только разрывы, но и внутренние взаимосвязи. Из осторожно прощупывающего ситуацию флирта с освободительным движением возникла приверженность свободе. Возможно, многие убеждения, которые мы приобрели в жизни, это плоды такого процесса.
Но свобода это не освобождение. Между ними даже существует огромное противоречие, если только не подразумевать под свободой и самоосвобождение. В ином случае освобождение подразумевает наличие освободителя, который знает, куда надо идти. А другие следуют за ним. Всем освободительным движениям нужен предводитель. В этом их беда. Освобождение – дело коллективное, свобода – индивидуальное. Освобождение авторитарно, свобода антиавторитарна, иногда даже анархична.
В речи по случаю присуждения звания почетного доктора университета Торонто в ноябре 1994 года, которую он назвал своим «кратким кредо», Исайя Берлин, тогда уже достигший библейского возраста, предупреждал об опасности переоценки идей таких предводителей. Освободитель убежден в том, что существует идеальное и хорошее общество и что он знает ведущую туда дорогу. Только глупцы и злыдни, лишенные разума или доброй воли, могут этому противиться. Тех, кто противится, нужно переубедить. Если они не поддаются убеждениям, то их надо принудить с помощью законов, в крайнем случае с применением насилия. Все это с наилучшими намерениями для реализации благой цели. Так выглядит логика освобождения. Свобода здесь понимается как осознанная необходимость. Логика освобождения на взгляд Берлина – это драма ХХ века. Берлин надеется, что XXI век не будет следовать этой логике.
Свобода не имеет освободителя, за исключением того, кто освобождает себя сам. Что определит для себя этот «сам» – это его и только его дело. Свобода здесь на самом деле радикально негативна, она не позволяет никому определять свои цели, а определяет их для себя сама. Поэтому свобода утомительное дело. Никто не знал это так хорошо, как экзистенциалисты, Жан-Поль Сартр и его друзья. Свобода никому не позволяет себя учить. Ее нужно себе позволить. «Я позволю себе», – говорит швабский коммерсант и берет деньги, которые ему полагаются за его товар. Но о свободе можно, разумеется, говорить; это философия либерализма. Но и либерализм, говорит Исайя Берлин, должен осознавать опасность всех спасительных учений. Либерализм должен признать за другими право не присоединяться к либерализму. Все иное было бы предательством по отношению к идее.
Свобода не видна. Неравенство чувствуется сразу. Оно конкретно. То, что мой сосед зарабатывает больше меня, не секрет, даже если в Германии не принято говорить о доходах и зарплате: мне достаточно взглянуть на его внедорожник, и все становится ясно (даже если это не соответствует действительности). Поэтому в равенство верят намного больше людей, чем в свободу, ибо неравенство тяжело выносить. Между свободой и равенством нельзя представить себе полноценное взаимодействие. Тот, кто ищет абсолютное равенство, должен ограничивать свободу людей, чтобы самые одаренные или те, кому особенно повезло, не убежали вперед, оставив далеко позади неудачников. Многие считают такое ограничение свободы правильным. Я нет.
Свободу тоже трудно переносить. Немного поддержки, привязанности, помощи, патернализма хотим ведь мы все. Это наше законное право. Немцы даже хотят, чтобы была запрещена продажа Санта Клаусов в летние месяцы. Как будто им нужно, чтобы государство не позволило им поддаться соблазну в середине августа начать праздновать с Санта Клаусом. Никто не хочет выбирать несвободу. Но многие догадываются, что слишком много свободы им не по силам. Это проклятие ответственности. Поэтому свобода – падчерица буржуазного просвещения, в то время как кровные родственники братство и равенство являются любимчиками семьи. Равенство и справедливость находятся в центре повседневных политических событий. Свободе отводятся исключительные дни. Она регулярно выступает с речами на праздничных или траурных мероприятиях. После этого она снова попадает на склад реквизита. До следующей памятной даты.
Либерализм нечто большее, нежели экономический либерализм. Даже если многие в это не верят. Вначале он описывает жизненное ощущение, мировоззрение. Тот, кому это нужно, может подкрепить либерализм также и большим количеством философии, предпочтительно из века Просвещения и преимущественно из Шотландии.
Я представляю себе мир исходя из образа индивидуума. Моего собственного «Я». Поскольку я очень любопытен, я проявляю интерес не только к себе, но и к другим, соотношу меня с другими. Я взвешиваю свои интересы и потребности, надеюсь на помощь и пользу от других людей. Это необязательно нужно отвергать: помогать другим людям, даже приносить себя ради них в жертву вполне может отвечать и моим интересам. Это альтруизм? Или все еще эгоизм? Во всяком случае, это неправильно, это боевая стратегия противников – противопоставлять эгоизм альтруизму, и наоборот. Пекарь и мясник Адама Смита живое доказательство обратного. Они пекут хлеб и делают колбасу из эгоистического интереса и одновременно удовлетворяют интересы людей. Что может быть более альтруистичным?
Из взаимоотношений между «Я» и «Ты» возникает общество. У людей есть идеи, как они хотят жить, они определяют для себя цели, размышляют о том, к чему они намерены стремиться, и обмениваются этим друг с другом. Иметь все невозможно. Поскольку все ограничено. Ограничено в первую очередь время. Между временем жизни и мировым временем зияет пропасть. Тот, кто совершает поездку на Бали, не может одновременно отправиться во Флориду. Тот, кто становится журналистом, не может стать архитектором. Каждое решение предполагает отказ. Так определяется стоимость жизни – ценой того, от чего мы вынуждены отказываться. Это закон природы, мы говорим о цене целесообразности. Тот, кто хочет что-то иное, хочет жить в стране с молочными реками и кисельными берегами.
Если я и ты чем-то обмениваемся между собой – стеклянными шариками для игры, танками, книгами, возникает рынок, т. е. экономика. Для того чтобы иметь количественную меру стоимости предметов, участвующих в обмене, люди придумали деньги. Это упрощает дело.
Государство для этого изначально не требуется. Общество без государства можно было бы себе представить. Робинзон и Пятница обходились без него. Но когда общества вырастают до больших размеров, государства оказываются вполне полезными. Граждане заключают друг с другом добровольные договоры. Под вуалью незнания того, насколько благосклонно обойдется с ними судьба, они создают законы, перед которыми все люди равны. Если они хотят, чтобы все шло по канонам демократии, они выбирают из своей среды своих представителей. Это государство гарантирует гражданам безопасность перед внутренними и внешними угрозами. За это граждане платят цену, которую мы называем налогами. Государство существует не ради самого себя. Оно приобретает свою легитимацию исключительно благодаря тому, что оно гарантирует свободу граждан.
Это либеральное государство. Называть его минимальным государством не годится, и нетрудно разгадать, что это пропаганда тех, кто стремится к максимальному государству. Это могут быть политические деятели, живущие за счет государства. Это могут быть граждане, которые хотят через государство вытягивать деньги из карманов своих сограждан. Такие граждане особенно часто встречаются среди преподавателей: они рассчитывают на субвенции, для оправдания которых они ссылаются на то, что они ведь создают рабочие места и совершают благие деяния для окружающих. Особенно успешной здесь оказалась немецкая индустрия солнечной и ветровой энергии. Политики в этом охотно участвуют, не потому, что они хотят дарить компаниям деньги, а потому, что рассчитывают на голоса на следующих выборах.
Либерализм смотрит на государство и на бизнес с одинаковым скептицизмом. Скептицизм и так одна из главных черт либерализма. Скептицизм – это позиция, для которой нужно достичь некоторого возраста. Скептицизм может перейти в недоверие. Это в отношении государства и бизнеса даже вполне уместно. Несмотря на это, недоверчивых никто не любит, это мизантропы. Поэтому не нужно, чтобы недоверие становилось главной чертой характера либералов. Против этого помогает слово великого либерального философа Карла Поппера: «Оптимизм это обязанность». Либералы друзья людей, скептики, но не мизантропы.
Скептическое отношение либералов к государству известно. Оно оправданно, хотя и является часто объектом критики. Но мы ведь знаем, что и демократические режимы не являются «благожелательными диктатурами», которые пекутся лишь о благе гражданина, они преследуют очень большое число партикулярных интересов. Менее известен скепсис в отношении бизнеса, поскольку существует распространенное ошибочное представление о том, что либералы окрылены наивной верой в капитализм. Это неверно. Либералы относятся к власти скептически независимо от того, исходит ли она от государства или от бизнеса. Это критически важный принцип либерализма. Это левый стержень либерализма.
Больше всего доверия и меньше всего скептицизма либералы демонстрируют по отношению к рынку. Это надо сказать, прежде чем либеральные слюнтяи начнут в своей оппортунистической манере лепетать, что либералы тоже согласны с тем, что рынок не оправдал ожиданий. Возможно, это так. Но верно и следующее: рынок как спонтанное соглашение между акторами бизнеса пользуется у либералов наибольшим авансом. А именно по эмпирическим и по теоретическим основаниям. Он ближе всего к свободе. Он первый обещает то, что люди могут реализовать свою свободу, увеличить свое жизненное пространство и поднять уровень жизни, делясь работой с другими.
Рынки – это спонтанно устанавливаемые порядки. Мы не знаем автора, который спроектировал порядок, придумал роман событий, происходящих в нашем мире. Такое в мире случается довольно часто. Человеческие языки (кто смог бы изобрести немецкий язык или латынь?) или – в мире природы – кристаллы, это тоже спонтанно возникающие структуры, которые невозможно спланировать заранее. (Esperanto как искусственный язык – исключение, но оно не прижилось.) Вселенная сама, говорят многие естествоиспытатели, является результатом такого спонтанного порядка. Мыслить идеями спонтанного порядка для нас очень сложно, поскольку здесь по определению отсутствует субъект в качестве актора-создателя. Но грамматическая структура языка всегда предполагает наличие субъекта, действия которого описывает сказуемое. Или, иначе: там, где есть сказуемое (процесс, действие, результат, рынок), там грамматика автоматически включает в действие субъект, несущий ответственность за происходящее (в хорошем и в плохом смысле). Если такой субъект не определяется, то язык прибегает к неким обезличенным формам. Поскольку мы не знаем, кто отвечает за наступление вечера, мы просто говорим: «Вечереет». Но нам трудно поверить в то, что Вселенная сама является результатом спонтанного порядка (причем слово «спонтанный» также звучит несколько беспомощно, поскольку мы ведь не знаем правил спонтанности). Мы поэтому приписываем сотворение мира божественному творцу, который, как бы в роли первого и последнего мастера централизованного планирования Вселенной, все это придумал и реализовал. Здесь мы снова видим близость между теологическим и левым мышлением. Никто не описал принуждение к наличию субъекта, исходящее от грамматики, так ясно, как Фридрих Ницше в своих «Сумерках идолов»: «Я опасаюсь, что мы не можем избавиться от Бога, поскольку еще верим в грамматику». Иными словами: в грамматике спонтанные порядки не предусмотрены. Но поскольку грамматика определяет наше мышление, либерализму приходится очень трудно. Перефразируя слова Ницше, можно бы сказать: я боюсь, что мы не сможем избавиться от левых, пока мы еще верим в грамматику. Так же как грамматика, левые всегда исходят из того, что существует некое центральное планирующее «нечто». Спонтанные порядки для них неприемлемы.
Если либералы говорят, что рынки – это спонтанные порядки, то они не утверждают, что рынки как бы падают с неба. Рынки нуждаются в наличии институционального свода правил, чтобы спонтанный процесс вообще мог развернуться. К важнейшим среди этих правил относятся права собственности и юридические правила, определяющие договорные отношения между участниками рынка. Иначе спонтанность рынка могла бы привести и к тому, что мой партнер по обмену обведет меня вокруг пальца, пообещает оказать мне определенную услугу, но не выполнит обещания. Это привело бы к остановке всего и вся. Люди больше не стали бы вкладывать средства в предприятия или даже в частную недвижимость, если бы у них не было уверенности в том, что их собственность находится под защитой и не может быть без всяких на то оснований у них отнята.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?