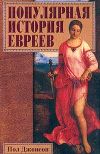Автор книги: Райнер Ханк
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Назад в переломный 1973 год. Путч в Чили положил начало неолиберализму. Во всяком случае, для меня. Страна в экономическом отношении была доведена буквально до ручки, обанкротилась, обнищала. Ее положение улучшилось лишь после того, как пришедший к власти диктатор генерал Аугусто Пиночет обратился за помощью к либеральным рыночным экономистам из чикагского университета, которые определили для страны курс экономических реформ: радикальную приватизацию, поощрение предпринимательской деятельности, отмену таможенных пошлин, открытие рынков. Надо представлять себе это примерно так, как в Китае Дэн Сяопина после XI съезда партии в 1978 году, с той только разницей, что в Южной Америке свободу рынка провозгласил не коммунистический или маоистский режим, а авторитарная военная хунта.
Милтон Фридмен, лауреат нобелевской премии по экономике из Чикаго, оправдывал свою роль в качестве советника и подручного Пиночета в статье в Newsweek от 14 июня 1976 года: «Несмотря на мое резко отрицательное отношение к авторитарной политической системе в Чили, я не считаю зазорным для экономиста поддержать чилийское правительство техническими экономическими советами. Точно так же я не счел бы достойным порицания, если бы врачи предоставили режиму помощь в форме медицинского консультирования в случае возникновения необходимости остановить в Чили волну заболеваний». По-настоящему убедительно эта апология не выглядит. В своем знаменитом произведении «Капитализм и свобода» («Capitalism and Freedom») 1962 года Фридмен сам защищал представление о единстве экономической и политической свободы. Если сейчас он в качестве экономико-политического врача пытается уйти от ответственности за жестокое подавление политической свободы, то все это звучит малоубедительно.
Чили стало первым практическим тестом того, что тогда называлось и сегодня еще называется «неолиберализмом». Это была революция идей, которая, как никакая другая революция, изменила мир в ХХ веке. Задолго до революции Маргарет Тэтчер (1979) в Великобритании и приходу к власти Рональда Рейгана (1981) власть в Чили перешла в руки «радикалов-рыночников». Эти идеи стали настоящим лидером экспорта чикагских экономистов в Южную Америку. В постреволюционном Чили предполагалось, как в лаборатории, начать радикально-либеральный экономико-политический эксперимент.
После 1973 года понятие «неолиберализм» вошло в оборот и в Германии. Я прочел об этом в газете Zeit, которую я, как и многие из моих сокурсников, выписывал еще со школьных лет. Мне с самого начала было ясно, что я должен был по этому поводу думать, а именно ничего. Из-за того, что «чикагские парни», как их тогда называли, оказались неспособны подтвердить неделимость свободы, представляемый ими «рыночный радикализм» оказался под подозрением задолго до того, как он вообще получил шанс прорекламировать самого себя. Ибо все должно было выглядеть так, будто холодный «неолиберализм» был близок с авторитарными, реакционными, правыми режимами. Неудивительно, что мы – левые – хотели и могли видеть лишь особенно зловредное проявление американского империализма. Мы игнорировали – или не видели – тот факт, что люди в Чили благодаря рыночному хозяйству были избавлены от постоянной нищеты. За ними признавалось право на скромный материальный достаток, а вот в достоинстве и свободе либералы им отказывали. В конечном счете это привело к поражению либералов еще до того, как они смогли по-настоящему победить.
Тяжелое положение, в котором неолиберализм до сих пор находится в Германии, тесно связано с политическим выходом этой идеи на арену всемирной истории в 1973 году в Чили. Семантическая реконструкция понятия неолиберализма захватывает и удручает одновременно. Ибо вначале это понятие воспринималось здесь во вполне положительном смысле, с ним ассоциировалась социальная рыночная экономика Людвига Эрхарда, как и фрайбургская школа Вальтера Ойкена и Вильгельма Рёпке, считавших, что рост и конкуренция нуждаются в сильном государстве, которое запрещает образование монополий и картелей и не допускает концентрации экономической власти. Так это понятие использовалось еще и в экономической публицистике в Чили 60-х – начала 70-х годов. Переориентация с позитивного на негативное значение на самом деле посредством статистически тщательно выверенных анализов содержания может быть датирована серединой 70-х годов. Можно было бы сказать и так: кровавая революция Пиночета в Чили нанесла решающий удар и по либерализму, от которого он во всем мире (но прежде всего на Европейском континенте) не оправился до сих пор.
Почему, как несется в сторону либералов из лагеря левых, «левые должны любить либерализм», если этот либерализм готов шагать по трупам лишь для того, чтобы сделать богатых богатыми? Мало толку и от того, что у нас в стране бодрые либералы ссылаются на то, что школа социального рыночного хозяйства и ее фрайбургские отцы-основатели под «неолиберализмом» подразумевали социально укрощенный, упорядоченный заданными государством правилами рынок, т. е. ни в коем случае не турбокапитализм. Но в Чили, как известно, к власти пришли не немецкие неолибералы, а авторитарные генералы и их экономические советники из чикагского университета. Предпринимаемые задним числом апологетами попытки скорректировать содержание этого понятия, даже если они имеют возможность сослаться на его исторически верное использование, никогда еще не приносили желаемого результата. Тогда, в 70-е годы, мы читали в Zeit, что неолиберализм вещь злая и вредная. А когда мы становились отцами или учителями или и тем и другим, мы рассказывали это нашим дочерям, сыновьям и ученикам. Германию 1973 года от неолиберализма отделяли многие световые годы. Мы проживали (пока) единственное социально-либеральное десятилетие. Но и здесь, как уже было сказано, 1973 год – это год решающих перемен, переломный год послевоенной истории. Шок лета 1973 года был как минимум таким же сильным и внезапным, как крах финансовой системы летом 2008 года. Ощущение защищенности в гарантированном прогрессе периода экономического чуда вдруг исчезло. Внушать веру в длительную стабильность – это очевидно самая большая иллюзия, которую капитализм время от времени распространяет.
Скепсис и озабоченность стали интеллектуальной реакцией на опыт (или предчувствие) исторических перемен. Этот скепсис проявился в двух совершенно различных вариантах:
– романтичном, иногда «зелено-левом»;
– неолиберальном.
Обе позиции и по сей день определяют наши интерпретации. Левые, что не очень удивительно из-за их романтической традиции между Карлом Марксом и Вильгельмом Гауффом, отстранились от либерализма, с которым они в XIX веке делили оптимистические представления о прогрессе, но который они так никогда и не смогли полностью признать. Цветом этого романтического скепсиса в Германии, а позднее и в других регионах мира стал насыщенный зеленый цвет. Левые и «зеленые» после этого смешались, не сразу, но чем дальше, тем больше.
1973 год стал первым годом горячих споров о наличии или отсутствии смысла у экономического роста. Среди интеллектуалов тогда произошел разворот на 180 градусов, который произвел впечатление и на политиков: «Экономический рост, до того момента предмет гордости и гарант политической стабильности, попал под огонь критики», – констатировал дуайен истории германской экономики Кнут Борхардт. На основании отчета Римского клуба о «Границах роста», вышедшего в 1972 году, скептически относящиеся к прогрессу романтические критики в принципе поставили существовавшую модель экономического роста под вопрос.
Экономический кризис был переосмыслен как благо для человечества, поскольку, как утверждалось, теперь стали очевидны разрушительные последствия господства над природой и ее эксплуатации, на которых основывалась модель роста. Этот взгляд на десятилетия определил доминирующие рамки толкования хода событий, из которых выросло зеленое движение, вне которого в конечном счете не захотели остаться и левые, тем более что критикам роста удалось соединить критику концепции роста, судя по всему без особых усилий, с эгалитарными моделями справедливости.
По времени к этому же контексту относится и возникновение экологического движения, начало которого такие историки, как Генрих Август Винклер, хотят видеть не где-нибудь, а именно в Америке, в Законе о национальной политике в области охраны окружающей среды (National Environmental Policy Act), принятом при президенте Никсоне в 1970 году: с тех пор ежегодно празднуется «День земли». Страх охватил мир, боязнь «экологической Хиросимы» расползлась по планете. 19-го июля 1973 года радио сообщило о решении отказаться от первоначально планировавшегося строительства новой ядерной электростанции в городке Брайзах и строить станцию в коммуне Виль (Кайзерштуль). Через несколько дней после оглашения этой информации 27 крестьян из Кайзерштуля выступили с протестом против строительства. Этим было положено начало антиядерному движению, которое в конечном счете победило, добившись решения Большой коалиции о переходе к новой энергетической политике после аварии на Фукусиме. «Атомная энергия – нет, спасибо!» – так гласил боевой клич, разносившийся повсюду с круглых нагрудных значков желтого цвета. До решения о строительстве в Виле, это сегодня вряд ли уже кто-то помнит, именно левые не находили в ядерной энергии ничего предосудительного. Тогда под лозунгом «мирного использования ядерной энергии» в этом видели проявление значительного и безвредного промышленного прогресса. Из-за чего произошла эта внезапная смена настроений, по-настоящему объяснить пока еще не смог никто. Она просто витала в воздухе. Поскольку в воздухе витали страх и озабоченность.
В том же переломном 1973 году американский социолог Дэниел Белл сформулировал понятие «постиндустриального общества». Он указал на то, что тренд смещается от производства товаров в сторону предоставления услуг. Белл описал структурные изменения, распознал проблемы спада привлекательности «фордизма», основанного на разделении операций массового производства промышленной продукции работниками на конвейере. Коллега Белла по научной деятельности, социолог Рональд Инглхарт немного позже поддержал его диагноз в своем бестселлере «Тихая революция» («The Silent Revolution»), объявив о существовании «постматериального поколения», переживающего процесс смены ценностей и заинтересованного не столько в материальном благополучии и телесной безопасности, сколько в «качестве жизни».
«Индустриальная эра была временем создания крупных средств. Постиндустриальное общество могло бы положить начало времени, когда эти средства будут использованы для достижения крупных целей» – так звучала утопия Белла.
Тот, кто тогда, в середине или конце 70-х годов, становился левым, примыкал к зеленому движению. А тот, кто был социал-демократом и не хотел выглядеть вечно вчерашним, тоже должен был занять принципиальные «зеленые» позиции. Качество жизни – это нечто большее, чем уровень жизни или увеличение производства, провозгласил канцлер Вилли Брандт еще в 1973 году в своем правительственном заявлении в полном соответствии с постматериалистическим лозунгом. Из этого наблюдения быстро возникла дихотомия между счастьем и благополучием и духовный антикапитализм, пропагандирующий этику отказа как источник счастья спасителя природы. На место старых технократов кейнсианства пришли новые инженеры предотвращения светопреставления. Все в одночасье превратилось в «пост», постмодернистский, постиндустриальный, постматериалистический.
Как это случилось? Опираясь на знаменитую экономическую теорему, философ Герман Люббе говорит, что и при прогрессе предельная польза имеет тенденцию уменьшаться. То есть общество, добившееся благополучия через прогресс, все меньше и меньше различает пользу этого прогресса, который сделал его богатым и свободным. Но зато оно все больше догадывается о том, что прогресс может иметь свою цену, поскольку в этом мире ничто не дается за так, и что мы своим благополучием можем создавать угрозу нашему существованию. Сегодня это представляется так, будто эта озабоченность была неосознанным, но все-таки каким-то корректным рефлексом, который представляли собой резкие перемены 1973 года. С 1973 страх уже не покидает это общество.
Тем не менее нельзя не заметить, что критически относящаяся к росту новая скромность (еще) не нашла своего отражения в официальной государственной политике социал-либерального правительства Гельмута Шмидта. Насколько «зеленое» смирение и религиозность сотворения мира непреднамеренно представляли собой идеологический противовес конца большого бума, настолько мало внимания этой серьезной перемене уделило социальное государство. Тот факт, что кризис экономического роста отразился в драматически сокращающихся налоговых поступлениях, не был воспринят как предупреждающий сигнал. Было просто решено стать государством-должником. То, что не давали больше текущие доходы от налогов, не спрашивая разрешения, переложили на будущие поколения. Еще в середине 70-х годов долг государства составлял здесь около 20 процентов экономического результата (внутреннего валового продукта); за последующие десять лет эта доля увеличилась вдвое, т. е. достигла 40 процентов. Вторая половина 70-х охарактеризовалась самыми высокими показателями государственной задолженности в Германии до ее воссоединения. И то и другое доставляет этой стране по-прежнему много хлопот.
Начиная с середины 70-х увеличивается и общественное неравенство. Доходы верхних десяти процентов, и в особенности верхнего одного процента, растут с тех пор быстрее, чем экономика как таковая. Это означает следующее: теперь капиталист может разбогатеть быстрее, чем рабочий, – и при этом ему для этого, в отличие от наемного работника, даже не надо особенно сильно напрягаться. Принято говорить, что первый миллион самый трудный. Риск, правда, сохраняется: тот, кто поставит на неправильные акции, может лишиться всех своих денег. Но с учетом всех обстоятельств нельзя не сделать следующий вывод: послевоенные годы (пикантным образом и военные годы и предшествовавшие им годы Великой депрессии) были периодом относительного равенства внутри общества. С середины 70-х годов общество распадается на части, что воспринималось как несправедливость в той мере, в которой сами доходы во все меньшей степени являются трудовыми доходами, а передаются через наследство разбогатевших после войны поколений родителей и родителей этих родителей. С чем связана эта перемена послевоенного тренда, до сих пор полностью не исследовано. Ясно только одно: ограниченный в объеме капитал в мире глобальных шансов удачных вкладов на продолжительные сроки вдруг стал обеспечивать более высокий доход, в то время как – во времена высокой безработицы и ослабленных этим обстоятельством профсоюзов – не столь дефицитные наемные работники были вынуждены довольствоваться минимальными уровнями роста своих доходов. Возразить против этих фактов нечего. Вопрос заключается лишь в том, насколько это плохо.
Для сегодняшних левых это плохо. Те левые, которые после 1968 года не находили ни единого доброго слова для закостеневшей эры Аденауэра, славословят сегодня время до 1973 года как золотые годы. Сильные профсоюзы, высокий рост заработной платы рабочих, полная занятость и социально приемлемый разрыв в доходах верхних и нижних слоев общества считаются сегодня отличительной чертой государства, которое еще знало меру. Какая досада: те левые, которые в 1973 году требовали другое общество, поскольку они не хотели терпеть актуальное состояние царившего тогда реального капитализма в его универсальной ослепляющей взаимосвязи, мечтают сегодня о возвращении в тот уютно-эгалитарный мир, который существовал в Германии до 1973 года. Следует ли из этого вывод, что левые в годы их культурной победы (только лишь за счет их многочисленности) после 1973 года в политэкономическом отношении потерпели решающее поражение? Похоже, что это так.
Скептицизм везде и всюду, не только среди «зеленых», критикующих экономический рост. Скептицизм охватывает и либералов. Но между скептицизмом либералов и скептицизмом зеленого альтернативного движения расстояние в световые годы: либеральный скептицизм предупреждает об опасности завышенных надежд на возможность построения лучшего мира и ничего не опасается так, как заносчивости знания и человеческого высокомерия. «Зеленый» скептицизм как раз все надежды возлагает на осуществимость лучшего мира, пропагандирует программы защиты климата, экологические концепции и запреты выбросов, которые должны спасти божье творение от гибели. «Сейчас уже без пяти двенадцать», гласит «зеленая» мантра.
«Самонадеянность знания» – так называется дерзкий контрпроект Фридриха Хайека. Он подводит итог критики самопонимания интеллектуалов. Он считает, что интеллектуалы переоценивают сами себя, утверждая, что они нашли камень мудрецов, указывающий путь построения лучшего мира. Знание заведомо переоценивает самое себя. Это в сжатом виде программа отказа от экспертов и от всех их претензий на реализуемость и от любви к планированию. Сами интеллектуалы стали бы говорить не о самонадеянности, а об общественной ответственности и формулировать на этой основе моральную программу обустройства мира и окружающей среды. Они характеризуют свою патерналистскую практику как моральный долг.
Здесь проходит идеологический водораздел. Либеральный скептицизм формулирует программу самоустранения от власти общественных мандаринов. И в этом есть что-то обидное и одновременно что-то приносящее освобождение. Это решающая часть моего ответа на вопрос, почему я стал либералом, оставив в стороне все угрызения совести из-за расставания.
Середина 70-х годов была на самом деле инкубационным периодом той либеральной революции рыночной экономики, которая в 1973 году в Чили впервые смогла завоевать себе желаемое пространство и в 1979 с победой Маргарет Тэтчер на выборах в Великобритании пришла к власти. Чтобы понять суть произошедших перемен, нужно представить себе идеологическую достоверность послевоенного времени. После мирового экономического кризиса государство поставило себе далеко идущие цели, чтобы обеспечить полную занятость, предотвратить экономические кризисы и влиять на конъюнктуру. Капитализм был дискредитирован. В свободный рынок вряд ли кто-то еще верил. «Смешанная экономика» – так звучало волшебное слово, которое подразумевало не только сильное государственное регулирование, но и «национализацию» важных основополагающих отраслей экономики. В 70-е годы двадцать процентов наемных работников в Великобритании были заняты в государственном секторе.
Сегодня это уже невозможно себе представить: СССР с 1930-х годов в экономическом отношении пользовался на Западе высоким авторитетом. «Ваш пятилетний план развития промышленности, ваша контролируемая командная экономика, ваше стремление к полной занятости – все это привело к тому, что вы воспринимались как противоядие против безработицы и провала капитализма», – пишут экономисты Дэниел Ергин и Джозеф Станислав в своем фундаментальном труде «Командные высоты» о либеральной смене парадигм и возвышении Мэгги Тэтчер. Не Фридрих Хайек, а Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) был героем времени, предшествовавшего либеральному бунту. Согласно его теории государство посредством своей фискальной политики должно амортизировать кризисные всплески экономического развития и конъюнктурных циклов. «Государство мудрое, а рынок глупый», – как доходчиво объясняет биограф Кейнса Роберт Скидельски. Такое понимание считалось само собой разумеющимся вплоть до самых глубин консервативных кругов.
Однако этой «смешанной экономике» все больше не хватало успехов. Кризис 1973 года привел и в Великобритании к «стагфляции» (отсутствие экономического роста, высокий уровень дороговизны). В середине 70-х годов инфляция в Англии составляла 24 процента. Максимальные ставки налогообложения достигали 98 процентов, постоянные забастовки вызывали паралич в экономике. Великобритания имела все шансы превратиться в ГДР западного мира. Забастовки горняков создавали угрозу для энергоснабжения предприятий и частных домохозяйств: религиозные деятели обсуждали на BBC, не следует ли семьям делиться своей горячей водой для купания, чтобы экономить энергию. По телевидению выступил министр, чтобы объяснить мужчинам, как можно бриться в темноте. Консервативный премьер-министр Эдвард Хит, который занимал этот пост с 1970 по 1974 год, оказался беспомощным перед этой губительной ситуацией и был вынужден уступить власть представителю лейбористов Гарольду Вильсону.
Это было то время, когда либеральный бунт Тэтчер переживал свой инкубационный период. Его главными идеологами были Кит Джозеф (1918–1994) и Альфред Шерман (19192006), которые, в свою очередь, были или стали верными учениками Хайека. Джозеф, выходец из набожной еврейской семьи предпринимателей из Центральной Европы (его отец, владелец строительной фирмы, в течение длительного срока был мэром Лондона), был одержим тем, что он считал своей миссией: «Я хочу обратить консерваторов в свою веру». Друзья и противники называли его «сумасшедший монах». Он сам говорил, что он «безобидный сумасшедший». Шерман, родившийся в лондонском Ист-Энде в семье еврейских эмигрантов из России, долгие годы оставался верным марксистом, участвовал в гражданской войне в Испании, однако перешел в другую веру, самое позднее после того как разочаровался в провале югославской модели. Шерман, непредсказуемый, как и Джозеф, всю жизнь оставался подвижником. Он один из самых известных конвертитов, примкнувших к либерализму в ХХ веке. Редко политическая революция готовилась так «сверху», как тэтчеризм. Надо это здесь пересказать еще раз.
Джозеф и Шерман воплощали в себе тип встречающегося только в Великобритании резко аргументирующего еврейского интеллектуала с неотступным стремлением реализовать свои идеи в практической политике. Связующим звеном для этого служит мозговой центр – «Think Tank», «фабрика мыслей», в которой духовно жаждущие молодые люди формулировали свои идеи и академические обоснования для политической утопии и ее стратегической реализации. Для тэтчеровской революции это были «Центр политических исследований», которым Шерман руководил по настоянию Джозефа, и кроме этого имеющий и по сей день важное значение Институт экономических дел (Institute ofEconomic Affairs). Сегодня таких людей, как Джозеф и Шерман, называли бы «спиндоктор». Но и уже поизносившееся понятие показывает, что сегодняшние спиндокторы не достигают формата этих двух консультантов Тэтчер. В Германии можно привести в пример политика из СДПГ Петера Глотца или либерала Ральфа Дарендорфа, который не случайно скоро стал чувствовать себя в Великобритании лучше, чем в Германии.
В эпохальном 1973 году Джозеф, Шерман и Тэтчер встретились и стали мечтать о новой экономике. В 1974 году Кит Джозеф и Альфред «Альфи» Шерман путешествовали по стране и выступали с докладами об экономических принципах, которые в будущем должны были действовать в партии консерваторов. «У нас слишком много правительства, слишком много расходов, слишком много долгов и слишком много персонала». Если это не изменится, говорили они, то Великобритания в конечном итоге будет все дальше погружаться в пучину бедности и упадка. Цель должна заключаться в том, чтобы укреплять «сторону предложения» экономики. «Великобритании нужно иметь больше миллионеров и больше банкротов». Нужны бо́льшие риски и более высокие вознаграждения, в целом больше креативной динамики для того, чтобы поддерживать предпринимательство и снова обеспечить благополучие в Англии.
Ключевым событием считается речь от 22 июня 1974 в Апминстере, написанная совместно Шерманом и Джозефом и произнесенная Джозефом, в которой в первую очередь была подвергнута разгромной критике прежняя политика консервативных тори, превратившаяся в полную капитуляцию перед социализмом: «Сейчас не время для сладкоречивых рассуждений». Время тихонь прошло – так они начинают свою филиппику с боевым призывом, заявляя, что в Великобритании слишком много социализма и слишком мало свободы. Нагрузка на экономику слишком велика, частный сектор стонет под грузом налогов, власть правительств была переоценена в неверном предположении, что они могут делать для людей все больше и больше. «We have tried to take short-cuts to utopia» – «Мы хотели попасть в рай самым коротким путем» – так они характеризовали иллюзорную манию величия. Вместо этого получили социализм и самые воинственные профсоюзы в Европе, которые делали все возможное для того, чтобы не дать стране достигнуть благополучия. Короче: тот, кто ищет ранний и сжатый документ нового либерализма в ХХ веке, должен прочесть эту великую политическую речь из 1974 года. Это речь переломного момента. Вряд ли это лишь чистая случайность, что один из двух главных идеологов тэтчеровского бунта был прежде убежденным марксистом: «Альфи» Шерман наверняка не только один из самых выдающихся, но и один из самых эффективных политических конвертитов ХХ века. В его воспоминаниях «Парадоксы власти» («Paradoxes ofPower») с подзаголовком «Рефлексии об интермедии Тэтчер», вышедших в 2005 году, содержится много поучительных деталей его обращения в иную веру. Подзаголовок «Интермедия» содержит намек на то, что Шерман видит в либеральном режиме лишь эпизод, после которого Великобритания вновь вернулась в старый мир государства всеобщего благосостояния.
Захватывающая биография Шермана заслуживает того, чтобы вкратце напомнить о ней: еще подростком он в начале тридцатых годов вступил в Коммунистическую партию и позднее иронизировал по поводу того, что в Лондоне тогда было больше убежденных марксистов, чем в Москве. Свое восхищение радикальными левыми он объяснял своим еврейским происхождением: «Евреи в тридцатые годы в Англии были чужаками. Мировой пролетариат предлагал нам пристанище». Евреи за свою 3000-летнюю историю подверглись секуляризации. Но именно потому, что еврейский атеизм, который он считает само собой разумеющимся, утратил свою первоначальную цель – веру в Бога, марксизм, говорит он, получил свой шанс заполнить этот пробел. «После того как мы отправили Бога в пустыню, нам пришлось поискать чужих богов, среди которых социализм в его многообразии оказался самым подходящим».
Шерман свободно говорит по-испански и по-русски. Одно это уже предопределило в его судьбе то, что в 17 лет он отправился на испанскую гражданскую войну на стороне интернациональных бригад.
«17 лет хороший возраст для солдата», – пишет он с английской иронией: «Мы ощущали свою привилегию жить на распутье истории». Гораздо позже он понял, что Сталин обманул его и его поколение, использовав их в качестве переговорной массы в борьбе с Гитлером. Шерману потребовалось много времени, прежде чем он распрощался с коммунизмом, намного больше, чем, например, венгерскому интеллектуалу и всемирно знаменитому конвертиту Артуру Кестлеру, автору романа «Слепящая тьма» («Darkness at Noon», 1940), который отвернулся от коммунистической идеи после сталинских показательных процессов. Во время Второй мировой войны Шерман, который говорит и на арабском, и на иврите, служил в британской армии на Ближнем Востоке. Летом 1948 года его за протитовские происки исключили из Коммунистической партии. После этого он, что было вполне логично, отправился добровольцем в составе интернациональной молодежной бригады в Югославию (сербохорватским он владел тоже).
Это были, видимо, именно те годы, в течение которых он постепенно отвернулся от коммунизма. Какое-то ключевое событие, точную дату Шерман в своей автобиографии не называет. Шерман трудится в качестве журналиста, пишет для Observer и других британских изданий, а еще для израильской газеты Haaretz. «В итоге и до меня добралась декоммунизация, – острит он, – так же, как она раньше или позже настигает большинство верующих». Причина: коммунизм по его словам – это программа самообмана. А мир остался довольно безучастным перед лицом попыток добиться улучшений, которым его подвергли коммунисты. Иными словами: даже коммунисты не в состоянии остановить эволюцию.
Отсюда на самом деле уже не так далеко до Фридриха Хайека и его учения о том, что нельзя допустить того, чтобы процесс социальной эволюции был перепахан самонадеянным знанием и высокомерием плановой экономики. Шерман называет идеи в качестве причин его отхода от коммунизма, а не преступную практику сталинизма в Советском Союзе или вопиющее противоречие между утопическими претензиями и действительностью в государствах реально существующего социализма. На счет своей прежней марксистской веры он достаточно умело относит пользу для своей последующей деятельности. В коммунизме он логично видит религиозный суррогат, чье убеждение в том, что в будущем должен появиться лучший мир, пережило разрыв с марксизмом. Конвертиты, говорит он, привнесли в тэтчеровскую революцию боевой дух, элементы мессианства и космологию, оставляющую пространство для проявления идей.
Это интересно, ведь это почти что звучит так, будто Шерман видит в коммунизме и либерализме два конкурирующих между собой спасительных учения. Однако конвертит одновременно защищается от обвинения в том, что он сменил Марксову утопию социализма на поклонение рынку в либерализме. Идеологическая связь последовательности биографических событий имеет для него лишь ту ценность, что дает ему возможность не отказываться полностью от своей прошлой жизни, – конвертиты часто используют ее как мост для определения собственной психической идентичности.
В 1979 году либералы наконец-то добились победы. Маргарет Тэтчер является символом «британского чуда». Восторг граждан по поводу акта освобождения был весьма умеренным. Страна с тех пор расколота. События 1979 года для многих британцев до сих пор остаются травмой их личного исторического опыта, накладывающей свой отпечаток на их жизнь. До сих пор существует большая ненависть к Маргарет Тэтчер. Даже после ее смерти весной 2013 года появляются литературные фантазии на тему ее убийства, как, например, осенью 2014 года в рассказе пользующейся таким серьезным авторитетом в литературных отделах немецких изданий Хилари Мантель. При этом становится ясно одно: либерализм проложил себе дорогу не как проявление спонтанного рыночного развития социальной эволюции, а воспользовался для своей победы помощью политической власти. Этого отрицать нельзя: возвращение либерализма в мировую историю во второй половине ХХ века – после его расцвета в ХIХ веке – несло на себе некоторые черты чего-то насильственного. Причем оба раза – в пилотном проекте в Чили в 1973 году и в прорыве 1979 года в Великобритании. Отмена регулирования вытекает из изначального акта планово-экономической политики, т. е. сама представляет собой своего рода вид политического регулирования, правда, с целью впредь обеспечить спонтанным рыночным силам достаточное пространство. Великий премьер-министр Маргарет Тэтчер объявила профсоюзы «внутренним врагом» и именно так с ними и обращалась, пишет Йенс Биски, леволиберальный корреспондент газеты Süddeutsche Zeitung и сын интеллектуала Лотара Биски: «Конная полиция, десять убитых, тысячи раненых – все это сопровождало борьбу за реализацию неолиберальной повестки дня. Эта повестка содержала в себе на самом деле нечто соблазнительное, но была успешной, поскольку для ее осуществления использовались средства государственного насилия». Биски заключает: «Пусть тот, кто не хочет об этом говорить, помалкивает о неолиберализме». Биски прав. И либеральный бунт именно там, где он, как в Чили или Великобритании, оказался успешным, обеспечил себе свой успех с помощью государственной власти и насилия, в Великобритании, правда, в отличие от Чили, демократически легитимным образом. Не надо, разумеется, впадать в крайности: в сравнении с разгулом коммунистического или фашистского насилия и его преступлений в ХХ веке политическое насилие либералов в маккиавеллиевском смысле можно было бы оставить без внимания как «бесконечно малую величину», тем более что более поздние либеральные смены политического курса (например, Польша, прибалтийские государства после 1989 года, Индия или Китай) произошли в мягком режиме. Но от этого мало пользы: хорошая конечная цель построения свободного общества оправдывает проблематичные политические средства, – эту злосчастную легитимационную формулу используют и либералы на своем пути к власти. Это историческое проклятие ХХ века.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!