Текст книги "Там, где бьется сердце. Записки детского кардиохирурга"
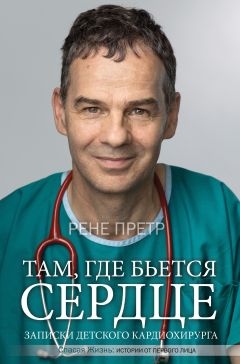
Автор книги: Рене Претр
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Сегодня, когда мы встречаемся с бывшими товарищами по команде, в первую очередь мы вспоминаем эти поединки, неожиданные победы и невероятные переломы счета в нашу сторону. Потрясающе, с каким постоянством это вызывает те же взрывы смеха, те же удары по спине, тот же эмоциональный накал – годы и повторы лишь слегка смягчили их. О, наши Аустерлицы! Победы, которые мы вырвали у противника. Они стали настоящими легендами, и, если бы финальный результат не остался в архивах, я думаю, что сегодня счет в них выглядел бы, как в гандболе. Гораздо реже мы вспоминаем о наших Ватерлоо, поскольку некоторые из них до сих пор вызывают горькие сожаления. И все же Жан-Пьер, когда-то упрямый защитник, чтобы посмеяться надо мной, редко упускает случай вспомнить мой великий подвиг в Невшателе. Мое личное Ватерлоо.
…Задвину немецкий, буду делать только математику на завтра и, может быть, начну эту большую работу.
Учебой я занимался мало, слишком мало. Мои небрежные или вовсе не сделанные работы много раз навлекали на меня самые мрачные предсказания. К счастью, они не сбылись. Конечно, после работы на ферме и футбола у меня оставалось совсем мало свободного времени для учебы. День ото дня я старался его распределять, чтобы совместить все три направления.
Нам угрожал вылет из группы, как и нашему сегодняшнему сопернику, и поражение легко могло отправить проигравшего во вторую лигу. Нам хватит и матча вничью, чтобы сохранить преимущество в одно очко, которое мы получили при разбивке на группы. Мы были хозяевами положения, но за десять минут до конца матча счет был всего 1:1. И вот их боковой нападающий пошел вперед, в одиночестве проводя медлительную контратаку справа. Он вяло наметил удар в нашей шестнадцатиметровой зоне. Поблизости мало игроков противника, опасность от них почти нулевая. Я первым оказался у мяча и отправил его вратарю, не заметив, что он выскочил из ворот, чтобы броситься на мяч. Я в ужасе смотрел, как товарищ по команде падает у моих ног ни с чем, а мяч медленно, спокойно, почти садистски катится в пустые ворота. Я запутался ногами в руках вратаря и даже не мог сделать последнюю попытку спасти положение.
Домой мы возвращались как с похорон. С этим поражением сезон, казалось, был проигран, а вылет из группы для клуба, занявшего в турнирной таблице место явно не по росту, мог означать последовательное скатывание на несколько лиг вниз. Жан-Пьер до сих пор хлопает меня по плечу: «Помнишь тот гол? А? Тот пас? Изящно так!» – и давится от смеха. Да, мы весело смеемся над этим, так как, вопреки всем ожиданиям, мы с энергией отчаяния героически выиграли наши последние матчи у команд, занимавших верхние строчки турнирной таблицы, а наши непосредственные конкуренты свои проиграли. Мы спасли свою шкуру, несмотря на этот чудовищный для меня гол в свои ворота.
К счастью, мне легко давались точные науки, так что не требовалось большого труда, чтобы получать нормальные оценки. Изучение языков – немецкого и английского, которое было прежде всего зубрежкой, в моих глазах требовало чрезмерных усилий и времени. Поскольку я думал принять у отца ферму и считал, что мне не понадобится ни тот, ни другой, я систематически откладывал в сторону эти предметы, пожирающие время. По иронии судьбы мне все же пришлось их выучить заново несколько лет спустя.
Наши родители, которым в свое время учеба была недоступна, не возражали против того, чтобы мы учились – если от этого были результаты. По их мнению, каждая профессия прекрасна, если ей соответствует искреннее желание. Но все же это должно было быть «настоящее ремесло». Отец вставал на дыбы, как лошадь перед змеей, когда я говорил ему о желании стать футболистом. Несмотря на притягательность футбола, в его глазах он был развлечением и ни в коем случае не профессией. В этом вопросе его вето было категорическим, его не могло поколебать даже то, что он был моим самым убежденным болельщиком на трибунах.
В старших классах я был беспечным и, поскольку мои оценки всегда были в классе средними, прожил этот благословенный период без напряжения. С тремя приятелями, такими же саркастичными готовыми смеяться надо всем, мы образовали группу возмутителей спокойствия, порой бестолковую, но чаще забавную. Я школу особо не любил, терпеть не мог часами сидеть в четырех стенах без дневного света – но вечерами я с удивлением понимал, что с нетерпением жду, когда снова туда вернусь, просто чтобы воссоединиться с кланом, смеяться по любому пустяку и делать кучу разных глупостей.
Все это время я не задумывался по-настоящему о своем будущем. Работа на ферме задержала меня после окончания средней школы, но ферма не принадлежала моим родителям, и бюрократическим процедурам, которые они предпринимали, чтобы приобрести ее в собственность, не было конца. Я стал подумывать о других путях, таких как физика или агрономия, но они меня совсем не вдохновляли.
За три месяца до выпускных экзаменов у меня еще даже и мысли не возникало о медицине.
– Люс, подвинься немного.
Я отодвинул бидон и стопку газет, чтобы впихнуть мои школьные принадлежности рядом с вещами сестер, Мари-Люс и Доминик. Уроки мы делали, устроившись за длинным столом на кухне. Энергичные споры и теоретические выкладки отца и его приятелей – а их каждый день приходил целый полк – нам не мешали. Время от времени мать подходила взглянуть, что там изучают дети. У нее был литературный дар, и, хотя она училась только в начальной школе, писала она прекрасно, красивыми складными предложениями, каллиграфическим почерком. К тому же она охотно читала и ценила хорошие тексты, а особенно поэзию, с которой знакомилась в том числе по нашим домашним заданиям. Она интересовалась тем, что мы изучаем, подсматривала через плечо в наши тетради и часто удивлялась нашим задачам по алгебре, которую называла математикой или арифметикой.
– Но у тебя же тут не математика, здесь только буквы.
– Перестань, мать. Это не арифметика, а алгебра, такое у Гравалонов[18]18
Жителей Бюи, родной деревни нашей матери, называли Гравалонами. Это прозвище больших шершней, которых все боятся из-за болезненных укусов. «А иногда и смертельных!» – подчеркивал наш отец, поднимая указательный палец в предупреждающем жесте и ехидно поглядывая на мать.
[Закрыть] никогда не преподавали, – одергивали мы ее. – Пойди лучше посмотри, как там Франсуа или Дени. Вот у них еще арифметика, может, им нужна твоя помощь…Мои младшие братья Франсуа и Дени тогда учились еще в начальной школе.
В тот день, в начале последней четверти, я поднимался по лестнице в наш класс и встретил Жана-Клода, одного из нашей четверки. Он бежал мне навстречу с пачкой листков в руке.
– Ты куда, Билли (это было его прозвище – мы все звали друг друга по прозвищу)?
– Несу бланк в секретариат. Последний день предварительной записи в медицинский. Если не подать заявку сегодня – в этом году уже не запишут.
Я дал ему пройти и пошел на математику. Пока мы решали задачи с интегралами, в мозгу неотступно крутилась мысль об этом последнем сроке, который свалился несколько неожиданно. Мне было девятнадцать лет. Мне нравилось чувствовать в себе этот неограниченный потенциал молодости, когда все двери еще открыты и все варианты доступны. Я не хотел, чтобы какая-нибудь из этих дверей уже закрылась, чтобы такой широкий спектр возможностей сузился так рано. Внезапно я увидел в этом первое проявление времени, и оно было жестоким. Время, которое в конце концов сожмет эти широкие горизонты, как это происходит со всеми, теперь подбиралось к моим перспективам. Мне захотелось отсрочить его первую атаку. Захотелось сохранить еще на какое-то время утешительную мысль, что передо мной по-прежнему открыты все возможности, даже если продолжать этот путь я не стану.
После урока я тоже отправился в секретариат. Он был уже закрыт. Я толкнул дверь: не заперто. Тогда я постучался и вошел. Секретарша директора подняла глаза и с притворным удивлением поинтересовалась целью моего визита. Я объяснил. Она вяло возразила:
– Молодой человек, вы опоздали!
Потом добавила, спокойнее и почти нежно:
– Ладно! Заполняйте бланк, только побыстрее. Отошлем вместе с остальными.
– Кто-нибудь может прийти мне помочь?..
Это отец. Он никогда сам не сидел без дела и терпеть не мог, когда мы «ничего не делали» больше десяти минут, при этом все наши занятия были распределены по его собственной шкале оценки труда. Конечно, учеба пользовалась некоторым уважением, но гораздо меньшим, чем его собственные дела. Это нетерпение превращалось в требование, когда погода менялась, и солнце наконец пронзало облака. Тогда он заставлял нас пропускать бесчисленное количество учебных дней и даже «похищал» нас, забирал из класса, прямо с урока, чтобы мы помогли ему в поле. Учителя и учительницы протестовали напрасно, он решительно давал им понять – а решимости ему было не занимать, в деревне его не случайно прозвали «Главарь» – что его урожай важнее, чем их злоключения с богатыми рифмами и невероятными спряжениями. И они всегда уступали.
К моей величайшей радости!
После того как предварительная заявка была отправлена, слово «медицина», активировавшись, потихоньку стало отпечатываться у меня в голове. Затем, когда я начал сталкиваться с его повсеместным присутствием в нашей жизни, оно принялось вспыхивать то тут, то там, все ярче и настойчивее. Мысль об этой профессии, хотя я совсем не представлял себе ее, дала ростки. Чем больше я о ней думал, тем больше открывалось необыкновенных возможностей, о которых я раньше и не подозревал. Постепенно она представилась мне как уникальный микрокосм, соединяющий в себе как творческий, так и научный мир. И, поскольку остальные альтернативы не вызывали во мне особого воодушевления, к концу лета я сделал свой выбор. Спектр возможностей медицины казался таким широким, что – внезапно я почувствовал такую уверенность – я обязательно найду что-нибудь захватывающее в этой специальности.
И все же, когда мы с Габриэлем пошли в лицей, отец стал меньше отвлекать нас от занятий. Однако взамен он охотно требовал нас к себе вечером для дополнительных работ. Сегодня же, пользуясь ливнем, он явно что-то задумал.
– …Надо разлить по бутылкам…
Вдруг он понизил голос до шепота и произнес заговорщическим тоном:
– …всего несколько бочек, не больше. Но я хотел бы сделать все по-быстрому, этим вечером. А то кто их знает, этих таможенников…
Он взялся за контрабанду – скорее из азарта, чем из выгоды. Корма, мясо, вино. Близость Франции облегчала ему бесстрашный переход границы, но в то же время заставляла быть особенно осторожным: пограничники жили поблизости. И именно по ночам, особенно если гремела гроза, наш погреб – одно из его убежищ – оживал.
Все школьные годы я прожил в регионе, охваченном лихорадкой – Юра. Политические баталии за учреждение нового кантона были в разгаре. У нас – подрастающего поколения – такие темы, как борьба за независимость, культурную идентичность, создание прогрессивного общества, находили отклик в полном соответствии с нашим юношеским идеализмом. Но еще в большей степени нас завораживало это гражданское непослушание, это нарушение запретов, диктуемых реакционным, немного неповоротливым Берном – все это вызывало некий революционный романтизм, свойственный нашему возрасту. Марши протеста, запрещенные демонстрации, неподчинение гренадерам разжигали нашу жажду приключений и протестные настроения. Все мы были немного Гаврошами, и мы гордились особенным характером Юра, который проявлялся в свободном духе, то и дело противостоящем духу страны, а также в естественной склонности устраивать праздник по любому поводу.
Отец мой был ярым защитником крестьянских земель, но образу-мился, выйдя из состава подпольной группы, которая с большим воодушевлением – и, в первую очередь, с большим количеством взрывчатки – выступала против размещения плацдарма в Бюре, соседней деревне. Тягостные задержания, напряженные допросы и обыски на ферме в поисках динамита, к счастью, бесплодные (а тем временем в том самом погребе!..), привели к тому, что отец осознал, что подвергает всю семью неоправданному риску. Они с матерью продолжали участвовать в официальных протестных мероприятиях, и с их согласия – ведь дело было правым – мы беспрепятственно участвовали в многочисленных праздниках на протяжении всего года. А их было и правда много и были они повсюду – эти кутежи, пронизанные темой борьбы за независимость. Но прежде всего они были юными, красочными и веселыми.
– Все, хватит. Бодлер перебьется. Слишком поздно, чтобы еще и за него браться. Попробую завтра после тренировки[19]19
За едва начатую работу по «Цветам зла» Бодлера я получил позорную оценку и сухие упреки. После этой неудачи я уделил чуть больше времени подготовке к выпускным экзаменам, которые на тот момент были под серьезной угрозой.
[Закрыть].Габриэль тоже закрыл тетради. Мы были последними, кто еще не спал. Мы прошли в просторную спальню, которую звали «дортуаром». Наши братья были уже там, они крепко спали на своей двухъярусной кровати. Мы забрались под пуховые одеяла.
Дортуар находился наверху, как и спальня родителей, и комната сестер. Но он был очень далеко от центральной трубы, от которой зимой проходило немного тепла через стены. Только героическая печь на первом этаже пыталась согреть все строение, но ее тепло к нам не попадало.
В конце концов этот новый кантон был образован. Это был великий момент. Ожидание и неопределенность результатов голосования длились до последнего момента. Когда объявили победу, все выскочили на улицу и отправились в Делемон – наш главный город. Люди обнимались, пели, танцевали. Колокола звонили, машины сигналили, их пассажиры, опасно далеко высовываясь из окон и словно повиснув на своих флагах, кричали от радости. Мы отправились туда вшестером на стареньком «Ситроене», достойном банды анархиста Бонно. Я так и не смог вспомнить, как мы вернулись. В этом всеобщем ликовании утро наступило так рано, что немногие из нас отправились в школу – да и те дремали за партами. Жизнь как бы остановилась на целую неделю, праздник никак не кончался.
Через несколько дней наша футбольная команда в эпическом отборочном матче вышла в финал, что означало переход в первую лигу. И празднества, едва успев кончиться, с этим новым поворотом начались снова. И нас снова носило от улицы к улице, от бара к бару, от смеха к смеху, от песни к песне, от одних торжественных заявлений к другим. Должен признаться, что очень смутно и отрывочно помню эти десять «очень ночных» дней. Я проснулся гораздо позже, словно вышел из комы, не в силах отделить сон от реальности, так тесно все переплелось. Но Юра умеет лечить последствия своих праздников, и из них выходишь по неведомому волшебству – хотя, наверное, это чары памяти, такой избирательной, что она хранит лишь те воспоминания, что отмечены нежной ностальгией, безо всякого похмелья. Регион Юра, идеалистичный, бунтарский и веселый, был землей моего детства и юности. И поскольку то и другое были счастливыми, для меня Юра всегда останется страной счастья.
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда все сложнейшие вычисления и выкладки оказываются обманчивыми, когда даже философы больше не могут нам ничего предложить, тогда позволительно обратиться к толкованию щебета птиц или далекого хода светил.
«Воспоминания Адриана» Маргерит Юрсенар, 1903–1987.
Цюрих,
2001–2012
Сумерки окрасили город красным. Я открыл застекленную дверь, выходящую в «мой сад[20]20
Мой кабинет, размещавшийся в вилле, соединенной с больницей переходом, выходил на склон с большим фруктовым садом. – Прим. авт.
[Закрыть]», и встал в проеме. Прозрачная дымка окружила луну мерцающим ореолом. В те времена, когда мы вглядывались в небеса, чтобы предугадать их содрогания, этот ореол сулил бы нам шквалы и дожди. Несколько тяжелых туч были словно пригвождены к горизонту. Вдруг из ниоткуда возникло движение. Деревья затрепетали. Верхушки качались, ветви описывали широкие круги. По старой привычке я стал искать ветер, но не находил его. Раньше я бы искал в этом беспричинном волнении предчувствие, примету или даже знак свыше. Картезианская суровость моего профессионального мышления несколько подавила этот инстинкт, с помощью которого я одно время пытался постичь порывы Природы. Я присел на корточки, чтобы изменить угол зрения, и прищурился, чтобы усилить остроту восприятия.
Бесполезно – я ничего не увидел.
Движение за спиной отвлекло меня от созерцания и вернуло в реальность. Приехали родители Титуана. Его самого здесь нет. Уже несколько дней он лежит в отделении интенсивной терапии. Я подошел к ним: приветствия, рукопожатия, приглашение присесть. Отец – очень характерный типаж, полностью вошедший в роль главы семейства – немедленно дал понять свое превосходство над матерью, отошедшей в тень.
Оба они знали о проблеме своего сына. Они приехали ко мне не только для того, чтобы познакомиться с хирургом, который вскоре будет заниматься их сыном, но и для того, чтобы подтвердить свои знания.
Я отодвинул в сторону медицинскую карту Титуана, уже раздувшуюся до размеров телефонного справочника, взял лист бумаги, чтобы иллюстрировать свои слова, и начал разговор:
– Как он сегодня, на ваш взгляд?
– Хорошо. Ему скучно, но в остальном все хорошо.
– Действительно, ему лучше. Дышит он тоже лучше.
Без предисловий я перешел к главному:
– Вы знаете, что его сердце стало слабым, даже очень слабым. Пока что ему удается только-только поддерживать кровообращение в состоянии покоя, но при нагрузке это уже не получается. Из-за этой слабости он задыхается от малейшего усилия. Кроме того, сейчас начинает проявляться другая опасность. В таком состоянии может внезапно начаться фибрилляция желудочков, что означает остановку сердца.
Лица родителей застыли.
– К несчастью, не существует операции, которая могла бы сделать сердечную мышцу сильнее, когда она так ослабевает. В случае с Титуаном, учитывая, что его состояние, похоже, ухудшается, есть лишь одно решение, если мы хотим, чтобы он продолжал жить. Заменить ему сердце. Иными словами, провести трансплантацию.
Мама еще больше нахмурилась, но промолчала.
– Если операция удастся, он снова сможет жить хорошо. Даже очень хорошо. Даже если его жизнь никогда не будет полностью нормальной.
– И можно прожить всю жизнь с пересаженным сердцем?
Это мать, она на мгновение вышла из отрешенного состояния.
– Трансплантат сердца работает лет двадцать. В среднем. У ребенка вроде него, в такой ситуации, часто бывает и дольше. А потом мы можем снова заменить пересаженное сердце, если оно больше не сможет работать.
Я предвосхитил вечный вопрос, всегда возникающий среди многих других:
– Зато новое сердце не нужно будет заменять по мере роста ребенка. Оно будет гармонично расти вместе с Титуаном, с той же скоростью, что и любое нормальное сердце.
Общую ситуацию я обрисовал, теперь пора перейти к истинной причине нашей встречи:
– Сегодня одна из проблем трансплантации – это срок ожидания. Часто он очень долгий. Несколько месяцев, а то и больше года. Мы не уверены, что Титуан сможет прожить так долго с таким слабым миокардом. Есть риск внезапной смерти, и он нас пугает. Вот почему мы сначала хотели бы имплантировать искусственное сердце, что-то вроде переходного этапа перед трансплантацией.
Они слушали меня внимательно.
– Это аппарат, который вживляют параллельно с сердцем и который поможет сердцу обеспечивать кровообращение. Если он будет хорошо работать, то все органы, которым сейчас трудновато, смогут окрепнуть и обеспечить хорошие условия для трансплантации, но главное, с ним…
Я пристально взглянул на них и выдержал паузу:
– …риск внезапной смерти будет устранен.
Это заявление, сделанное немного торжественным тоном, на несколько секунд повисло в воздухе, затем я склонился к листку бумаги, чтобы нарисовать это искусственное сердце и объяснить принцип его действия. А пока я рисовал…
– То искусственное сердце, которое мы имплантируем, довольно тяжелое, это так. Но оно очень надежное. И потом, как я уже говорил, это лишь временная мера, мы окончательно уберем его во время трансплантации.
Еще несколько уточнений об операционных рисках. Затем сравнение с рисками – гораздо более серьезными – при простом ожидании нового сердца. Весь листок исписан схемами и цифрами. Затем я дал им документ о согласии на эту масштабную операцию, который они оба подписали без возражений.
Все встали. Обменялись крепкими рукопожатиями. Они еще раз заверили меня, что доверяют мне, и пожелали удачи.
Назавтра был типичный осенний день с порывами ветра, плотными облаками и проблесками неяркого солнца. Темно-синее кучевое облако, искрящееся лучами, закрыло свет. Своим положением оно словно противилось установившемуся равновесию. И вот это колоссальное облако, неспокойное небо, померкший свет, ревущий северный ветер – все участвовало в создании декораций для драматического фильма, в постановке, соответствующей нашей героической деятельности.
Я отвернулся от зрелища небесной битвы и направился в операционный блок: Титуан вскоре должен уснуть. С такими обессиленными сердцами наркоз вводится бережно и применяется с осторожностью, чтобы не покачнуть хрупкий карточный домик, который образуют органы, связанные системой кровообращения. Сердце занимает критически важное место в теле, причем не только с анатомической точки зрения – оно его центр тяжести – но и с функциональной. Это мотор тела, от которого зависит хорошая работа каждого органа. Это источник энергии, который приводит в движение кровь в сосудах и, таким образом, приносит питательные вещества – глюкозу, липиды, протеины, не стану перечислять их все – и кислород, необходимый для их расщепления. Каждая клетка — это микроочаг, где эти вещества подвергаются процессу метаболизма, а кислород помогает разгореться огоньку жизни. Его интенсивность зависит от силы и количества поступающего кислорода. Хилое сердце, словно генератор, который вырабатывает лишь слабый ток, с трудом поддерживает пламя этих очагов. Если кровообращение еще больше замедляется, язычки пламени колеблются и в конце концов постепенно угасают, увлекая за собой других, и органы рушатся, как костяшки домино. Обычно первыми погибают почки, затем легкие, печень, кишечник и, наконец, мозг.
«Если у сердца грипп, кашляют все органы». Из-за этого всеобщего кашля, из-за хрупкости всего организма я уже одет в зеленый халат, под рукой у меня скальпель, и я готов вмешаться в случае катастрофы, в случае внезапного кардиогенного коллапса.
Титуан крепко спал.
Искусственное сердце мы вживили без особых трудностей. Запуск прошел мягко. Импульсы четкие, кровообращение работает с нужной скоростью. Звонок родителям:
– Ну вот, мы закончили. Операция прошла успешно. Теперь мы в гораздо более спокойной ситуации, чем раньше. Можем ждать трансплантацию без особых опасений.
– Очень хорошо, доктор. Спасибо большое. Когда мы сможем его увидеть?
Тон доброжелательный, диалог короткий, сосредоточен на главном.
Титуан проснулся через несколько часов. Он, кажется, был немного удивлен, обнаружив две толстые трубки, которые заходят под кожу в верхней части живота и исчезают в направлении грудной клетки – его сердца. А еще через трубки он мог видеть, как его собственная кровь циркулирует, то ускоряясь, то замедляясь, приводимая в движение сжатиями внешнего желудочка. А к нему подключена стоящая рядом с кроватью тележка на колесиках: это консоль, которая получает и распределяет энергию, вызывающую пульсацию насоса.
– Как ты себя чувствуешь, не очень больно?
– Нет, все хорошо.
– Шум не очень мешает?
– Нет.
Дети быстро и хорошо приспосабливаются ко всем ограничениям. Привыкнуть к этой внушительной и шумной махине им, кажется, так же просто, как освоиться с очками.
Началась обычная жизнь. Титуан проводил большую часть времени в кровати или в кресле за чтением, видеоиграми и просмотром фильмов. Кто-то из учителей приходил с ним позаниматься, чтобы он не выпадал из школьной жизни. Каждый день мы помогали ему передвигаться по коридорам с этим здоровенным грузом. Иногда мы продлевали прогулку до самой вертолетной площадки на крыше больницы, надеясь, что туда сядет вертолет.
Так шли дни за днями, недели за неделями в ожидании нового сердца, которое могло бы дать ему второе дыхание.
Декабрь налетел ураганом. Вчера выпало много снега. Днем от оттепели он растаял, затем ближе к вечеру новая волна холода нахлынула с севера. За несколько часов город превратился в огромный каток, лед парализовал движение и жителей. Из кабинета я смотрел на сад, покрытый коркой инея, на оголенные деревья, которые словно заснули. Я открыл дверь. Холодный воздух ворвался в помещение. Эта суровая зима – той же породы, что и зимы моего детства.
Тогда мой отец заготавливал дрова. С двумя другими фермерами они рубили деревья, которые им выделяла коммуна, и распиливали их. Я обожал эту работу в лесу. Непрерывный рев бензопил (и никто не носил защитных средств!), удары кувалды, тяжелое падение деревьев, обрезка ветвей перед большими маневрами тракторов, которые выволакивали их на дорогу. Часто жгли костер. Осенью, перед наступлением больших холодов, мы жарили на углях сосиски, завернутые в фольгу. Полдники у нас были достойны Гаргантюа. Свежий хлеб, сосиски, высушенные или жареные, и копченый бекон. Сидя на бревне, укрывшись от ветра, лицом к огню, чье потрескивание наши оглохшие уши уже не слышали, мы поглощали наши перекусы. Боже, какие они были вкусные! Боже, как же было хорошо! Тогда мы чувствовали, что достигли нужного роста, нужного человеческого масштаба, чтобы противостоять этому северному ветру, который завывал над верхушками деревьев, и этим наступающим сумеркам. По мере того как приближалась зима, холод становился все более пронизывающим, и полдники, после которых мы все больше замерзали, откладывались до возвращения на ферму. В тепло. Наш трактор без кабины отдавал нас на волю ледяного ветра, стоило только выехать из леса. Мы надевали варежки, шапки, старые шинели, втягивали голову в воротник, чтобы меньше места осталось для его пощечин.
Как далеко то время, когда моя работа подчинялась погодным условиям! Сейчас небо могло бы упасть на землю, а я едва бы это заметил, сидя в наших бронированных помещениях с кондиционированным воздухом и неоновым освещением. Я вышел из сада, закрыл дверь в сад и направился в отделение интенсивной терапии в скептическом настроении: морозы и ветер в городе, несмотря на их усилия и достойный натиск этим вечером, казались мне весьма робкими по сравнению с нравом их предков, которые действительно закаляли нас изо всех сил.
Не успела автоматическая дверь открыться, как вокруг настало Рождество. Изобилие еловых веток, еловые и сосновые шишки, переплетение гирлянд, шаров, и электрических свечей, в изобилии рассыпанный искусственный снег – все это говорило об огромном энтузиазме, причем детском: это Титуан устроил этот «фейерверк». Вокруг него постоянно снуют медсестры, обихаживают его, играют с ним, подтрунивают. На праздники его родители уехали домой, так что ему немного одиноко. И все же он не скучает, он остается жизнерадостным, веселым, совсем не хмурым.
После Нового года работа возобновилась.
Настало время еженедельного коллоквиума. И там Урс, заведующий кардиологией, заявил нам без всяких предисловий серьезным и явно встревоженным голосом:
– Папа Титуана требует, чтобы мы убрали искусственное сердце и сняли его сына с очереди на трансплантацию.
– Что?!
Я в буквальном смысле подскочил на стуле, настолько меня поразило это неожиданное сообщение, и рухнул обратно, повернувшись к Урсу. Я смотрел на него, остолбенев.
– Это как вообще понимать?
Он так же монотонно повторил:
– Папа Титуана хочет, чтобы мы убрали искусственное сердце и разрешили мальчику вернуться домой.
Та же волна удивления снова пробежала по залу.
– Нет, Урс, погоди. Это еще что за шутки? Все ведь знают, что это невозможно. И они же не отменяли свое родительское согласие на трансплантацию. Ты нам сказок не рассказывай.
– Знаю. Но после возвращения они передумали. Они больше не хотят слышать о трансплантации.
Я обернулся и в изумлении посмотрел на коллег, чтобы убедиться, что мне не померещилось. Урс продолжал:
– Мы имеем дело с людьми другой культуры, у них другие ценности, в том числе в вопросах жизни.
– Да, конечно, Урс, но, в конце концов, здесь речь идет об их ребенке и его жизни, и у нас есть возможность его спасти.
– Знаю, Рене. Поверь мне, я сам рухнул, где стоял, когда они мне об этом сообщили. Я сам подумал, что выпал из реальности. Но, к несчастью, я быстро понял, что это не так и что они не шутят. Я, конечно, попытался их вразумить. Особенно отца. Безнадежно. Он неуступчивый человек, не идет на компромисс.
Никто не проронил ни слова. Через несколько секунд…
– Так, слушай, давай встретимся с ними в моем кабинете и там, на нашей территории, если можно так сказать, попробуем их убедить дать задний ход. Пока что мы не снимаем Титуана с очереди. Если мне позвонят этой ночью и предложат сердце для него, тогда…
Длинная пауза…
– …тогда я даже не знаю, что буду делать.
Он чуть лукаво смотрит на меня, и я заметил на его лице едва заметную тень сомнения, явно противоречащую остаткам моего оптимизма.
Он лишь сказал:
– Желаю удачи.
Я вернулся к себе в полном замешательстве. Передо мной внезапно возник тупиковый путь, на который мы, возможно, свернули по ошибке. Не могло быть и речи о том, чтобы оформить опеку над Титуаном и навязать трансплантацию против воли его родителей. Он же когда-нибудь вернется домой, ведь они с родителями искренне любят друг друга. И тогда велика опасность, что лечением после такой навязанной операции, которое требует больших ограничений, попросту пренебрегут. Пересаженное сердце непоправимо разрушается, если не взять под контроль враждебные проявления его нового окружения, и перестает биться всего через несколько месяцев. Принимая во внимание нехватку трансплантатов, такой риск неоправдан. Слишком много детей, готовых бороться за жизнь, умирают в безнадежном ожидании нового сердца. По отношению к ним потеря даже одного органа недопустима. Что касается перспективы оставить вечно биться это искусственное сердце, громоздкое, запирающее Титуана в больничных стенах… она ненамного реалистичнее. Рано или поздно произойдет какая-нибудь механическая поломка, и все закончится навсегда.
Мне нужно было выйти из этого мира, который начал удручать меня. Я шагнул за порог, надеясь, что в холодном воздухе и в менее гнетущей обстановке найду другой угол зрения на эту тупиковую ситуацию. А еще мне было нужно немного восстановить душевное спокойствие и где-то в глубине души – найти что-то большее: знак свыше, наитие. Увы, сад, деревья, кусты, покрытые слоем снега, уклонились от ответа. Даже горизонт – низкий, погруженный в полумрак, где не за что было зацепиться глазу – словно съежился.
Куда делось это яростное небо прошлой осени? Небо, которое победно разворачивало знамена? А это огромное облако? То, что бросало вызов ветрам. Где этот готический декор, который возник, чтобы помочь нам удержать эту судьбу? Хотелось бы мне перевести время назад, к тому моменту, когда благосклонная фортуна при поддержке стихий была на нашей стороне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































