Текст книги "Глубоко. Пронзительно. Нежно"
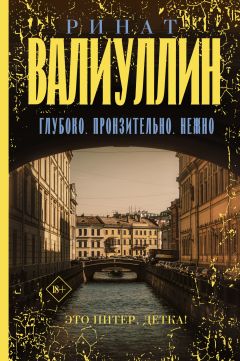
Автор книги: Ринат Валиуллин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Такая осталась только у него, – поискав некоторое время необходимое, улыбнулась мне белым полусладким полнотелым лицом продавщица.
– Он не обидится, если мы с него снимем?
– Неужели вас устроит секонд-хэнд? – подхватила мое чувство юмора девушка. Ей не хотелось, ей не хотелось раздевать манекен.
– А что делать? Очень нужны пальмы. В Финляндии они только у этого симпатичного парня.
– Хорошо, попробую договориться. Давно я не раздевала мужчин, – начала она двигать выставочную статую, чтобы поднять мужчину на руки.
– Ваша миссия одевать.
– Это точно, – улыбнулась мне девушка, спустив манекен с постамента.
– В Финляндии все девушки такие?
– Какие такие?
– Неожиданно решительные.
– Нет времени ждать, пока он сам разденется. – Легким движением своей руки отстегнула она его руку.
– Похоже, ему понравилась ваша бескомпромиссность, он сразу же предложил вам руку?
Девушка сняла с манекена рубашку и, вытащив из нее все булавки, протянула мне кусок ткани:
– Вот, возьмите ваши пальмы.
– Спасибо, – взял я рубашку.
– Штаны не нужны? – засмеялась продавщица, пристегивая руку обратно к туловищу пластикового парня.
– Пресс взял бы, штаны нет. Это будет перебор. – Долго вспоминал я, как будет по-английски перебор, и, не найдя нужного слова, довольствовался «слишком».
– Не волнуйтесь, рубашку я ему сейчас надену другую, с цветочками.
– Завидую вашему мужчине, повезло ему с подругой.
– Этому? – посмотрела она на манекен.
– И этому тоже.
Девушка засмеялась.
– Спасибо вам!
– Не за что, – налила мне еще бокал полусладкого белого финка и пошла за цветами для манекена. Я с рубашкой в руке начал искать взглядом удовлетворенную трикотажно Шилу.
Когда одежда ей надоела, пошли лавки с домашней утварью, наполненные теплыми, милыми, вязанными из бежевого уюта вещами. Продавцы улыбались сладко, словно зевали, пытаясь затянуть нас в сказочный сон своих кремовых магазинов.
– Мне очень хочется иметь дом. Такой, чтобы туда все время хотелось вернуться, чтобы каждая вещь обладала своей силой притяжения, а все вместе они сделали бы такой гигантской, что не захотелось бы и уходить из него.
– Типичная семья фрилансеров или безработных.
– Ты ничего не понимаешь в уюте. – Шила взяла с полки изящную фарфоровую чашку: – Вот, такую хочу, чтобы пить по утрам чай. – Она повертела ее в руках, потом перевернула и увидела ценник: – Нет, уже не хочу. Такие жалко будет бить.
– А ты не бей.
– Ты слишком спокойный, чтобы не бить с тобой посуду. А вот это я могла бы сделать сама, – оставила она чашку в покое и переключилась на пустые бутылки, стилизованные под вазы. Потом оглянулась и увидела, что ее никто не слушает. – Что ты все время плетешься сзади?
– Не хочу забегать вперед.
– Ты уже забежал дальше некуда. Наверное, я не буду с тобой больше разводиться.
– Почему ты называешь меня Наверное?
– Кстати, хорошее имя, – улыбнулась она.
– Для сына?
– Да. Наверное, это будет сын. – Она качнула рукой светильник в виде осиного гнезда, который висел на пути ее следования, и, извиняюще улыбнувшись продавщице, двинулась к выходу.
– За всю эволюцию суть женщины не изменилась: она хочет родить детей и быть счастливой. Мужчина же просто должен ей в этом помочь, и желательно по любви, а не по скайпу.
– Ты прав, – рассмеялась моим словам Шила, за которой послушно я двигался, когда мы вышли на улицу. Та медленно спускала нас вниз. Магазины стояли в очереди друг за другом вдоль мостовой. Мы здоровались с некоторыми из них за ручку. Они улыбались. Потом так же прощались. «Ну и что, что мы ничего не купили, может быть в следующий раз». Я кивал в ответ, улыбаться мне не хотелось. «Дорого у вас все».
– В одну реку хочется войти дважды только в одном случае: если вода теплая.
– Это ты к чему? – потерял цепочку остроумия Артур.
– Искупаться хочется.
– Мне тоже. В славе, например. Мне почему-то все время казалось, что я рожден, сделан для чего-то грандиозного, важного, что я обязательно буду известен, но вот время проходит, а известности как не было, так и нет. И скорее всего, уже не будет, наверное.
– Наверное обязательно будет знаменит. Вот увидишь.
– А я?
– Ты не одинок, миллионы людей хотят быть известными, конкуренция бешеная.

Скоро магазины нам надоели, мы вышли из них изо всех сразу, свернув на улочку, которая спустила нас к зеленому парку, в котором как заведенные пели финские птицы. Песни их были о главном, об умении радоваться жизни, переживая невзгоды, а для того, чтобы научиться летать, достаточно расправить крылья. Там мы встретили пустую скамейку и сели. Вспомнили, как праздновали в этом парке, который был одним большим катком, пару лет назад Новый год, как катались здесь на коньках меж деревьев и целовались до посинения.
Сумасшедший поэт читал стихи вслух, стоя рядом с каким-то памятником.
– Я же тебе говорю. Сумасшедшая конкуренция. Готов ли ты сойти с ума ради этого? На полном ходу.
– Пожалуй, нет.
Скоро поэт пропал так же внезапно, как и явился, только шарф зеленел на чьем-то гранитном барельефе. Мы подошли поближе. Тот оказался тоже поэтом.
– Преемственность.
– Думаешь, тоже психопат?
– Стихопат, – поправила меня Шила.
– Стихи на финском звучат как-то иначе. Что-то рифмы я не заметил. Может, это и не стихи были вовсе, а проза жизни.
– Все зависит от того, как их записать. Стихи мутировали: если вначале они были правильными и в рифму, то постепенно они стали более универсальными, пока в один прекрасный день наконец не обрели независимость от рифмы.
– Выключай филфак.
– Это не филфак, это сенсоры. Хотя пять лет на филфаке, в этом прекрасном курятнике сплетен и рассаднике чувств, где, как известно, один парень на десять девчат, не прошли даром.
– Вижу, они прошли по тебе. Думаешь, тот поэт один из счастливчиков?
– Однозначно, ты видел, как он вдохновенно читал.
– Жаль, непонятно было о чем.
– Все стихи о любви. Отсюда его сенсорное понимание женщин, – начала фантазировать Шила.
– Допустим, что за пять лет учебы он так или иначе был втянут в их личное пространство, в их бабский космос. Что дальше?
– Он даже не сопротивлялся, просто летел по орбите, а вокруг одинокие планеты, загадочные галактики и неприступные звезды. Он смотрел на них, общался, отрывал их других и себя, тоже другого, более чувственного, что ли.
– А потом он встретил ее, и пошла поэзия. Страдания, мучения, терзания, сигареты, пиво, вино, спирт и стихи, стихи, стихи.
– Надо же было чем-то закусывать чувства. В любви все на грани реального и вымышленного, рационального и безумного, мужского и женского. Думал, что пишет для себя, на поверку, оказывается, для них, для нее. Кто еще, как не мужчина, должен писать женщину?
– Только он, – погладил я руку памятнику, и, видимо, не первый и не последний, потому что палец, в отличие от остальной бронзы, стал уже золотым от частых прикосновений. – Почему я пошел на летчика? Читал бы тебе сейчас стихи.
– Ни в коем случае. Для мужчины филология – это не наука, это чувство женщины.
– А авиация?
– Ее возвышение.
В знак одобрения этих слов я обнял за талию Шилу и уткнулся в ее копну волос.
– Золотые руки, – тоже не удержалась и взялась за палец поэта Шила. Его указательный палец блестел точно так же, как лапы у бронзовых скифов в Питере напротив Академии искусств. Тем поклонялись вечные студенты, этим – временные поэты.
– Почему же вы бросили писать в столбик? – поднял Артур голову и обратился к поэту, хитро глядя в его темные бронзовые зрачки.
– Метаморфозы творчества привели меня к тому, что если писать в столбик, это было бы похоже на стихи, а если экономить на бумаге и тянуть, словно лямку, строчку, то это уже сплошная проза, – ответила за него Шила. – Ну представьте, едете вы по дороге, а там все столбы, столбы, скучно.
– Что для вас литература?
– Если стихотворение для меня это мгновение, попытка поймать эмоцию, то проза – попытка ее удержать и приручить.
– Вы счастливы? – посмотрел я уже на Шилу.
– Разве может поэт быть счастливым? Счастливый поэт – это не поэт.
– Это поэтесса, – обнял я Шилу, поворачивая ее от памятника на выход из парка. – Жизнь наладится, стоит только сломать стереотипы.
– Или стереотипа, – поцеловала она меня в щеку.
– Я уже давно сломлен. Смотри, какие на небе облака.
– Да, только не начинай про небо, а то это на два-три дня. Я помню и про перистые, и про кучевые. А мы еще не все здесь попробовали.
– Ты спускаешь меня с небес на землю.
– На воду. Слушай, а лебеди – они же и вчера здесь качались на волнах, – стала присматриваться к парочке лебедей, качающихся на глади озера, Шила.
– Какая верная пара. Любо-дорого посмотреть. Смотри, как они привязаны друг к другу.
– Я бы сказала, ко дну. Пластиковые. Бутафория. Я думала, хоть за границей все настоящее.
– И вправду синтетические, – стала очевидна подмена… – Не грусти.
– Я им, как дура, хлеба взяла. Покормить.
– Ты так расстроилась, будто никогда в жизни не видела пластиковых союзов, – пытался найти глаза Шилы своими зрачками Артур. Но те смотрели куда-то вдаль, на другой берег озера.
– Я бы так не хотела. – Ветерок грусти пробежал по лицу Шилы, когда они уже отошли от воды.
– А что бы хотела от жизни?
– Клубники, – быстренько взяла она себя в руки.
– Я знаю одну полянку.
Встроенные друг в друга, перебирая брусчатку, мы двинулись к рыночной площади, где на прилавках зажигательно клубилась ароматная ягода.
* * *
Струны были тяжелые, но настройщик не сдавался, он настойчиво пытался приручить инструмент. Он тянул арматуру за арматурой, подвязывая их тут и там, делая стяжку под заливку цементом. Сосед строил дом в одиночку и уже вырастил на своем участке второй этаж.
– Сибариты пьют чай и смотрят любимую картину: как надо работать, – смеялся Марс жирным от шашлыка ртом, то и дело подливая вино и успевая переворачивать мясо на костре.
– Ты смеешься над ним, а ведь скоро он нам закроет небо. И будет уже не до смеха. Либо будем смеяться уже в темноте.
– Ты о политике в общем?
– Я о частном.
– Нам не закроет, мы же летчики, ты разве забыл? – приобнял он меня по-дружески, потом снял с огня очередной шампур и стянул с него вилкой в тарелку горячее мясо. Затем слизнул жирный жареный сок с пальца и воткнул шпагу в землю.
Мы сидели с Марсом и его женой в их загородном доме. Шила со мной не поехала. С некоторых пор она начала избегать встреч с Марсом, ссылаясь на разные обстоятельства. Хозяева сделали вид, что расстроились, но потом привыкли ко мне одинокому: сначала было вино с мясом на костре, потом чай с плюшками и футболом дома. Марс, как сосуд, наполовину наполненный вином, говорил громче и больше всех. Футбольное поле служило фоном к его дебатам, словно это его на трибуне поддерживала толпа. Мы с Викой то и дело переглядывались, после очередной не всегда уместной остроты Марса. Смех уже не лез в рот. Марс веселил сам себя, ему было с нами скучно, он пил, будто это могло как-то развеселить его, он много говорил, будто это могло развеселить нас. Он замолкал, только когда острые моменты возникали у ворот. Алкоголь уносил Марса все дальше от нас, оттолкнувшись от спорта и политики, он начал развивать тему высокой любви на собственном примере:
– О сексе я знаю не так уж и много, то, что заниматься им приятно, но небезопасно.
– Начинается, давайте о сексе без меня, – собирала Вика лишнюю посуду со стола.
– Как же о сексе без женщин? – засмеялся Марс.
– Тише. Пойду уложу малыша. – Вика ушла наверх укладывать малыша.
Едва футбол закончился, Марс переключил программу. Там шли трейлеры с гуманитарной помощью, будто трейлеры к новому фильму о милосердии и сострадании.

– Так вот, – вспомнил Марс, на чем остановилась его философия. – То, что дети рождаются из капусты, я услышал еще в детстве, но только сейчас понял, о чем говорили взрослые. Без капусты какие дети! Именно, бедные, голодные и несчастные. Когда в семье нехватка, дети начинают радоваться не чувствам, а вещам. Отсюда и меркантильность, и мелочность. Возможно поэтому наперекор судьбе с сексом я вел себя бесцеремонно, и ребенок, зачатый в лучших традициях страсти, заставил меня церемонию эту осуществить. Технически это был брак по залету, и можно было продолжить, сказав, что я долетался… или она. Мы ставили опыты друг на друге. А дети – они подопытные своих родителей. Ведь так? – обращался ко мне Марс. Я уже не понимал, ретушировал ли он события на экране или высказывал что-то свое свежеиспеченное.
– Ты в личном или в общественном? – кивнул я ему на экран.
– Да какая разница. Дети – они всегда дети, будь то страны, будь то ясли. – Марс был пьян, это было заметно по развязанному языку, который то и дело терял и путал гласные и согласные, а вместе с ними и нить разговора. Хотя я всем сердцем пытался его понять.
* * *
Я переживал свое, прораставшее во мне чувство отцовства.
– Спит, – приложил я ладонь Шиле к животу.
– Конечно, спит, не буди его.
– Не буду, – поставил я ударение на последний слог и вспомнил, как перестукивался с малышом вчера, будто через стенку с осужденным на девять месяцев без права переписки, без прогулок, без света. «Какую же надо иметь психику, чтобы выдержать такой кошмар». Я начал понимать, почему дети плачут, стоило им только выбраться на свободу. Их переполняли пережитые в застенках эмоции. Космонавтик в темном вакууме сырой галактики, связанный лишь пуповиной со своей станцией. «Сегодня снова взорвался ракетоноситель на старте, он должен был доставить еду космонавтам. Те, брошенные на произвол орбиты, испытывали судьбу и голод, перейдя на режим жесткой экономии. Надо будет сегодня заехать на рынок, купить мяса и орехов для станции, для нашего космонавтика». Станция спала. «Констанция», – промелькнули в моей голове Дюма и тройка его мушкетеров, которую гнал д’Артаньян, подстегивая зажатым в руке колье. Моя рука поднялась от живота к шее Шилы и нащупала цепочку. «Подвески на месте».
– В гости хочу. Почему нас никто не зовет в гости? – пробурчала сонно Шила.
– Не жалеют, не зовут, не плачут, – изменил я немного известные слова.
– Только что подумала то же самое.
– Они меня теперь боятся. А ты не пьешь. – Какой от нас прок. – Марс, кстати, приглашал нас к себе за город.
– К Марсу не хочу. У Марса я уже была.
Артур не придал значения словам. Ладонь его остановилась между шеей жены и ее налившейся грудью, до сна уже было рукой подать.
* * *
– Может, в шахматы сыграем? – поднялся Марс из кресла, подошел к серванту. И, не слушая меня, достал доску, высыпал фигуры на стол. Стал расставлять себе белые: – Дети – они наши подопытные, а подопытные всегда пользуются чужим опытом, боясь совершать свои ошибки. И пользуясь им, этим чужим опытом тех самых других людей, передают его следующим. Сначала ты входишь в их мир, в их затхлую квартирку, заваленную делами, которые начаты и брошены, знакомствами случайными и выгодными, связями, которые тут и там сползают лианами с полок и ниш, потом идешь дальше. Воздух тяжелый, он проводит тебя на кухню, где куча гниющей посуды, на жирной скатерти стаканчик настойки из полыни ошибок, трудных и потных желез трудолюбия, на стене, как реликвия, грабли. Айда, наступай, пока есть силы, здоровье и вера в светлое будущее.
– Не боишься проиграть? – ничего не понял я из этого красивого монолога.
– Кто, я? Тебе – нет. Ты же лучше меня играешь.
– Да ладно тебе.
– Я сто лет уже не играл.
– Ну давай, – начал я расставлять черную лакированную армию.
Я слушал Марса и изучал карамельную, хрустящую удовольствием плюшку, половину которой уже съел. Больше не мог, не хотел. Это было равносильно тому, что съесть себя. Но то – миссия Шилы, моей второй половинки. «Где же целостность? И откуда такая половинчатость во вкусах, и откуда на нее такая надежда?» – вполвзгляда я видел экран, вполуха я слушал Марса. Он начал Е2 Е4, между делом мы по очереди двигали фигуры. Марс надел на себя маску гроссмейстера, придав задумчивости своему лицу. Оно было спокойно до тех пор, пока не наступала его очередь ходить… Будто грусть, только что спокойно лежавшая на его лице, начинала просыпаться и двигаться, потом садилась на пухлый диван губ, зевала, рычала или произносила избитое: «Так, значит?»
«Ум его играл и пытался цинично шутить, стараясь загнать весь наш огромный мир в один цинковый гроб, но я не поддавался, тем более, что ящик шутит циничней. Я не хотел поддерживать ни того, ни другого. Ящики априори грустны, я знаю, куда направляется процессия с такими вещами, я не хочу хоронить чувства людей, как бы они ни провинились. В итоге можно было самому оказаться в этом оцинкованном скафандре, отрезанным от людей, болтающихся на шланге иллюзий. В знак протеста я сейчас съем еще одну плюшку, Марс. Пусть мне будет плохо».
Я молчал. Марс не унимался, пытаясь отвлечь меня от партии. Ему очень хотелось выиграть. Ходы его были необдуманны и поспешны:
– Ты слышал, что нашу компанию поглощает «Атмосфера»?
– Значит, не будет больше «Nordik Airlines»? – сделал я вид, что информация была для меня новой.
– Шах.
– Монополия на небо, – улыбнулся он. – Не жалко тебе свою королеву?
– Ферзя.
– Это для тебя ферзь, а для меня королева.
– Жертвую ради общей победы.
– Я бы не стал, – взял он мою королеву.
– Да какая тебе разница, за какую компанию летать, Марс? Главное – летать, я это понял, как только меня вернули на Землю.
– Разницы нет, но она есть. Она мешает мне есть, пить, любить.
«А мне мешает шашлык, который был до плюшек», – улыбнулся я про себя.
– Меняй образ жизни.
– Меня устраивает.
– А вот меня нет. Еще шах, – пришпорил я своего коня. – Еще пару ходов – и конец.
– Да? Неужели ты рассчитываешь победить без королевы?
– Почему нет?
– Просто она тебя устраивает, как и твой образ жизни. Ты сам сказал.
– Шила меня очень даже устраивает, – понял я, к чему клонит Марс. – Что касается образа жизни, может, ты знаешь, как поменять его?
– Поэтапно: сначала меняешь образ, а жизнь сама изменится.
Я смотрел на Марс, именно на Марс, а не на Марса. Его абсолютно преКрасная лысая голова сверкала чувством юмора. Планета, а не голова.
– Образ у меня один, точнее, одна. На нее и молюсь.
– У тебя климакс, что ли, начался? – пьяно заржал Марс.
– Я вижу, что Шиле как будто все время чего-то недостает. Вся проблема в том, что я не знаю, как сделать ее счастливой.
– Я бы тебе сказал, дружище, я бы тебе одолжил, дружище, кабы можно было этим поделиться, – держал в руках пешку Марс, не зная, куда ее отправить. – А ты спи с ней чаще. А счастье придет, вот увидишь. Тебе надо поменять свое отношение к предмету любви. Ты говоришь, что она – твой образ. Сделай рокировку.
– В смысле?
– Женщина мыслит образами, создай его, будет молиться и на тебя. – Язык Марса был пьян, но мысли, как ни странно, трезвы. – Не ты на нее должен молиться, а она на тебя. Предлагаю дружбу, то есть ничью, – оставил пешку без приказов Марс и протянул мне руку.
– Ты шутишь? У меня позиция лучше.
– У меня ферзь, – взял он белую королеву. – Мне кажется, я легко смогу все свести к ничьей.
«Да, Марс и Венера. Похоже, они знают, что такое счастье. У них получилась бы отличная пара: он умел воевать, она вдохновлять, он был богат, она – воображением», – подумал я про себя.
– Ладно, подумай. После доиграем. Не будь в моем окружении столько пешек, я бы давно уже создал новую партию, – подытожил Марс.
– И не смотри на меня такими восторженными глазами. Люди по определению не могут быть лучше тебя, определение это настолько глубоко сидит в подкорке, что чем больше они говорят о своих успехах, тем сильнее в этом убеждаешься. А что касается нашей с Шилой партии, то она, как и у всех счастливых семей, идет к своему эндшпилю, – поднял я доску вместе с оставшимися на ней фигурами и поставил на самый верх серванта.
– К эндшпилю?
– Ну ты понимаешь, о чем я? Эндшпиль семейной жизни, фигуры расставлены: жена на кухне, сын за компом, муж на диване, кошка в ногах.
В телевизоре уже насильно кормили гусей, чтобы у них вместо печени выросла фуа-гра. По желобу им заталкивали в горло кукурузную муку. Я посмотрел на четверть плюшки, что лежала передо мной. «Будь их воля, они бы добавили еще в пищу железа, чтобы печень сразу же консервировалась по банкам».
– Можно представить, что у этих гусей в печенках, – улыбался Марс, жадно откусывая выпечку и неряшливо запивая ее горячим чаем.
– Как и у всех – люди, – взял я четвертинку и положил обратно в посудину к остальным румяным и манящим и стал по нажитой за годы шахматной школы привычке прокручивать в уме концовку отложенной партии.
* * *
Утро было похоже на роды. Они прошли успешно: минут через тридцать после звонка будильника мне удалось прийти в этот мир новым человеком.
Я проснулась от звонка. «Наконец-то выспалась, можно полежать еще полчасика». Через полчаса новый звонок. В этот раз проснулась разбитой: «Бедный Артур, ты попал».
– Что с тобой? Я понимаю, что надо вставать, а у тебя нет настроения.
– Да, я решила позаимствовать у тебя.
– Нет, это называется испортить, зачем?
– Была на то причина!
– Какая?!
– Я не выспалась.
– Мне не надо было звонить.
– Не звони мне больше никогда.
– Я понял.
– Что ты понял?
– Позвоню позже.
«Люблю ли я его? Я до сих пор не знаю, но точно могу сказать, что любовь эта не была идеальной, то есть той, когда не возникает претензий к чему бы то ни было, особенно к тому, чего действительно не было. Мне нравилось, когда войска его чувств окружили мою независимость и быстро брали в плен. Когда он, словно дикий зверь, гонит, пока не настигнет и не возьмет ее, изголодавшуюся волчицу, парализовав разум, лишив его других желаний, затуманив воображение долгим протяжным стоном, отпросив душу подальше, отпихивая ее поступательными движениями снова и снова, чтобы та не видела, на что способно алчное бесстыдное тело. Мне нравилось, когда он обнимал меня, когда входил в меня, чтобы взять и оставить там на ночь частицу своего эго, забрызгав там мужеством все обои. И потом, уже вернувшись в себя, я засыпала, кутаясь в одно сплошное удовольствие, а он превращался в волчонка, который слепо тыкался в мои сиськи в поисках парного молочного тепла». Шила стояла в коридоре, всматриваясь в себя. Зеркало пялилось на ее ноги. Нет. Она никогда не была целеустремленной настолько, чтобы променять семейный очаг на карьеру, что-то должно было вечерами греть ее красивые ноги. Шила продолжала беспечно любоваться собой.
«Какие комбинации ни строй, какие ни надевай, так или иначе, семья всегда подводила к эндшпилю», – вспомнил Артур пророчества Марса. И лучше всего это можно было понять утром. Никто уже не помнил, из-за чего они наорали друг на друга, послали куда подальше, где-то не за горами затаилось прощение. Великое, розовое, как рассвет, прощение. «Доброе утро, добрая суббота, злая я», – вырвала Шила из гардероба пальто, обнаружила там вчера отлетевшую пуговицу, стремительно рванулась в спальню, открыла комод и, достав оттуда шкатулку с нитками и иголками, уронила себя на кровать, накинула на колени пальто и села пришивать пуговицу. Нитка долго не лезла в металлическую петлю иглы.
На подоконнике я нахожу ручку и рекламную газету, черчу что-то невнятное на ее полях, звездочка, тщательно обвожу ее, будто она заглавная, дальше круг, квадрат, треугольник. Слово из пяти букв можно было бы нарисовать и попроще, положить, например, букву «З», но у нас с Шилой она не простая, а иногда даже самая настоящая. Жопа на улице, внутри тоже не лучше. Я тороплюсь захлопнуть все двери и окна, когда дождь уже начинает барабанить в крышу. Это слова ее сыпятся, словно гильзы от строчащего пулемета губ. Ее крышу давно снесло, она хочет, чтобы снесло и мою, чтобы мы стали похожи, чтобы я тоже, как и она, выпустил пар, чтобы нам было легче друг друга после простить. Чтобы я подумал: «Ей не хватает», и она то же самое про меня: «Крышу снесло, теперь ему не хватает».

«Диспетчер:
– Борт четыре семерки. Вы на какой высоте?
– Девять тысяч шестьсот.
– Перед вами грозовой фронт.
– Вижу. Куда он движется?
– К вам в гости.
– Скажите, что нас нет дома.
– Давайте попробуем его обмануть.
– Как его лучше обойти?
– Сверху. Наберите десять тысяч пятьсот.
– Вас понял. Спасибо».
Слышу я далекий голос своей работы и мысленно набираю высоту, продолжая смотреть в окно. Там все стихает, будто снял наушники после рейса, когда шасси замерли на асфальте, а двигатели перестали петь. Самолет замер. Тишина, слышно даже, как Шила перегрызла нить. Иглотерапия всегда благотворно влияла на нее. Успокаивала. Буря напортачила и скрылась.
Гроза снаружи только что прошла, гроза внутри тоже. Туча, словно тампон, впитавший океаны, будто ею, как влажной салфеткой, протерли экран панорамы и бросили, так и не доделав работы. Вдали все еще сверкали разряды высокого напряжения. Мгла не имела ни конца, ни края, она не вмещалась в рамки окна, ограничиваясь только широтою взгляда. Я был с периферии, у меня лучше развито периферическое зрение, я замечал мелочи, но не видел главного. Вот и сейчас, отвернувшись от окна, я смотрел на нее и не мог понять: в чем же фокус? почему я ею так околдован. Иголка ее недовольства шьет мне мокрое дело (об убийстве ее счастья), которое никогда не будет раскрыто, и она, и я это знаем.
– Лучше я погуляю с собакой.
– Кому будет лучше: ей, мне, тебе?
– Ты отдохнешь от меня, она от тебя, а я от себя.
– Я сама погуляю. Все, – закончила она с пуговицей на своем пальто. – Там тепло?
– Лето, – посмотрел я на термометр. Градусник изменился в лице, у него выступил весенний румянец. – Гроза вроде бы отошла.
– Сколько? – Как и всякая женщина, она желала конкретики даже в мелочах, не говоря уже о глобальном.
– Плюс пятнадцать.
– Не густо для лета.
– Что за лето в этом году? – сделал я тему общей.
– Это не лето, это осень разминается.
– Хочешь, я схожу.
– Нет, моя очередь. А ты… займись делом.
– Каким делом?
– Не знаю, мужским. Зонт мне взять или не надо? – остановилась она в нерешительности, глядя на собаку, которой уже невтерпеж. Та тявкнула и тут же смела хвостом эту слабость.
– Возьми на всякий случай, – взял я зонт с полки.
– Не, передумала. Я вернусь и сразу поедем.
– Куда?
– Ты забыл, куда мне надо?
– Хорошо, – сделал я вид, что вспомнил. Готовый открыть зонтик в любую минуту на случай новой грозы.
Я взял из ее рук пальто и помог Шиле его надеть. Она подошла к зеркалу. Посмотрела на свою работу. Я уже стоял сзади, уже обнял, уже искал пальцами пуговицы. Пуговицы неохотно совали головы в петли. В каждой застегнутой мною пуговице на ее пальто читалось, как крепко Артур к ней привязан, пристегнут, присобачен. Она шла гулять на улицу с собакой, а он уже скучал. Собака, чуя близкую свободу, скребла дверь и скулила, глядя на дверную ручку. Будто от той бронзовой ладошки и зависела ее свобода. Наконец лацканы пальто поцеловались, да так и застыли в засосе. Я отворил перед ними дверь, собака выскочила и вытянула за собою Шилу. Она встала в профиль и нажала на кнопку лифта. Я все еще не мог закрыть дверь, будто моя преданность подставила ногу, не позволяя сделать этого:
– Мысленно я с тобой.
– Мысленно я и сама умею.
* * *
Проветривание пошло всем на пользу, людям, как и помещениям, это было необходимо. Как только она вернула собаку в дом, я повез Шилу в клинику, я сдал свою женщину, свою кровинушку на анализы, на сахар, на холестерин, на что-то еще. Это были те редкие моменты, когда она была не в силах проанализировать себя сама. В хорошую погоду ей казалось, что она была способна заправлять всем миром. Шила заправляла полный бак эмоций и мчалась навстречу мечте. Та была женского рода, она на дух не переносила мужчин. Шила никак не хотела верить, что зависит от них. Она часто повторяла: моей мечте уже двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, а она все еще не исполнилась. «Неужели все это из-за тебя?»
На улице небо подтекало, навстречу дождь. Он был мокрым, неприветливым, он шел куда глаза глядят. Мы спрятались от дождя под крышей авто. Машина тронулась и, выехав со двора, понеслась сквозь пустой город. Скоро улицы вынесли ее к Неве. На набережной я сбавил ход, та была оцеплена какими-то фургончиками и людьми, снимали кино. Наша машина внезапно попала в довоенное время, рядом прошли полуторка, пассажирский автобус «ГАЗ» из гаража тридцатых годов, из которого, словно из гардероба того же времени, вышли люди и попали в камеру. Операторский кран, будто надзиратель, внимательно следил за происходящим.
– Ты хотела бы сниматься в кино? – спросил я Шилу.
– А мы чем с тобой все время занимаемся?
– Снимаем?
– Да, сериал. Знаешь, как называется?
– Секс в большом городе?
– Секс с большим городом.
– Каждый божий день, – рассмеялся я. – Не надоело?
– Еще как!
– Что думаешь делать?
– Выйти. Здесь остановитесь, приехали. Сколько я вам должна?
– А я?
– Тридцать минут личного времени.
– Берите. Для вас мне не жалко.
Шила вышла, улыбнувшись беззвучно: «Это быстро». Я остался сидеть в машине, время от времени стирая капли с лобового стекла, которые заливали экран. Дождь редел; когда он совсем остановился, я вышел из машины, чтобы покурить с ним. Мы покурили, озираясь на мир вокруг. Мир идеализировал себя и своих поклонников холодным порывистым ветром. Небо постарело и осунулось. Чуть ниже на вывеске поросенок нюхал надпись «Свежее мясо». Город все еще валялся под одеялом субботы, уже не спал, ворочался одинокими гражданами и бессонными автомобилями. Он пока и не собирался вставать, только потягивался дымкой на небе и зевал облаками на горизонте. Напротив был КФС, я зашел в него отлить, люди уже глушили пиво с крыльями. Ощущение утреннего пива накатило на мою память, когда в голове бродит вчерашнее виски, или текила, или водка, когда одним рассолом этого не залить. Ливень пива разбавляет лужи вечера. Кто-то несет ересь, словно радио, которое висит высоко и его не выключить. Слова не воспринимаются, только их неприятный тембр. Человек смеется иногда, видимо, ему удалось пошутить, его чувство юмора тоже хлебнуло пива и пришло в себя, но не в других, другие мрачно молчат. Их чувства все еще дрыхнут, но скоро проснутся и начнут начистоту. В каждой искренности своя доля спирта.
Штаны мужа болтались на ветру, не штаны, а чехлы для ног. «Нельзя же мужчине быть таким худым? Это был один из тех вопросов, которыми я не раз задавалась. Кое-что начинает бросаться в глаза, да так, что возникает вопрос: люблю ли я?»
Шила, улыбаясь, подходила к машине.
– Ну, как там? Больно?
– Не сладко. Я хотела сказать, что с сахаром в крови все нормально, – открыла она дверцу авто и нырнула вовнутрь. Я тоже юркнул в машину.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































