Текст книги "Гёте. Жизнь как произведение искусства"
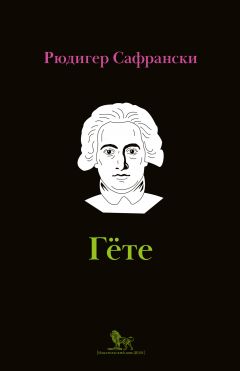
Автор книги: Рюдигер Сафрански
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Из произведений этого «множества молодых, богато одаренных людей» сохранилось немного. Сегодня нам известны лишь те из них, с кем в то время общался молодой Гёте, – прежде всего Клингер, Вагнер и Ленц. Однако в совокупности они оказали глубокое воздействие на литературу, изменив ее самым кардинальным образом. Гердер и Гаман выступили в роли «теоретического руководительства», которого не хватало вначале, молодой Шиллер через несколько лет на свой лад усилил это бунтарский прорыв в «Разбойниках», а в следующем поколении романтики, продолжая начатую традицию, устремились уже на поиски новой необузданности.
Когда слово «гений» стало синонимом творческого человека или творческого начала внутри человека, рано или поздно интерес к произведению должен был пробудить интерес к личности, его создавшей. С Гёте начинается культ автора. Фигура автора затмевает славу произведения, а его жизнь отныне сама воспринимается как своего рода произведение искусства. Такому представлению способствовала и личная харизма Гёте, однако же по сути оно возникало из характерной для «Бури и натиска» идеи, что творческий потенциал первичен по сравнению с формами, в которых он находит свое воплощение. Как велики наши возможности, когда их не нужно протаскивать сквозь игольное ушко реальности! В отношении поэта это можно истолковать и так, что личность как воплощение возможности важнее своих творений. Настал звездный час подающих надежды! Так сложился новый культ личности, который не мог достичь максимальной мощности лишь в силу того, что слишком многие хотели называться гениями.
Гёте и в самом деле был гением. Его гениальность признавали, хотя бы даже неохотно. Более того, им гордились перед зарубежьем. «Все, что я у Вас читал, – пишет Гёте Кристиан Фридрих Даниель Шубарт, – восхищает меня и наполняет мое сердце благородной гордостью за то, что мы можем противопоставить зарубежью человека, которого у них нет и в их добровольном окостенении никогда не будет»[464]464
BranG 1, 55 (3.10.1775).
[Закрыть].
Что касается самого Гёте, то его этот ошеломительный успех напугал. В душевном волнении он написал роман, не предполагая, что он вызовет такое волнение в читательской среде. Неприятным последствием стало и то, что отныне основная масса читателей видела в нем – причем едва ли не до самой его смерти – исключительно автора «Вертера». Даже Наполеон во время их встречи в Эрфурте в 1808 году заведет разговор об этом романе, который, как он уверял, он прочел семь раз. В стихотворении «К Вертеру» 1824 года, а именно в строке «Тебе – уйти, мне – жить на долю пало»[465]465
СС, 1, 443.
[Закрыть] проскальзывает невольная ирония, ибо Вертер и в самом деле не хотел уходить. Гёте просто-напросто не мог избавиться от своего раннего гениального творения.
Немало хлопот доставляло ему и назойливое любопытство некоторых читателей, воспринимавших «Вертера» как автобиографический роман. Они пытались разгадать, кто послужил прототипом того или иного персонажа, совершали паломничества к могиле Иерузалема, преследовали Кестнера и упрекали Гёте в том, что он еще жив. Гёте предполагал, что роман вызовет живейший интерес к легко узнаваемой фактической подоплеке сюжета. С одной стороны, его это устраивало, с другой – нет. В преддверии выхода романа он пишет Шарлотте: «В ближайшие дни я пришлю к Вам друга, во многом похожего на меня, надеюсь, Вы примете его благосклонно»[466]466
WA IV, 2, 168 (16.6.1774).
[Закрыть]. С другой стороны, он спешит предупредить и, вероятно, успокоить Кестнера, что в романе тот найдет знакомых героев, к которым, однако, «приляпаны чужие страсти»[467]467
WA IV, 2, 159 (май 1774).
[Закрыть].
Осенью Кестнеры читают роман, и он приводит их в ужас и негодование. В нем «слишком много» всего, «чтобы сюжет не столь откровенно указывал на них»[468]468
BranG 1, 36 (начало октября 1774).
[Закрыть], и поэтому им теперь приписывают и выдуманные детали. Лотта возмущена тем, что в романе она отвечает на любовь Вертера взаимностью, а Кестнер чувствует себя оскорбленным, так как его персонаж – Альберт – предстает скучным и бездушным обывателем.
Гёте совершенно подавлен – он признает свою вину: «Но дело сделано, книга сдана, простите меня, если сможете»[469]469
WA, IV, 2, 200 (октябрь 1774).
[Закрыть]. Это письмо написано в конце октября 1774 года – Гёте только что отдал роман в печать. В ноябре, когда уже становятся понятны масштабы успеха, Гёте еще раз пишет Кестнеру: «Если бы Вы могли почувствовать хоть тысячную долю того, что значит Вертер для тысячи сердец, Вы бы не стали подсчитывать издержки, которые легли на Ваши плечи!»[470]470
WA IV, 2, 207 (21.11.1774).
[Закрыть]
Подавленное состояние ушло, совесть больше не мучает Гёте. Наоборот, он теперь сам исподволь упрекает Кестнера в эгоизме: тот-де не хочет замечать, насколько эта история обогатила других людей. «Вертер должен – должен! – быть. Вы его не чувствуете, Вы чувствуете только меня и себя»[471]471
WA IV, 2, 208 (21.11.1774).
[Закрыть]. Тем самым он дает понять, что Вертер уже стал некой коллективной душой, и он сам, и Кестнеры просто-напросто утратили право собственности на те элементы его характера, которыми они его снабдили. В более позднее издание романа Гёте все же внесет некоторые изменения, чтобы заретушировать сходство и угодить Кестнерам.
«Вертер» оказал сильнейшее воздействие как на читателей, так и на автора. С этого романа и истории его успеха в жизни Гёте начинается новая эпоха.
Глава десятая
Несчастье Корнелии. «Клавиго», неверный. Лафатер и Базедов. «Один пророк, другой пророк, меж них – дитя земное». Летнее путешествие по Рейну. Праздник дружбы. Фридрих Генрих Якоби. Приглашение в Веймар. Лили и Августа, эротический зеркальный кабинет. Две скорости. Путешествие в Швейцарию. Веймар, почти что бегство
В период работы над «Вертером» душу Гёте терзали не только воспоминания о романе в Вецларе и недоговоренности и ссоры в доме Максимилианы Брентано. Он был также крайне взволнован расставанием с сестрой Корнелией, которая в конце 1773 года вышла замуж за Георга Шлоссера и переехала к нему в Южный Баден.
Отношения между Шлоссером и Корнелией завязались летом 1772 года, когда Гёте находился в Вецларе. Он ничего об этом не знал и чрезвычайно удивился, когда по его возвращении его поставили перед фактом. Вслух он ничего не сказал против решения сестры, однако про себя подумал, что «если бы брат был дома, друг вряд ли бы преуспел в такой степени»[472]472
СС, 3, 467.
[Закрыть].
В целом история отношений между Корнелией и Шлоссером оказалось несчастливой, если не считать той эйфории, что охватила влюбленных в самом начале. Незадолго до свадьбы в конце 1773 года Корнелия пишет в своем дневнике: «Хотя я уже давно отказалась от романтичных мыслей о браке, я так и не смогла погасить в себе возвышенное представление о супружеской любви, о той любви, что, по моему убеждению, одна лишь способна сделать брачный союз счастливым»[473]473
Цит. по: Damm, Cornelia, 92.
[Закрыть].
Она не уточняет, каким должен быть брачный союз, чтобы соответствовать ее идеалам, но эталоном, безусловно, ей служат отношения с братом. Она принимала искреннее участие в его жизни и творчестве, вместе они обсуждали его литературные замыслы, он всерьез воспринимал ее критику и советы и высоко ценил ее вкус. Она оказала решающее влияние на создание «Гёца». Гёте посвящал ее и в прочие свои литературные дела. «Новый мир», который открывался ему «в области воображения»[474]474
СС, 3, 466.
[Закрыть], он хотел разделить с сестрой. Между ними существовала тесная связь, и общим интересом к литературе она не ограничивалась; в «Поэзии и правде» Гёте осторожно намекает на инцестуальное влечение. Этот намек сделан в контексте воспоминаний о ранней юности, однако эротическая окраска братской любви навсегда сохранилась в памяти, и в дальнейшем Гёте собирался написать роман о любовных отношениях между братом и сестрой.
Доверие брата в литературных делах не только служило доказательством его любви, но и повышало самооценку Корнелии. Впрочем, это касалось лишь литературы и искусства, ибо ни в чем другом Корнелия не разбиралась, что в конечном итоге сыграло роковую роль в ее судьбе. Еще в письмах из Лейпцига восемнадцатилетний Гёте настоятельно рекомендует ей освоить некоторые навыки домашней работы, чтобы подготовиться к роли матери и хозяйки дома. Подобные нравоучения могут показаться простым занудством, однако у Гёте были основания для опасений. Корнелия хотела, чтобы в обществе ее считали женщиной, разбирающейся в литературе и обладающей художественным вкусом. Ничто другое ее не интересовало. Когда позднее ей пришлось заведовать хозяйством в большом доме Шлоссера в Эммендингене и заботиться о детях, эти задачи оказались для нее непосильными.
Шлоссер, хорошо знавший Гёте еще со времен далекой юности, к поиску жены, как и ко всему остальному в жизни, подходил основательно. Поначалу его старания не приводили к желаемому результату, и он уже было решил смириться с участью холостяка, как вдруг посмотрел другими глазами на давно знакомую ему Корнелию и увидел в ней будущую супругу. Он стал оказывать ей знаки внимания, и Корнелия принимала их благосклонно – отчасти, вероятно, и потому, что Шлоссер был другом брата.
Свадьбу, которая состоялась 1 ноября 1773 года, Шлоссер откладывал до того момента, пока не получил назначение от маркграфа Баденского в Карлсруэ. Он вступил в должность главы окружного правления в Эммендингене на юге графства, где в качестве должностного представителя маркграфа должен был управлять целым округом с населением в двадцать тысяч жителей. Это была самая высокооплачиваемая чиновничья должность из всех, какие имелись в Бадене.
Для Гёте, который в «Поэзии и правде» сам признается в том, что испытывал муки ревности, отъезд Корнелии в конце 1773 года был тяжелой утратой, однако для его сестры он был равносилен утрате самой себя. Гёте догадывался об этом. Во втором варианте «Вертера», написанном уже после смерти Корнелии, он отображает трагедию сестры в чувствах Лотты к Вертеру: «Всем, что волновало ее чувства и мысли, она привыкла делиться с Вертером и после его отъезда неминуемо ощутила бы зияющую пустоту. О, какое счастье было бы превратить его сейчас в брата!»[475]475
СС, 6, 88.
[Закрыть]
Корнелия так и не смогла справиться с этим расставанием. Шлоссер был не тот человек, который мог бы ей возместить потерю брата. В письме Форстеру он сетует на собственную «робость и физическую неловкость», на «кожу дикобраза»[476]476
Цит. по: Damm, Cornelia, 115.
[Закрыть], способную отпугнуть любую женщину. При этом он прилагал все усилия, чтобы выглядеть в глазах невесты более привлекательным и веселым. Быть может, он и вправду смог преодолеть скованность, когда, к примеру, во время сбора урожая, словно привидение, бродил по виноградникам со свечами на шляпе. Таким «доктора и надворного советника Шлоссера»[477]477
BrEltern, 427 (16.10.1778).
[Закрыть], как пишет мать Гёте в письме Анне Амалии в октябре 1778 года, еще не видели. Но, скорее всего, это был лишь единичный эпизод в период ухаживания.
Свадьбу сыграли во Франкфурте, и Корнелия попросила Гёте сопровождать их в Карлсруэ. Так тяжело ей было расстаться с братом. Гёте, однако, отклонил ее просьбу и погрузился в свои страдания от разлуки.
В Эммендингене чета Шлоссер въехала в просторный служебный особняк. Работы было много, однако Корнелия, которая к тому времени была уже беременна, отстранилась от домашних забот и не принимала никакого участия в обустройстве дома. Шлоссер жаловался в письме Лафатеру, что она неправильно воспитана. «Любой ветерок, любая капля воды заставляют ее запереться в комнате, а подвала и кухни она пока слишком боится»[478]478
Цит. по: BrEltern, 232.
[Закрыть]. В апатии и депрессии проводит она день за днем, в то время как Шлоссер энергично и рассудительно выполняет свои обязанности. По долгу службы он занимается развитием земледелия, народного хозяйства, транспортной системы, не оставляет без внимания промыслы и ремесла, открывает общественные и платные библиотеки. Все это, однако, никак не затрагивало Корнелию: она застыла в бездействии в затемненных комнатах и уже почти не вставала с постели. Рассудительный Шлоссер, который мог найти выход из любого положения, не знал, как помочь собственной жене.
Летом 1774 года Корнелия разрешилась от бремени и долго не могла прийти в себя после тяжелых родов. Шлоссер тем временем освоился на новом месте и чувствовал себя правящим князем. Ему хотелось ощущать поддержку жены, однако об этом нечего было и думать. Корнелия все больше замыкалась в себе. «Ей противна моя любовь»[479]479
Цит. по: BrEltern, 233.
[Закрыть], – жалуется Шлоссер своему брату Иерониему. Гёте, по-видимому, было известно и об этом, потому что много лет спустя в разговоре с Эккерманом он заметил: «Мысль отдаться мужчине была ей отвратительна, и, надо думать, в браке эта ее особенность доставляла немало тяжелых часов им обоим»[480]480
Эккерман, 430.
[Закрыть]. Корнелия чахла рядом со своим деятельным мужем. В таком состоянии застал ее Гёте, когда в первый и последний раз приехал в Эммендинген в мае 1775 года. От рождения второй дочери она так и не оправится. Корнелия умерла 8 июня 1777 года.
1774 год стал первым для Гёте годом жизни в доме на Хиршграбен без Корнелии, без столь значимого для него ежедневного общения и обмена с ней. То, о чем он столь самоуверенно и дерзко три года назад писал Кетхен Шёнкопф, отныне стало реальностью: «Весь дом – наш, а когда сестра выйдет замуж, ей придется уехать, зятя я не потерплю, а ежели я женюсь, то мы с родителями поделим дом пополам, и я получу 10 комнат»[481]481
См. четвертую главу; WA IV, 1, 226 (23.1.1770).
[Закрыть].
Корнелия уехала, зять в доме не поселился, и Гёте мог жить в доме широко и вольготно, пусть даже не во всех десяти комнатах. Только вот невесты так и не было: Кетхен Шёнкопф вышла замуж; покинутая Фридерике грустила в своем Зезенгейме; чувствительные дармштадтские дамы боготворили его, но все они или были помолвлены, или могли искать себе супруга только в своем сословии; Лотта в Вецларе тоже уже вышла замуж и родила первенца. Одним словом, подходящей кандидатуры для женитьбы в окружении Гёте пока не было. Впрочем, к этому вопросу он относился далеко не так серьезно, как хотелось бы его родителям. Его по-прежнему устраивала игра «в жениха и невесту», прижившаяся в его франкфуртской компании. Жребий определил ему в «невесты» Анну Сибиллу Мюнх. По мнению отца, она и в жизни могла бы составить хорошую партию. Для самого Гёте эти несерьезные отношения, по крайней мере, послужили поводом для создания еще одной пьесы – «Клавиго». Весной 1774 года, вскоре после окончания «Вертера», он прочитал Анне Сибилле один эпизод из мемуаров Пьера Огюстена Карона де Бомарше, где речь шла о Клавиго – неверном возлюбленном сестры Бомарше, и именно Анна Сибилла с двусмысленным намеком на их «брачный союз» попросила Гёте написать об этом неверном любовнике пьесу. Для Гёте это был еще один повод проявить свое мастерство. Он хотел доказать, что может писать драмы не только в «свободном стиле» «Гёца», но и в традиционной «складной манере», причем в самые короткие сроки. Он пообещал закончить пьесу за восемь дней. И действительно, через неделю появился уже с готовым произведением, которое чрезвычайно понравилось Анне Сибилле, но вызвало резкое осуждение со стороны строгого Мерка. «Не смей больше писать такую дребедень, предоставь это другим»[482]482
СС, 3, 561.
[Закрыть], – таков был его приговор.
Сам Гёте не считал новую драму «дребеденью», иначе бы он не опубликовал ее летом 1774 года почти одновременно с «Вертером» под своим настоящим именем. Это было самое первое произведение, вышедшее под его именем. Вскоре после выхода «Клавиго» в свет он пишет Якоби, что эта пьеса принесла ему «радость» и что в ней присутствует «романтическая сила молодости»[483]483
WA IV, 2, 187 (21.8.1774).
[Закрыть]. В другом письме он рассказывает, что ему особенно нравится в «Клавиго»: к его огромному удовольствию, ему удалось создать неоднозначный характер, изобразить «неопределенного, наполовину великого, наполовину ничтожного человека»[484]484
WA IV, 2, 171 (1.6.1774).
[Закрыть] – персонажа, подобного Вейслингену в «Гёце», которому не хватает душевной силы и стойкости для настоящей любви. Клавиго непостоянен, талантлив, искрометен. Он ловелас и острослов, его ждет судьба циничного царедворца, однако смерть возлюбленной возвращает его к самому себе. Эта камерная драма о неверном любовнике, который в финале понимает, что совершил роковую ошибку, возвращается к невесте, но погибает от кинжала ее оскорбленного брата, не встретила отклика у публики, зато вызвала настоящий восторг у Анны Сибиллы, и обоим «супругам» казалось, «что сей духовный плод еще теснее скрепил и упрочил наш союз»[485]485
СС, 3, 561.
[Закрыть].
Отец, как уже говорилось выше, благосклонно относился к этой связи, считая Анну Сибиллу вполне подходящей партией.
Он с нетерпением ждал того момента, когда наконец улягутся «суматошные страсти» вокруг его сына. Необузданная гениальность, нескончаемый поток друзей и знакомых, постоянные сборища с целью «веселого времяпрепровождения», щедрость и «страсть к поручительству»[486]486
Там же.
[Закрыть] – Гёте одалживал деньги некоторым своим друзьям, в частности, Ленцу, Клингеру и Вагнеру, – все это обременяло бюджет семьи, тем более что адвокатская практика Гёте, равно как и его литературные занятия не приносили ощутимого дохода.
Родителям Гёте ничего не оставалось, как только проявлять терпение. Отношения с Анной Сибиллой Мюнх не переросли ни во что серьезное, так называемая необузданная гениальность не прекращалась, а даже наоборот – усиливалась, по мере того как ширилась слава молодого автора. Не иссякал и поток гостей. Среди них оказался человек, которому суждено было сыграть важную роль в жизни Гёте.
23 июня 1774 года Иоганн Каспар Лафатер по пути из Цюриха в курортный город Эмс остановился во Франкфурте и на неделю задержался у Гёте. Лафатер, занимавший должность пастора в Цюрихе, был на восемь лет старше Гёте и к тому времени уже довольно знаменит. Его имя было известно далеко за пределами богословских кругов, и повсюду он пользовался уважением. Он, несомненно, обладал даром проповеди и убеждения и сам называл себя «ловцом человеческих душ». Постоянно путешествуя, он повсюду завязывал новые знакомства. Как никто другой он умел привлекать людей к своим проектам – сборникам, литературным сериям, выпуску назидательных брошюр. Он был тем, кого сегодня называют «сетевиком». Люди тянулись к нему, и даже ходили слухи, будто он обладает целительной силой. Говорил он тихо и проникновенно, излучая доброжелательность. Знакомые охотно сопровождали его в поездках и принимали у себя, когда он делал остановки в пути. О его приезде сообщалось в газетах. Написали газеты и о том, что Лафатер нанес визит Гёте. «Ты ли это?» – было первой фразой, произнесенной на протяжном швейцарском диалекте, и вот уже они бросились друг другу в объятья.
Впервые Лафатер обратил на себя внимание общественности, когда в 1762 году вместе с художником Иоганном Генрихом Фюссли выступил в печати против несправедливых решений цюрихского ландфогта и тем самым способствовал отстранению его от должности. Это принесло ему славу благочестивого и смелого человека. Для него самого сентиментальная созерцательность была гораздо важнее политики. В 1768 году он опубликовал «Взгляды в вечность» – фантазии в духе сентиментализма о жизни после смерти. Этот труд принес ему известность в Германии. В 1772 году во «Франкфуртских ученых известиях» Гёте сдержанно похвалил сочинение Лафатера, однако же поспешил дистанцироваться от его воззрений. Рассуждения о «прощении грехов», пишет он, возможно, «даруют успокоение относительно данных материй людям определенного сорта»[487]487
MA 1.2, 384.
[Закрыть], однако рецензент не относит себя к их числу, ибо не испытывает беспокойства и в успокоении не нуждается. Подобными высказываниями Гёте и прежде вызывал недовольство у некоторых своих знакомых из среды гернгутеров, и теперь этот аргумент – заявление о том, что ему незнакомо чувство греха, – он приводит и против Лафатера. При этом его похвалу заслужил располагающий стиль изложения. Очевидно, что книга написана не для «резонерской» части христианского мира, а для «душ, восприимчивых к прекрасному», ибо Лафатер «рисует <…> чудесный мир» там, где обычно царят «мрак и смятение»[488]488
MA 1.2, 385.
[Закрыть]. В заключение рецензент советует автору полностью отказаться от богословских рассуждений и посвятить себя чистому созерцанию. Совет в каком-то смысле бессмысленный: что может созерцать человек, чей взгляд устремлен в вечность?
Лафатер, в свою очередь, впервые обратил внимание на Гёте в начале 1773 года, когда вышло в свет его сочинение под названием «Письмо пастора в *** к новому пастору в ***», и был восхищен содержащимся в нем страстным выступлением в пользу простого душевного благочестия и против догматической изощренности. После прочтения «Гёца» Лафатер писал Гердеру: «Среди всех писателей я не знаю гения более великого»[489]489
VB 1, 51 f. (4.11.1773).
[Закрыть]. В августе 1773 года начинается их переписка, которая со стороны Лафатера с самого начала выдержана в восторженных тонах. Первые письма Гёте к Лафатеру не сохранились, но, по всей видимости, несмотря на избыток дружеских чувств, Гёте не обходил стороной и те вопросы, по которым у них возникали разногласия. «Я не христианин»[490]490
BranG 1, 17 (30.11.1773).
[Закрыть], – цитирует Лафатер одно из несохранившихся писем Гёте. Очень резкое заявление, и Лафатеру было непросто его принять. Однако любовь и восхищение позволили ему закрыть на это глаза. Он смог это сделать еще и потому, что полагал, будто понимает Гёте лучше, чем он сам. Когда Лафатер, подобно многим другим, разглядел в Гёте гения, его талант он воспринял как божественную силу, действующую внутри нас и неосознаваемую нами. Он не искал в Гёте обычной набожности, не хотел обратить его в свою веру, не хотел «преследовать» его и «привлекать на свою сторону». Он хотел, чтобы благородная борьба духа разрешила их спор: «Ты станешь им [христианином] – или я стану тем, кем являешься ты»[491]491
BranG 1, 17 (30.11.1773).
[Закрыть]. Дух дышит, где хочет.
Лафатер мечтал привлечь Гёте и к работе над своим новым проектом – большой книгой по физиогномике. Для нее он собирал рисунки, гравюрные портреты и силуэты известных и неизвестных людей, которые затем либо он сам, либо по его просьбе друзья и знакомые трактовали с точки зрения физиогномики. «Физиогномические фрагменты, способствующие познанию человека и любви к человеку», как в конечном итоге было названо это сочинение, изначально задумывались как коллективный труд. Лафатер не претендовал на авторитетность собственных толкований, оставляя за собой единственное право – обратить внимание общественности на физиогномический аспект человекознания.
При этом основная мысль была предельно проста. Речь шла о предполагаемой взаимосвязи между внешним обликом и характером человека. Как впоследствии психоанализ, физиогномика существовала на стыке серьезного научного подхода и салонных развлечений. «Физиогномировать» вскоре вошло в моду, что, с одной стороны, льстило Лафатеру, а с другой – злило, так как грозило испортить репутацию его грандиозного замысла. Поэтому в ноябре 1773 года он писал Гёте: «Не желаете ли Вы мне помочь в том, чтобы путем многочисленных целостных, уверенных наблюдений подтвердить или опровергнуть предположение, возникшее из наблюдений половинчатых, четверичных и восьмеричных?»[492]492
MA 1.2, 863.
[Закрыть] Гёте был готов помочь прежде всего потому, что в целом разделял главный принцип, согласно которому по внешней форме можно судить о внутреннем содержании. Он и сам не раз ходил этой дорогой – от чувственного восприятия к духовному познанию.
Поначалу Гёте проявил большое усердие в этой работе, снабжая Лафатера портретами и описаниями знакомых и незнакомых людей. Вот что, к примеру, он писал о Клопштоке:
«Эта нежная линия лба означает ясный ум, его высокий взлет над глазами – своеобразие и утонченность, нос выдает внимательного наблюдателя»[493]493
MA 1.2, 457.
[Закрыть]. Под силуэтом пока еще незнакомой ему Шарлотты фон Штейн летом 1775 года, т. е. еще до переезда в Веймар, он пишет следующее: «Должно быть, это чудесное зрелище, когда мир отражается в ее душе. Она видит его таким, каков он есть, но через призму любви. Поэтому нежность – вот наиболее общее впечатление»[494]494
MA 1.2, 490.
[Закрыть].
Образ мыслей Лафатера – восторженный и несколько несвязный – не позволял ему должным образом, т. е. трезво и рассудительно противостоять критикам и скептикам. Поэтому он и попросил свежеиспеченного адепта физиогномики Гёте дать несколько общих комментариев, на что тот с готовностью согласился, ибо для него такая задача означала возможность лучше разобраться в себе. В отношениях между людьми, по убеждению Гёте, переплетение действий и ответных реакций чаще всего ускользает от сознательного восприятия. Мы непрерывно читаем по лицам и приноравливаемся к собственным выводам, не отдавая себе в этом отчета. Каждый из нас «чувствует, где ему лучше приблизиться, а где – отдалиться, или, скорее, что-то притягивает нас, а что-то – отталкивает, и уже нет нужды ни в исследованиях, ни в объяснениях»[495]495
MA 1.2, 462.
[Закрыть]. Не следует мешать этому бессознательному или полусознательному процессу. Как правило, он облегчает общение с другими. Однако же в особых ситуациях, когда присутствует желание узнать, что именно нас привлекает или отталкивает, что сулит нам общение с другим человеком или чего от него ожидать, другими словами, если у нас появляется повод точнее описать характер отношений, в которые мы вовлечены, физиогномическая наблюдательность может сослужить хорошую службу. Это умение, которому можно научить и научиться.
Лафатера Гёте воспринимал как учителя – по крайней мере, в этом вопросе. Он встретил его с большим почтением, когда 23 июня 1774 года тот приехал во Франкфурт. Обращаясь друг к другу, они говорят «брат», а мать Гёте называет гостя «дорогим сыном». Лафатер тотчас же применяет свою физиогномическую наблюдательность: Гёте, пишет он в дневнике, говорит поразительные и странные вещи «с выражением гения, осознающего свою гениальность»[496]496
Цит. по: Bode 2, 289.
[Закрыть]. Он наносит визит фрейлейн Клеттенберг и беседует с ней попеременно то о Гёте, то об Иисусе Христе. Он без устали поет дифирамбы новому другу: «И все же я еще никогда не встречал человека столь гармоничного в своем сопереживании природе»[497]497
BranG 1, 35.
[Закрыть]. В течение недели Лафатер оставался в доме на Хиршграбен и здесь же принимал посетителей, которые шли к нему нескончаемым потоком. В конце июня он выдвинулся в путь в направлении Эмса – конечной цели своего путешествия, где намеревался лечиться от ревматизма. Гёте решил его сопровождать. К тому моменту они стали неразлучными друзьями.
К этому времени относится дневниковая запись Лафатера о том, как Гёте читал ему по памяти фрагменты эпической поэмы «Вечный жид», над которой он работал в те дни. В центре сюжета – скитания Вечного жида (Агасфера) в Германии XVIII века. По мысли Гёте, Агасфер своими глазами видел самую первую христианскую общину, и по сравнению с ней нынешнее церковное христианство кажется ему чудовищным вырождением. Вот как описано возвращение Спасителя, которого Гёте тоже делает персонажем своей поэмы:
Такова логика истории: когда-то Агасфер не признал в Иисусе бога, теперь в забвении Спасителя повинны церковь, священники и богословы. Работая над «Вечным жидом», Гёте, вероятно, пребывал в том же критическом настроении, что и во время написания письма Гердеру, где он называет официальное церковное христианство «иллюзией» или «бредом» (рукописный вариант допускает оба варианта прочтения)[499]499
WA IV, 2, 262 (май 1775). В оригинале различие только в одной букве: Scheinding (видимость, иллюзия) и Scheißding (чушь собачья, бред). – Прим. пер.
[Закрыть].
Благочестивый Лафатер не пишет, понравились ли ему эти стихи. В конце концов, он и сам принадлежал к (реформированной) церкви, и, скорее всего, сатира на современное христианство вызывала у него смешанные чувства, невзирая на то, что для него самого вера в Христа была делом глубоко личным, интимным и далеким от церковных догматов.
Сразу после возращения из Эмса во Франкфурт Гёте уже приветствовал нового гостя: на этот раз к нему пожаловал Базедов – священник, задавшийся целью реформировать систему школьного образования и пользующийся своей славой в поисках денежных средств на воплощение этого замысла. В том же году в Дессау при поддержке князя он открыл образовательное учреждение нового типа – филантропинум. Базедов выступал против формализма и крючкотворства в образовании, призывая к наглядности обучения: предметы познания нужно брать из жизни, ученики сами должны научиться учиться и получать удовольствие от этого процесса. Весьма разумные идеи, невзирая на то, что сам Базедов производил впечатление человека грубого и неотесанного и к тому же был пьяницей и заядлым курильщиком дешевого табака. Общение с ним Гёте мог выносить только на свежем воздухе.
Базедов тоже направлялся в Эмс, и Гёте, не упускавший ни одной возможности попутешествовать, вызвался проводить и его. Так он снова оказался в Эмсе, откуда только что вернулся. В дороге Базедов сидел в экипаже и дымил трубкой, Гёте предпочел место на козлах. Лафатер и Базедов сразу же нашли общий язык, и оба взялись за молодого Гёте, пытаясь склонить его каждый в свою сторону. В те дни Гёте пишет следующие строки:
Это четверостишие появилось на корабле, на котором Гёте вместе с друзьями путешествовал вниз по Лану и далее по Рейну, сначала до Кобленца, а потом, уже без Базедова и его махорки, – до Дюссельдорфа. В соседнем Эльберфельде Гёте впервые встретился с Фридрихом Генрихом Якоби и его братом Иоганном Георгом. Прежде он только писал про них насмешливые статьи и сатиры, доверяя слухам, согласно которым братья отличались излишней мягкостью и чувствительностью. Теперь же он завел с ними личное знакомство, а с Фрицем, который был на шесть лет старше Гёте, в эти жаркие летние дни зародилась дружба на всю жизнь.
Фридрих Генрих Якоби продолжал дело отца, заведуя торговым домом в Дюссельдорфе, а также занимал должность камерного советника и таможенного комиссара. Он был успешным и очень состоятельным коммерсантом с ярко выраженным пристрастием к философии. Он знал всех и каждого, вел переписку со многими знаменитыми литераторами и мыслителями – Лессингом, Виландом, Клопштоком, Гаманом, Кантом. Кроме того, Якоби имел приятную наружность и располагающие манеры. На Гёте он произвел огромное впечатление, и они сразу же нашли общий язык. После первой встречи Якоби писал Гёте письма, напоминающие письма влюбленного: «Все утро не мог успокоиться, моя душа принадлежит тебе одному, делай с ней, что заблагорассудится. Как сильно твое воздействие в моем сердце! Ты, вероятно, никогда не сталкивался с подобным. Продолжай же и впредь творить благое и великое во мне, в том числе ради себя самого»[501]501
BranG 1, 33 (26.8.1774).
[Закрыть].
Путешествие в Кёльн через Бенсберг, остановка на ночлег в гостинице «У Святого Духа», разговор о Спинозе, Гёте, читающий стихи при луне, – все это произвело на Якоби невероятно сильное впечатление, о котором он еще вспомнит в момент очередного кризиса их дружбы: «Я надеюсь, в эту эпоху ты не забыл ту беседку, в которой ты говорил мне о Спинозе, – незабываемо; зал в гостинице “У Духа”, откуда мы смотрели, как над Зибенгебирге восходит луна, где ты сидел в полумраке на столе и читал по памяти стихи “То был соперник смелый…” и другие… Какие часы! Какие дни! Ближе к полуночи ты снова пришел ко мне в темноте. Моя душа словно заново родилась. С этого момента я знал, что связан с тобой навеки»[502]502
BranG 2, 132 (28.12.1812).
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































