Читать книгу "Лавкрафт. Я – Провиденс. Книга 2"
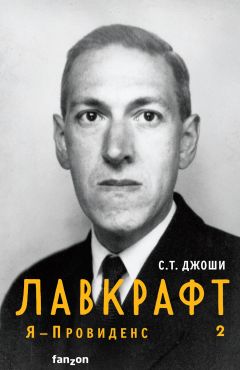
Автор книги: С. Джоши
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Три года спустя Лавкрафт размышлял об этой неудаче, и к его словам мало что можно добавить. Хотя позже он заявлял, что конец супружеской жизни «на 98 % зависел от финансовых проблем»27, здесь он открыто признает, что разлад был вызван существенными различиями в характере:
«Не сомневаюсь, что брак может стать очень полезной и приятной договоренностью между двумя людьми, когда обе стороны питают надежды на параллельную интеллектуальную и творческую жизнь – и одинаково или, по крайней мере, понятно друг другу реагируют на одни и те же основные моменты в обстановке, чтении, исторических и философским размышлениях и так далее, а также имеют схожие потребности и стремления в географической, социальной и умственной среде… С женой такого же темперамента, которым обладала моя мать и тетушки, я, пожалуй, сумел бы воссоздать что-то вроде семейной жизни на Энджелл-стрит, хотя имел бы совершенно иной статус в домашней иерархии. Однако с годами выявились существенные различия в отклике на основные вехи временного потока, а также противоположные стремления и понятия о ценностях при планировании постоянного совместного проживания. Абстрактно-традиционно-индивидуально-ретроспективно-уравновешенные взгляды столкнулись с реально-эмоционально-современно-жилищно-социально-этико-чувственными, и поэтому изначально воображаемому сходству, основанному на совместных иллюзиях, философском уклоне и восприимчивости к красоте, не суждено было выиграть эту битву»28.
Хотя его рассуждения звучат очень абстрактно, из них мы можем понять основную суть проблемы: Соня и Лавкрафт не сошлись характерами. Теоретически Говард мог представить себя рядом с супругой, более похожей на него самого или же на его мать или тетушек, правда, в том же письме, высказываясь в пользу института брака, он практически счел себя для него неподходящим:
«…Я не нахожу в этом ничего плохого, однако считаю, что шансы на успех в браке чертовски малы, если речь идет об индивидуалисте, человеке упрямом и оригинальном. Я уверен на сто процентов, что сколько бы он ни погружался в эту жизнь – четыре, пять раз подряд, – каждый раз его ждет провал, угнетающий как его самого, так и товарища по несчастью, поэтому если он не дурак, то уймется уже после первой неудачи… а если он по-настоящему мудр, то изначально не станет во все это ввязываться! Супружеская жизнь может оказаться более или менее нормальной и в принципе важной с социальной точки зрения, но для творческого и духовного человека нет ничего важнее ни на земле, ни на небесах, чем нетронутость его интеллектуальной жизни, а именно его чувства абсолютной вовлеченности и дерзкой независимости в качестве гордого и одинокого лица наедине с бескрайней вселенной».
Вот и все, что Лавкрафт мог сказать по этому вопросу.
Соня же, что примечательно, не особенно распространялась насчет причин неудавшегося брака – по крайней мере, на публике. В изданных мемуарах она в некотором смысле перекладывает вину на Лиллиан и Энни, которые возражали против открытия Соней собственного магазина в Провиденсе, но в приложении к книге есть отрывок под заголовком «Касательно Сэмюэла Лавмэна», где подробно рассказывается о том, что в Нью-Йорке расовые предрассудки Лавкрафта обострились еще сильнее. «По правде говоря, как раз из-за такого отношения к меньшинствам и желания избегать встречи с ними он и вернулся в Провиденс»29, – делает вывод Соня. Эта мысль получила развитие в письме к Сэмюэлу Лавмэну, где она опровергает утверждение (неизвестно, высказал ли его Лавмэн или кто-либо другой), что брак распался из-за неспособности Лавкрафта зарабатывать на жизнь. «Мой уход был связан вовсе не с тем, что он не мог содержать семью. Он постоянно твердил о своей ненависти к ев-ям, и именно это стало истинной и единственной причиной»30. Соня выразилась вполне ясно, и, полагаю, мы должны учитывать ее слова и принять данное объяснение как одну из причин – возможно, главнейшую – разлада супругов. У них были финансовые проблемы, и они не сходились характерами, и все это лишь осложнялось тем, что ненависть Лавкрафта к Нью-Йорку и его жителям все росла, а Соня никак не могла избавить его от укоренившихся предрассудков.
В дальнейшие годы, что примечательно, Лавкрафт зачастую вообще умалчивал о том, что был женат. Рассказывая новым друзьям по переписке о своей жизни, он упоминал о нью-йоркском периоде, однако ни слова не говорил о Соне – и признавался, что состоял в браке с ней, лишь когда кто-то из любопытствующих спрашивал его об этом напрямик. Вот, к примеру, отрывок из письма к Дональду Уондри (февраль 1927 года): «Около девяноста процентов моих лучших друзей попали в Нью-Йорк случайно или вынужденно, и три года назад я тоже подумал, что будет логично обосноваться в этом городе хотя бы на несколько лет. В марте 1924 года я перевез в Нью-Йорк все свои вещи и прожил там до апреля 1926 года. Под конец я уже с трудом выносил это отвратительное место»31. Лавкрафт начал утверждать, будто переехал в Нью-Йорк, чтобы жить поближе к «друзьям»! И если подобную скрытность в личной переписке с новыми коллегами, пожалуй, еще можно оправдать (Лавкрафт не был обязан рассказывать им все подробности своих частных дел), то в официальных автобиографических эссе, написанных в последние десять лет жизни, подобное уже непростительно. Складывалось впечатление, что его брака, как и периода пребывания в Нью-Йорке, вообще не существовало.
Лавкрафт не уставал от рассуждений на тему его несчастной жизни в Нью-Йорке, особенно на Клинтон-стрит, и отвращения к мегаполису и всему, что с ним связано. Что касается первого пункта:
«Хуже всего было с обстановкой – и дом, и район, и магазины пребывали в состоянии полнейшего упадка, хотя и старались это скрыть под былым великолепием и красотой, что добавляло ужаса, таинственности и очарования в остальном довольно статичному и прозаичному однообразию и тусклости. Мне казалось, что этот большой коричневый дом на самом деле является разумным существом – злобным и безжизненным созданием наподобие вампира, который высасывает энергию из всех жителей и наделяет их зачатками некой страшной бестелесной культуры. За каждой закрытой дверью, казалось, скрывается некое мрачное преступление или кощунство настолько глубинное, что в простых и поверхностных земных законах его даже не считают проступком. Я так до конца и не изучил устройство этого огромного хаотичного строения. Я знал, где находится моя комната, где живет Кирк и где искать хозяйку дома, чтобы заплатить за квартиру или спросить об отоплении (со временем я приобрел себе керосинку), однако некоторые части здания, в том числе лестницы, постоянно были закрыты. На верхних этажах имелись комнаты без окон, поэтому остается лишь воображать, что могло находиться ниже уровня земли»32.
Если в предыдущем отрывке Лавкрафт, возможно, немного преувеличивал, то в следующем он говорит со всей серьезностью:
«…жить в Нью-Йорке было невыносимо. Все вокруг становилось нереальным и плоским, все мои мысли и поступки казались банальными и бессмысленными, мне было не за что зацепиться, так как я потерял все ориентиры. Этот кошмар душил, отравлял и лишал меня свободы, и теперь даже под угрозой проклятия я ни за что не вернусь в этот мерзкий город»33.
Эти строки очень похожи на первые страницы рассказа «Он», но здесь они сильнее трогают за душу, поскольку представлены в документальной форме письма, без каких-либо художественных прикрас. Лавкрафт до последнего скрывал свои чувства от Лиллиан, и это говорит о многом: по всей видимости, он не хотел «приползти обратно домой, дабы никто не пристыдил меня за поражение».
Ничто, конечно, не мешало Лавкрафту ненавидеть Нью-Йорк, однако с его стороны нелогично было заявлять, что все «нормальные» и здравомыслящие люди должны считать этот город невыносимым. В своих разглагольствованиях он, естественно, чаще всего жаловался на заполонивших Нью-Йорк иностранцев, хотя, полагаю, его негативное отношение к городу вызвано не только расизмом, просто «чужаки» стали для Лавкрафта главным признаком отступления Нью-Йорка от стандартов, которым Говард следовал всю жизнь:
«В убогой и однообразной среде моя душа истощается – Нью-Йорк едва меня не прикончил! Как оказалось, наибольшее удовольствие мне приносят красота и спокойствие старомодных городков и пейзажи традиционных аграрных регионов с лесистой местностью. Постоянное развитие на основе прошлого – это sine qua non[3]3
Непременное условие (досл. «то, без чего нельзя обойтись», лат.).
[Закрыть], и я давным-давно понял, что архаичность является главной движущей силой моего существования»34.
Даже здесь, применяя свое мировоззрение к рассуждениям о Нью-Йорке, Лавкрафт делает ошибочные выводы, ведь, согласно его представлению, это иммигранты одним своим присутствием виноваты в том, что город отклонился от «естественного» развития (примечательно, что он постоянно сравнивает Нью-Йорк с Бостоном и Филадельфией, в которых тогда преобладали жители англо-саксонского происхождения). Иногда его абсурд доходит до комичности: «Нью-Йорк олицетворяет страшное разорение и упадок… вороватые раболепствующие отбросы и омерзительные ничтожества вытеснили крепких и здоровых людей – и как теперь жить в этом отвратительном городе?»35 Если эти отбросы и правда настолько ничтожны, как же им удалось вытеснить крепких арийцев?
Такого рода тирады в основном действовали с психологической точки зрения: Нью-Йорк стал «другим», он представлял собой все ошибки современной американской цивилизации. Неудивительно, что в конце 1920-х Лавкрафт, вернувшийся в комфорт знакомого и родного Провиденса, начал размышлять об упадке Запада. Чтение знаменитой работы Освальда Шпенглера лишь поспособствовало развитию его идей.
Итак, Лавкрафту предстояло переехать из Бруклина обратно в Провиденс. В письмах к тетушкам за первую половину апреля полно мелких деталей, связанных с этим вопросом: какую компанию нанять для перевозки, как упаковать книги и другие вещи, когда именно он приедет и так далее. Как я уже говорил, Соня собиралась помочь Говарду с переездом. В ее мемуарах этому событию посвящен еще один отрывок, написанный в раздраженном тоне. Она приводит слова Кука, согласно которому тетки «отправили за Лавкрафтом грузовую машину, на которой он добрался в Провиденс вместе со всем багажом», а затем рассказывает, что «специально выбралась в Нью-Йорк, чтобы помочь ему собрать вещи и отправить домой. За все, в том числе за проезд и перевозку багажа, я заплатила из собственных средств»36. Соня приехала к Говарду воскресным утром одиннадцатого апреля, а вечером того дня они гуляли по Флэтбушу, ели мороженое, сходили в кино и домой вернулись поздно. Понедельник супруги тоже посвятили развлечениям: посмотрели фильм «Сирано де Бержерак» и пообедали в ресторане «Элизе» на Восточной 56-й улице. Как признавался Лавкрафт, Соня специально старалась «в некоторой степени избавить меня от крайнего отвращения к Нью-Йорку и подарить мне приятные впечатления перед отъездом»37. Все это было уже бесполезно, зато Лавкрафту довелось хорошенько поесть (фруктовый коктейль, суп, баранья отбивная, картошка фри, горошек, кофе и вишневый пирог).
Ко вторнику, тринадцатому апреля, все вещи были собраны, и у Лавкрафта оставалось время на последнюю встречу Клуба Калем, которая состоялась у Лонга в среду. Пришли Мортон, Лавмэн, Кирк, Кляйнер, Ортон и Лидс, мать Лонга приготовила ужин, и, как всегда, завязалась оживленная беседа. Разошлись в 23:30, после чего Лавкрафт с Кирком решили напоследок устроить еще одну ночную прогулку по городу. Они дошли пешком от дома Лонга (пересечение Вест-Энд-авеню и 100-й улицы) до самого Бэттери. К себе Говард вернулся только в шесть утра, а в десять уже встал, чтобы встретить грузчиков.
Последнее письмо Лиллиан до переезда он отправил пятнадцатого числа, поэтому о событиях следующих двух дней нам известно не так уж много. Утром в субботу семнадцатого апреля Лавкрафт сел в поезд (скорее всего, на Центральном вокзале Нью-Йорка) и во второй половине дня приехал в Провиденс. В письме к Лонгу непревзойденно переданы все его чувства:
«Поезд набирал скорость, а меня чуть ли не трясло от радости, что я понемногу приближался к трехмерной жизни. Нью-Хейвен, Нью-Лондон, затем старомодный Мистик с колониальной застройкой на склоне холма и горным проходом. Потом воздух заполонила неуловимая магия – все более величественные крыши и башни проплывали за окном, когда поезд мчался по высокому виадуку… и наконец-то Уэстерли, Его Величество ШТАТ РОД-АЙЛЕНД И ПЛАНТАЦИИ ПРОВИДЕНСА! БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!! Какое упоение – Кингстон, Ист-Гринвич, высоко вверх от железной дороги бегут георгианские улочки… Старинные крыши Аппонауга… Оберн, мы все ближе к городу, я верчу в руках сумки и свертки, отчаянно пытаясь сохранять внешнее спокойствие, и вот за окном появился невероятный мраморный купол, зашипели воздушные тормоза, поезд сбросил скорость, и в мой разум хлынули волны восторга, с глаз будто упала пелена – я ДОМА, на вокзале ЮНИОН-СТЕЙШН, в ПРОВИДЕНСЕ!!!!»38
В печатном тексте не передать всех эмоций: ближе к восторженному концу писал он все крупнее, и последнее слово сильно выделяется на фоне остальных, поскольку буквы достигают около двух с половиной сантиметров в высоту. Слово «Провиденс» подчеркнуто четыре раза и после него стоят четыре восклицательных знака. «В этом рассказе об идеализированном возвращении домой есть что-то трогательное, в нем чувствуется фундаментальный жизненный опыт»39, – справедливо замечал Морис Леви.
В этом письме к Лонгу, отправленном через две недели после того, как Лавкрафт попал домой, можно найти немало поразительных утверждений. Лавкрафт фактически заявлял, что два года в Нью-Йорке прошли «как во сне» и теперь он наконец-то проснулся. Конечно, он говорил с иронией, хотя в этой шутке есть и определенная доля правды: «…1923, 1924, 1925, 1926 – и назад, 1925, 1924, 1923 – бам! Я потерял два года, но кому, черт возьми, до этого дело? 1923 год заканчивается, и начинается 1926-й!.. Пара белых пятен в жизни не имеет никакого значения». Лавкрафт немного размечтался, и ничего плохого в этом не было, однако вскоре он понял: два года жизни в Нью-Йорке действительно существовали, поэтому с ними надо как-то смириться и соответствующим образом изменить свою жизнь. Лавкрафту очень хотелось вернуться к беззаботному существованию, которым он наслаждался до вступления в брак, но, возможно, это было лишь в фантазиях. Следующие одиннадцать лет жизни подтверждают, что в своем знаменитом высказывании У. Пол Кук не ошибался: «Он прошел огонь и воду и вернулся в Провиденс человеком – золотым человеком!»40
Сопровождала ли Соня Лавкрафта во время переезда в Провиденс? В письме к Лонгу ничто на это не указывает: за все десять страниц Говард ни разу не упомянул супругу, а в самом начале и вовсе ведет рассказ исключительно от первого лица единственного числа. Впрочем, Лонг, возможно, был так хорошо осведомлен о сложившейся ситуации, что Лавкрафту не требовалось вдаваться в детали. Насколько я понимаю, в поезде он все-таки был один, а Соня приехала через несколько дней, чтобы помочь ему устроиться. Данное предположение косвенно подтверждается самим Говардом, так как ближе к концу письма он переходит на множественное число первого лица41. Несколько дней ушло на то, чтобы распаковать вещи, и после этого в четверг, двадцать второго апреля, Лавкрафт и Соня отправились в Бостон, а на следующий день гуляли по парку Ньютаконканат-Хилл на западе Провиденса – Лавкрафт уже бывал там в октябре 1923 года. Неизвестно, когда именно Соня вернулась в Нью-Йорк, но вряд ли она оставалась в Провиденсе дольше недели.
Еще один удивительный рассказ о переезде Лавкрафта сохранился со слов Кука:
«Я встретил его в Провиденсе по возвращении из Нью-Йорка, еще до того, как он успел устроиться на новом месте и разобрать вещи. Могу с уверенностью заявить, что более счастливого человека я в жизни не видел – с таким лицом только сниматься в рекламе какого-нибудь лекарства, где показывают результат после его приема. Он принял «таблетку», он доказал, что способен ее принять. Он с нежностью раскладывал вещи, с любовью глядел на город из окна. От радости Говард даже напевал что-то себе под нос, а если б мог, то, наверное, и замурчал бы, как кошка»42.
В письме к Лонгу Лавкрафт нарисовал подробный план своей большой однокомнатной квартиры с кухонной нишей (см. схему 2 на вкладке).
В дополнительных схемах Лавкрафт показывает, чем украшена комната: на восточной стене висит картина с розами, которую нарисовала его мать, и несколько других, возможно авторства Лиллиан (с оленем и фермерским домом), в этой же стене находится входная дверь; южная полностью заставлена книжными шкафами, западную стену занимает камин и каминная полка. Здание было построено приблизительно в 1880 году, так что к колониальной эпохе оно не имеет никакого отношения, зато квартира оказалась приятной и просторной. Дом, как и тот, что стоял на Энджелл-стрит, 598, был сдвоенным, западная его сторона имела адрес Барнс-стрит, 10, а восточная относилась к Барнс, 12. Вот еще несколько деталей от Лавкрафта:
«В доме безупречная чистота, живут здесь лишь избранные представили хороших старинных родов… Район идеальный, вокруг сплошь коренные жители Провиденса, причем постройки в основном колониальные… Из моего закутка с письменным столом открывается восхитительный вид – старинные дома, величавые деревья, белый забор в георгианском стиле, украшенный вазонами, и потрясающий старомодный сад, который через пару месяцев будет весь в цвету»43.
Со времен Лавкрафта вид из окна практически не изменился, а дом по-прежнему разбит на несколько квартир.
Крайне мало известно о том, чем Лавкрафт занимался в первые несколько месяцев после возвращения в Провиденс. В апреле, мае и июне, по его же словам, он исследовал неизвестные ему прежде районы города, один раз даже в компании Энни Гэмвелл, которая на тот момент жила в доме Трумана Беквита на пересечении улиц Колледж и Бенефит. Говарду хотелось тщательнее изучить историю Род-Айленда, больше читать на эту тему и собирать связанные со штатом предметы, поэтому он собирался частенько наведываться в читальный зал библиотеки Провиденса.
Провиденс упоминается в нескольких рассказах, сочиненных Лавкрафтом в период с лета 1926 по весну 1927 года – пожалуй, наиболее плодовитый за всю его писательскую карьеру. Всего через месяц после отъезда из Нью-Йорка он написал Мортону: «Поразительно, насколько лучше стала работать моя голова с тех пор, как вернулась в родную обстановку, где ей и место. Во время ссылки даже чтение и сочинительство давалось мне с трудом и шло очень медленно…»44 Теперь ситуация полностью изменилась: за указанный период Лавкрафт написал два небольших романа, две повести и три рассказа общим объемом в сто пятьдесят тысяч слов, и это не считая разнообразных стихотворений и эссе. Во всех историях как минимум часть действия происходит в Новой Англии.
Первым в этом списке числится «Зов Ктулху», написанный, скорее всего, в августе или сентябре того года. Идея рассказа появилась еще годом ранее, о чем свидетельствует запись в дневнике за двенадцатое-тринадцатое августа 1925 года: «Развить сюжет – „Зов Ктулху“». Полагаю, произведение это настолько известно, что подробный пересказ не понадобится. В подзаголовке («Обнаружено в бумагах покойного Френсиса Виланда Терстона, город Бостон») сообщается, что представленный текст написан Терстоном (чье имя нигде в тексте больше не упомянуто), который собрал эти странные факты из документов недавно умершего двоюродного деда, Джорджа Гэммела Энджелла, и путем собственного расследования. Профессор Энджелл, специалист по семитским языкам из Брауновского университета, создал необычную подборку данных. Во-первых, он детально описал сны и художественные творения Генри Энтони Уилкокса – молодого скульптора, который принес ему барельеф, созданный им ночью первого марта 1925 года. Скульптура представляет собой изображение жуткого неземного существа, и, по словам Уилкокса, во сне, вдохновившем его на создание барельефа, кто-то все время повторял одни и те же слова: «Ктулху фхтагн». Именно поэтому Энджелл и заинтересовался случившимся, ведь подобные слова или звуки он уже слышал много лет назад на встрече Американского археологического общества, куда Джон Реймонд Леграсс, полицейский инспектор из Нового Орлеана, привез очень похожую статуэтку и утверждал, будто на болотах Луизианы существовал целый культ, представители которого поклонялись этому идолу, произнося фразу: «Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн». Один из членов культа сказал, что эти причудливые слова переводятся следующим образом: «В своей обители в Р’льехе мертвый Ктулху ждет, погрузившись в сон». На допросе другой сектант, метис по имени Кастро, поведал Леграссу, что Ктулху – это гигантское существо, попавшее на едва зародившуюся землю с далеких звезд вместе с другими созданиями, Великими Древними. Он захоронен в затонувшем городе Р’льехе и выйдет на поверхность, когда «звезды будут готовы» снова управлять землей. Представители культа «не перестанут ждать момента, когда появится возможность его освободить». По словам Кастро, все это упоминается в «Некрономиконе» безумного араба Абдула Альхазреда.
Терстон почти ничего не может разобрать в этих необычных материалах, но тут ему вдруг попадается вырезка из газеты, в которой речь идет о странных событиях, случившихся на корабле во время плавания по Тихому океану. К статье приложен снимок барельефа – очень похожего на те, что изготовил Уилкокс и обнаружил Леграсс. Терстон отправляется в Осло, чтобы расспросить Густава Йохансена, моряка из Норвегии, который был на борту того корабля, однако вскоре выясняется, что Густав умер. Терстон забирает бумаги моряка, из которых становится ясно: во время происшествия, когда в результате землетрясения город Р’льех поднялся на поверхность со дна моря, Йохансен действительно повстречался с ужасным Ктулху. Однако звезды были «не готовы», и город вновь ушел под воду, унося вместе с собой и Ктулху. Впрочем, сам факт существования этого исполина не перестает пугать Густава, показывая, как незначительны на самом деле люди, возомнившие себя хозяевами земли.
По такому краткому пересказу трудно оценить мощную структуру этой значительной работы, включающую намеки на угрозу вселенского масштаба, постепенно нарастающую кульминацию, многослойную организацию с большим количеством рассказчиков, а также совершенство стиля, поначалу спокойного и даже бесстрастного, однако достигающего истинных вершин и поэтического величия в прозе к концу. Это лучший рассказ Лавкрафта со времен «Крыс в стенах», здесь чувствуются присущие его поздним произведениям (написанным за последние десять лет жизни) уверенность и зрелость, которых так не хватало в его ранних работах.
Запись от 1925 года – вовсе не первое упоминание идеи этого рассказа. Задумка описывается еще в тетради для заметок (под номером 25) и относится примерно к 1920 году:
«Мужчина идет в музей древностей – предлагает взять барельеф, который он сам только что сделал, – старик-смотритель, знаток своего дела, смеется и говорит, что современные предметы его не интересуют. „Сны древнее мрачного Египта, задумчивого Сфинкса и окруженного садами Вавилона“, – заявляет мужчина и добавляет, что создал скульптуру во сне. Смотритель просит показать статуэтку, а увидев ее, с ужасом спрашивает у человека, кто он такой. Тот называет свое нынешнее имя. „А прежнее?“ – интересуется старик. Мужчина не помнит ничего, кроме снов. Смотритель предлагает высокую цену, но вдруг он хочет уничтожить барельеф? Мужчина называет запредельную сумму – старик хочет посоветоваться с директорами музея. Добавить развитие событий, описать, что собой представляет барельеф».
В этой записи, естественно, описывается сон, который приснился Лавкрафту в начале 1920 года, он рассказывал о нем в подробностях в двух письмах того периода45. Данная запись приведена целиком, чтобы показать, как далеко иногда уходил Лавкрафт от первоначальной идеи произведения. В рассказе можно обнаружить лишь самую основу данной задумки, а именно то, что современный скульптор приносит в музей странный барельеф, созданный им под влиянием сновидений. И хотя Уилкокс действительно обращается к Энджеллу с той фразой про древние сны, рассказчик не придает его словам особого значения, считая их «причудливым поэтическим выражением, свойственным всей речи юноши».
Уилкокс изваял барельеф во сне, и это своего рода дань уважения рассказу Ги де Мопассана «Орля», вдохновившему Лавкрафта на написание «Зова Ктулху». В 1920 году, когда Говарду приснился тот сон, он, скорее всего, еще не был знаком с данным произведением, но наверняка прочитал его еще задолго до того, как взялся за работу над «Зовом Ктулху», так как «Орля» был напечатан и в «Запертой библиотеке» (эту книгу он приобрел в 1922 году во время поездки в Нью-Йорк) Готорна (1909) и в «Шедеврах мистики» Френча (1920). В «Сверхъестественном ужасе в литературе» он называл «Орля» образцовым рассказом Мопассана в жанре ужасов и писал о нем следующее: «Весьма вероятно, что у этой напряженной истории о пришествии во Францию невидимого существа, питающегося водой и молоком, которое способно контролировать разум людей и является предводителем целого полчища внеземных созданий, прибывших на землю с целью поработить и сокрушить человечество, нет равных в своей области…» Ктулху, конечно, не является существом невидимым, однако остальные детали поразительно схожи с рассказом Мопассана. Некоторые размышления рассказчика «Орля», особенно после прочтения книги, посвященной «истории всех невидимых созданий, терзающих людей и появляющихся во сне», можно отнести к космизму:
«Прочитав эту книгу, я пришел к мнению, что, едва научившись мыслить, человек осознал, что однажды на земле появится и будет править существо куда более сильное…
…Кто населяет далекие миры? Какие формы жизни там есть, какие существа, животные и растения там обитают? И если в этих далеких вселенных можно обнаружить разумные создания, насколько они умнее нас? Насколько способнее? Могут ли они видеть нечто такое, о чем мы даже не подозреваем? Только представьте, что будет, если кто-то из них должен решить отправиться в путешествие по космосу к Земле, желая завоевать ее, подобно норманнам, в далеком прошлом пересекавшим море, чтобы подчинить себе более слабые расы!
Мы, существа, населяющие кружащуюся точку из грязи и воды, мы настолько слабы и беспомощны, настолько невежественны и малозначимы…
…
Теперь я понял. Я все понял. Господство человека подошло к концу»46.
Неудивительно, что этот рассказ сильно впечатлил Лавкрафта, хотя сам он, если честно признать, проработал данную тему намного искуснее и разнообразнее Мопассана.
Как указывает Роберт М. Прайс, рассказ «Зов Ктулху» также написан под серьезным влиянием теософии47. Основоположницей теософского учения стала Елена Петровна Блаватская, в чьих работах «Разоблаченная Изида» (1877) и «Тайная доктрина» (1888–1897) Западу впервые была представлена данная комбинация науки, мистицизма и религии. Не стану приводить здесь громоздких разъяснений о том, что представляет собой это учение, скажу лишь, что теософские рассказы о затерянных землях вроде Атлантиды и Лемурии (взятые из якобы древней «Книги Дзиан», громадным комментарием к которой и является «Тайная доктрина») взбудоражили воображение Лавкрафта. Он читал «Историю Атлантиды и затерянной Лемурии» У. Скотта-Эллиота (1925) – в издании объединили две книги Скотта-Эллиота: «Историю Атлантиды» (1896) и «Затерянную Лемурию» (1904) летом 1926 года48; и эта книга даже упоминается в самом рассказе, где уже во втором абзаце говорится о теософах. Безумная история Кастро о Великих Древних отсылает нас к загадочным тайнам, о которых он узнал от «бессмертных китайцев» – и это снова намек на теософские истории о Шамбале, священном городе Тибета (ставшем прообразом вымышленной страны Шангри-Ла). На их основе, предположительно, и зародились доктрины теософии. Лавкрафт, естественно, не верил в подобный вздор и даже позволил себе немного позабавиться, написав: «Старик Кастро помнил обрывки страшных легенд, на фоне которых меркли рассуждения теософов, а человечество и весь мир казались совсем юными и мимолетными».
Еще одним источником влияния стала повесть А. Меррита (1884–1943) «Лунная заводь». Лавкрафт неоднократно восхищался этим произведением, впервые опубликованным в All-Story за двадцать второе июня 1918 года. Действие в повести происходит на Каролинских островах, а именно на острове Понапе или где-то близ него. У Меррита упоминается «лунная дверь» – если ее наклонить, герои попадают в подземное царство чудес и ужаса, у Лавкрафта же была очень похожая огромная дверь, случайно открыв которую моряки спровоцировали появление Ктулху из Р’льеха.
Прежде чем переходить к серьезным вопросам, которые затрагиваются в рассказе, стоит вкратце поговорить и о встречающихся в нем автобиографических деталях. Некоторые из них можно найти на поверхности, не выше уровня шуток для посвященных: например, имя рассказчика, Фрэнсиса Уэйленда Терстона, явно взято у Фрэнсиса Вейланда (1796–1865), служившего ректором Брауновского университета с 1827 по 1855 год; Гэммелл отсылает к фамилии Гэмвелл, а Энджелл – это название одной из главных улиц Провиденса, а также фамилия выдающейся семьи. Уилкоксом звали одного из предков Лавкрафта49, а когда Терстон находит газетную вырезку о Йохансене, «навещая друга-ученого в Патерсоне, штат Нью-Джерси, хранителя местного музея и знаменитого минералога», можно догадаться, что речь идет о Джеймсе Ф. Мортоне. (К ложным автобиографическим деталям относится метис Кастро, чье имя, как считалось, было позаимствовано у Адольфа Данцигера де Кастро, друга Бирса, который нанимал Лавкрафта в качестве редактора, однако Говард познакомился с ним только в конце 1927 года.50)
Дом с геральдическими лилиями по адресу Томас-стрит, 7, где проживал Уилкокс, существует в реальности и до сих пор сохранился. «Жуткая викторианская имитация бретонской архитектуры семнадцатого века, выставляющая напоказ свой фасад с лепниной среди чудесных колониальных домов на холме, в тени прекраснейшего георгианского шпиля всей Америки» (то есть Первой баптистской церкви), – с презрением (и довольно точно) описывает Лавкрафт это здание. Несколько лет спустя связь Уилкокса с этим домом получит интересное продолжение.









































