Текст книги "Темный ангел"
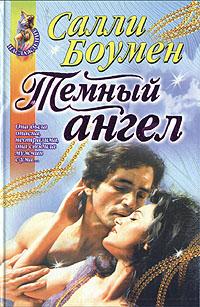
Автор книги: Салли Боумен
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
3
Тот самый день пришел много недель спустя, в самом конце августа. До самого его завершения я не догадывалась, что это был особый день.
В это утро, впервые за три месяца, я решила не возносить молитвы о Нью-Йорке и моей крестной матери Констанце. Я стала понимать всю глупость своих выдумок и невозможность продолжения их, когда Шарлотта вернется из Италии. Безжалостная реплика Франца Якоба в адрес Шарлотты: «Эта девчонка просто дура» – придала мне силы. Чего ради я должна беспокоиться о том, что подумает Шарлотта? Я не любила ее и не восхищалась ею; она могла считать мою семью скучной и бедной, но Франц Якоб, у которого было куда больше прав судить, считал Винтеркомб прекрасным местом, просто волшебным – и он знал, что мои родители хорошие люди.
Бросив молитвы, я почувствовала облегчение и, как ни странно, свободу. Даже мои уроки с мистером Бердсингом пошли лучше, чем раньше. Скоро, намекнул он, мы можем перейти и к алгебре.
После ленча мы с Францем Якобом, взяв собак, отправились на прогулку.
Как обычно, мы спустились по тропке к озеру и остановились посмотреть на черных лебедей, после чего, что было несколько необычно, мы пошли по направлению к лесу. Франц Якоб почему-то не любил его чащу, хотя она нравилась мне во все времена года и особенно летом, поскольку тут было тенисто и прохладно.
Стоял очень жаркий день; Франц Якоб ответил на мое предложение привычным пожатием плеч и согласился. Мы могли пройти вдоль опушки и выйти на тропку, ведущую в деревню. Но собаки взяли какой-то след и умчались, а нам пришлось последовать за ними, окликая и высвистывая их, углубляясь дальше в лес, где тропка становилась все уже и незаметнее. Мы миновали то место, где когда-то располагалась фазанья ферма моего дедушки, и, пройдя ее, оказались в зарослях ежевики. Я немного опередила Франца Якоба; я слышала, как собаки проламываются сквозь подлесок, и видела перед собой залитую солнцем полянку, где порой гуляла с Дженной.
– Они там, Франц. Идем, – позвала я его.
Я слышала, как он было приостановился, а потом шорох травы и треск веточек, когда последовал за мной. Но, только когда он вышел на полянку и на его лицо упал солнечный свет, я поняла – что-то не так. Франц Якоб всегда отличался бледностью, но теперь с лица у него схлынули все краски, на лбу выступили капельки пота. Хотя было тепло и солнечно, он ежился и его била дрожь.
– Уходим. Уходим. – Он потянул меня за рукав. – Уходим отсюда!
– Франц, в чем дело?
– Призрак! – Из-за плеча он глядел на деревья и кустарник. – Призрак. Ich spure sie. Sie sind hier. Est ist übel hier. Скорее бежим отсюда!
Страхи быстро дают о себе знать. Я не понимала поток немецких слов, но догадалась об их смысле по выражению глаз Франца Якоба. Секундой позже я тоже оказалась перепугана: знакомое приятное местечко вдруг исполнилось зловещих теней. Франц Якоб схватил меня за руку, и мы оба кинулись бежать, все быстрее и быстрее, оскальзываясь на мху и перепрыгивая через корни. Мы не останавливались, пока не вылетели из леса и не добрались до лужайки перед домом.
– Что-то произошло, – сказал Франц Якоб. Он стоял, вглядываясь в травянистые прогалины между деревьями, среди которых мелькали только что выскочившие из подлеска две гончие.
– В том лесу? – Я замялась. – Ничего. Кажется, там был когда-то несчастный случай. Но ужасно давно. Никто его и не вспоминает.
– Там что-то есть. – Франца Якоба продолжало колотить. – Я чувствовал. Ich konnte es riechen.
– Что? Что? Не понимаю. Что ты говоришь?
Собаки уже были рядом с нами. Франц Якоб нагнулся к ним. Они, должно быть, затравили кролика или зайца, потому что, когда он выпрямился, я увидела их окровавленные морды и кровь на руках Франца Якоба.
– Я говорю, что ощущаю эти запахи. – Он посмотрел на меня своими широко раскрытыми глазами. – Я их чувствую.
Он развел руки, и я тупо уставилась на него.
– Кровь? Ты хочешь сказать, что чувствуешь запах крови?
– Нет. Нет. Ты глупая маленькая английская девочка, и ты ничего не понимаешь. – Он отвернулся от меня. – Ich konnte den Krieg riechen.
На этот раз я поняла. Я поняла, что он считает меня глупой англичанкой, и на глаза у меня навернулись слезы. Я была обижена и, поскольку мне нанесли обиду, вышла из себя. Я топнула ногой.
– Я-то поняла. Еще как! И вовсе не я глупая, а ты. Ты себе все навоображал. Ты не можешь чувствовать, как пахнет война. Откуда ты в лесу мог почувствовать ее запах?
Я выкрикнула свой вопрос и еще раз с вызовом произнесла его. Франц Якоб повернулся ко мне спиной. Он двинулся уходить, и, даже когда я побежала за ним и, схватив за рукав, в третий раз задала вопрос, Франц Якоб ничего не ответил.
* * *
Этим вечером у нас собрались гости. Вечеринка оказалась импровизированной, организованной тетей Мод, которая жаловалась, что весь день сидит одна. Тетя Мод по-своему тоже видела призраки, но в ее глазах они представали видениями былой славы Винтеркомба, печальными воспоминаниями о приемах, которые здесь давались.
– Всегда было полно людей, – грустно сказала она за обедом, окидывая взглядом длинный стол. – И посмотрите, в кого мы превратились. Жмемся друг к другу, как четыре горошины в стручке. Всего четверо, а я помню, когда за этим столом рассаживались человек сорок. Были танцы, играли в бридж, мужчины – в бильярд, звучала музыка, и лилось шампанское! За спиной у каждого гостя стояло по официанту!.. А что сейчас? У нас остался только Вильям, ботинки которого скрипят на каждом шагу. Фредди, ты должен поговорить с ним.
Вильям, который стоял в трех футах от тети Мод, когда она произносила эти слова, продолжал смотреть прямо перед собой, поскольку он хорошо относился к тете Мод, привык к ее манере высказываться, да и вообще, как вымуштрованный дворецкий, предпочитал быть глухим и немым.
Дядя Фредди побагровел и, чтобы избавиться от неловкости, взял вторую порцию пудинга с почками. Возможно, именно дядя Фредди предложил после обеда потанцевать. Тетя Мод заметно оживилась и проявила недюжинную энергию. Нет, объявила она, гостиная, где придется скатывать ковер, для танцев не годится; только в бальном зале, и больше нигде. Насколько мне было известно, зал для танцев никогда не использовался. Он располагался в дальнем конце здания, в пристройке, возведенной дедушкой, и представлял собой огромное, как пещера, помещение, выкрашенное светлой бронзовой краской.
Дядя Фредди и Франц Якоб занялись делом. С помощью стремянки, доставленной Вильямом, они ввинтили лампочки, принесли граммофон моей матери. Когда загорелись канделябры, зал ожил. Мы с Францем Якобом заглянули в помещение для оркестра. Оно находилось ниже уровня пола, как в театре, и ограждавшие его перильца были украшены блестящими херувимами.
– До чего прекрасный вечер! – Тетя Мод, вероятно, вспомнила такой же или другие вечера из отдаленного прошлого. Она открыла створки высоких окон и распахнула их. В зал хлынул свежий теплый воздух, и, привлеченные светом, закружились несколько мотыльков.
– Когда в последний раз использовался этот зал, Фредди? – спросила тетя Мод, и со своего насеста в оркестре я увидела, что дядя Фредди помедлил с ответом.
– Я не очень помню… – начал он, и тетя Мод бросила на него презрительный взгляд.
– Ты прекрасно помнишь, Фредди, как и я, бал Констанцы. Ее первый выход в свет. На ней было ужасно вульгарное платье. Фредди, заведи граммофон.
В собрании пластинок моей матери дяде Фредди удалось обнаружить две приличные пластинки с танцевальной музыкой, на обеих были записи венских вальсов.
Под звуки «Голубого Дуная» на середину зала вышли тетя Мод и дядя Фредди; тетя Мод держалась прямо, с королевской надменностью, а у дяди Фредди тут же сбилось дыхание.
Затем настал черед тети Мод и Франца Якоба. Как и все, что он делал, танцевал Франц Якоб торжественно и серьезно. Подойдя к моей тете, он склонил голову в поклоне, а потом приобнял ее за талию. Тетя Мод была высокой, а Франц Якоб не отличался большим ростом для своего возраста. Макушка его была на уровне затянутого в корсет бюста тети Мод. Франц Якоб вежливо отвел голову, и они начали кружиться по залу. Мой друг надел свой лучший костюм коричневого цвета, штаны, застегивавшиеся на пуговички под коленками. На ногах у него были, как обычно, прочные, хорошо вычищенные ботинки, которые подходили скорее для прогулок по сельским дорогам, а не для танцев. Они представляли собой странную пару – тетя Мод, полная эдвардианской чопорности, и подтянутый, юркий, как марионетка, Франц Якоб. Мы с дядей Фредди наблюдали за ними, после чего я вытащила дядю Фредди, который признался, что предпочел бы чарльстон, а вальс вообще не его стихия. Затем настала очередь мне танцевать с Францем Якобом.
Тетя Мод, расположившись на маленьком золоченом стульчике, стала давать мне указания: «Откидывайся, Викки, от талии! Изящнее! Господи, до чего неуклюжи сегодняшние дети!» Дядя Фредди возился с граммофоном, а мы с Францем Якобом продолжали кружить по залу.
У меня было лишь смутное представление, как следует двигаться, но Франц Якоб уверенно вел меня, и, когда музыка стала сходить на нет, я уже практически не спотыкалась. Мелодия была нежная и спокойная, и мы столь же легко и непринужденно танцевали. У меня слегка кружилась голова, и я мечтала о другом мире: о сиреневых вечерах и фиолетовых рассветах, о задумчивых городах и молодых девушках с белоснежными плечами в длинных белых перчатках, об аромате экзотических духов, о далеких звуках романсов. Мечты о Вене в английском доме.
Граммофон снова завел мелодию, и, лишь когда мы с Францем Якобом стали снова танцевать, я посмотрела на него. Я увидела, какое у него напряженное выражение, словно он думал лишь о последовательности движений, чтобы избежать других, более неприятных, мыслей. Я вспомнила, как он вел себя днем, его выражение, когда он из-за спины вглядывался в лес, и подумала, что он, может быть, продолжает видеть свои призраки, потому что у него были все такие же грустные глаза.
– Ты очень хорошо танцуешь, Франц Якоб. Ты знаешь все па.
– Моя сестра Ханна научила меня, – ответил он и остановился. – Es ist genug!.. Больше не будем. – Он отпустил меня и сделал шаг назад. В эту секунду я поняла, что он к чему-то прислушивается. Затем сквозь смолкающие звуки вальса я тоже услышала эти звуки, приглушенные длиной коридоров, но все же различимые: в другой части дома звонил телефон.
Я не уверена, развивались ли последующие события медленно или стремительно: похоже, что было и так и этак. Вильям в сопровождении дяди Фредди покинул зал, тетя Мод сразу же стала болтать и резко прервалась, когда он вернулся. Тетя Мод и дядя Фредди уединились, и в зале воцарилась оглушающая тишина.
Мы все перебрались в гостиную, где тетя Мод и дядя Фредди устроились около камина; они были смущены, как два заговорщика. Я думаю, они хотели поговорить со мной с глазу на глаз, но не могли набраться духу предложить Францу Якобу покинуть дом.
Мы продолжали находиться в таком положении, когда дядя Фредди наконец сообщил мне, что произошел несчастный случай, а тетя Мод добавила, что пока еще ничего не ясно, но я должна быть храброй девочкой. Их слова доходили до меня как бы издалека. До сегодняшнего дня я не могу припомнить, что же они мне говорили. Но я отлично вижу Франца Якоба: он стоял, слушая, рядом со мной и не отрывал взгляда от шнуровки своих ботинок. Когда дядя Фредди и тетя Мод замолчали, Франц Якоб отошел.
Подойдя к окну, он откинул старую портьеру и выглянул наружу.
В небе стояла полная луна, она серебрила петушка, который венчал конек на конюшне; лес стоял сплетением теней, озеро отливало блеском металла, в котором мешались свет и тени. Франц Якоб смотрел на Винтеркомб… после чего позволил портьере упасть.
– Es geht los, – пробормотал он, затем, заметив, что я услышала его и ничего не поняла, он перевел: – Начинается, – сказал он. – Снова все начинается, и я знал, что все так и будет. Я услышал это еще днем.
* * *
Через неделю мне сообщили, что мои отец и мать погибли. Наконец я поняла все эти разговоры об аварии, о больнице. Теперь я знаю, что дядю Фредди сразу же уведомили, что их нет в живых, во время первого же телефонного разговора, но было решено, что мне будет не так тяжело, если истина дойдет до меня постепенно. В конце концов, он выложил мне всю правду, потому что у него было доброе сердце и он не мог видеть, что я продолжаю питать надежды. Даже когда он мне все рассказал, продолжали оставаться сомнения, которые так и остались неразрешенными до сегодняшнего дня: никто не мог достоверно выяснить, как погибли мои родители, почему; и та информация, которую удалось получить дяде Фредди и тете Мод, оказалась достаточно противоречивой.
Винифред Хантер-Кут, что звонила в тот вечер, говорила что-то о волнениях, об уличном насилии и о грубости нацистов. Тетушка Мод, которой доводилось знать фон Риббентропа, немецкого министра иностранных дел, написала возмущенное письмо и в вежливых уклончивых выражениях была проинформирована в ответ, что произошел пограничный инцидент, ошибочное задержание, которое, естественно, будет расследовано властями рейха на самом высоком уровне.
Много лет спустя, уже после войны, я попыталась выяснить истину и потерпела неудачу. Произошел небольшой инцидент в месяцы, предшествовавшие военному вторжению; все отчеты были отправлены в Берлин, где и уничтожены. А в то время газеты только коротко сообщили об инциденте. Я знаю, что один из старых друзей отца внес запрос в палату общин, но в силу всеобщего напряжения, царившего в том месяце, на такие запросы старались не обращать внимания. С тех пор, как в британском морском флоте была объявлена всеобщая мобилизация, смерть моих родителей перестала быть новостью. А когда Чемберлен вернулся из Мюнхена с обещанием мира для нашего поколения, газеты полностью потеряли к ней интерес: нашлись более важные материалы для обсуждения.
Время умеет по-своему затягивать раны, и в течение последовавших недель происходило многое, чего я просто не помню: если сейчас я начинаю обращаться памятью к прошлому, то ярко вижу отдельные образы, ожерелье из стеклянных бус – и провалы в памяти, которые так и не могу заполнить. Тела моих родителей морем доставили в Англию, и погребение состоялось в Винтеркомбе. Маленькая церквушка была переполнена, и я, помню, была удивлена этим, ибо мои родители редко посещали ее и мне казалось, что у них не так много друзей. Явился и мой крестный отец Векстон, ибо он дружил с моей матерью так же, как и с дядей Стини; он стоял на кафедре и читал свои стихи о времени и переменах, которых я не понимала, но которые заставили Дженну, сидевшую рядом со мной, проронить слезу. Прибыли несколько друзей отца из полка, в котором он воевал в первую войну, и родители других друзей, рядом с которыми он находился в окопах и которые не вернулись с войны. Были представители из детского дома и из многочисленных благотворительных организаций, с которыми сотрудничала моя мать. Пришли ребятишки из сиротского приюта – с траурными повязками на рукавах их коричневых костюмчиков, и мой друг Франц Якоб, который сидел на скамейке рядом со мной.
Когда все было кончено, Винифред Хантер-Кут, которая очень громко пела псалмы, высокая и величественная, в черном костюме, прижала меня к своей могучей груди и одарила поцелуем, пощекотав кожу усиками на верхней губе. Затем она повела меня угощать сладким чаем и бутербродами с рыбным паштетом; она сказала, что моя мать была самым прекрасным человеком из всех, кого она только встречала. «Самым! – вскричала она, обводя взглядом помещение, словно предполагая, что кто-то может возразить ей. – Самым. Ее ничто не могло устрашить. У нее было львиное сердце! Я-то знаю!»
Этим вечером, когда все ушли, а тетя Мод, сказавшись больной, пораньше пошла в постель, я поднялась в классную комнату, нашла свой атлас и притащила его к дяде Фредди. Меня сверлила мысль, что решительно не понимаю, что произошло, но если я найду место, где все случилось, то мне все станет понятно.
Я все объяснила дяде Фредди и открыла атлас на развороте, где был изображен весь мир. Немалая часть его была залита красным цветом, изображавшим Британскую империю, где, как мне когда-то объяснил дядя Фредди, никогда не заходит солнце. Тут же располагалась Америка, где жила Констанца, была Европа, где так часто менялись границы и вскоре их ожидали очередные изменения.
– Где это случилось, дядя Фредди? – спросила я, и дядя Фредди с безнадежным смущением уставился на карту.
Думаю, он и сам этого не знал, но видел, насколько я серьезна, и по размышлении решительно ткнул указательным пальцем в Германию.
– Вот, – сказал он. – Примерно здесь, Виктория.
Я уставилась на точку, в которую он указывал, где-то слева от Берлина. И тут, к моему величайшему удивлению, потому что дядя Фредди был взрослым человеком, он закрыл лицо руками. Когда оно снова предстало передо мной и он высморкался, то с мольбой уставился на меня, словно он был ребенком, а я взрослой.
– Понимаешь… столько всплыло в памяти. Как мы жили здесь… еще детьми. Последняя война. Ты же знаешь, что твой отец воевал, а я нет, Виктория. Мог, но не сделал. Наверно, струсил.
– Я уверена, что вы не были трусом, дядя Фредди. Вы водили санитарную машину, вы…
– Нет, я был тогда трусом. И продолжаю оставаться им. – Он тяжело, с хрипом выдохнул и уставился на меня грустными карими глазами. – Ты же знаешь, как это ужасно. Просто ужасно! Я никак не могу прийти в себя. О Виктория, что же нам делать?
– Все будет в порядке. Мы справимся, мы же вместе. – Я говорила очень быстро, с интонацией своей матери, потому что боялась, что дядя Фредди может начать плакать. – Скоро приедет дядя Стини, – сказала я. – И тогда все пойдет на лад. Дядя Стини знает, что делать.
Похоже, это сообщение несколько приободрило дядю Фредди, потому что он просветлел.
– Это верно. Стини ничто не может вышибить из седла. Он поймет, как справиться… А теперь, думаю, вам пора в кроватку, юная леди.
Я хотела спросить его, почему ему так нужно найти возможность справиться, но дядя Фредди лишил меня этой возможности, послав наверх, и, когда Дженна уложила меня, он зашел в уже темную детскую. Он сообщил, что хочет почитать мне книжку, чтобы я скорее уснула.
Дядя Фредди читал весьма выразительно, но его выбор текста не очень устраивал меня, как и романы тети Мод. Той ночью, помнится мне, он читал историю, которая каким-то образом была сходна с тем, что происходило вокруг, ибо это была детективная история с убийством. Дядя Фредди, который получал удовольствие от описания таких кровавых событий, читал загробным голосом, вытаращив глаза.
Дядя Стини явился, как и сообщал в телеграмме, с опозданием на три дня, ибо не мог раньше получить место на судне, отходившем из Нью-Йорка. Он любил все организовывать, и чем сложнее была задача, тем лучше. Я видела, как в предвкушении подобных мероприятий у него заблестели глаза, когда я зашла к нему в комнату. Он дал мне шоколадный трюфель, который был слегка помят, и для успокоения сделал несколько глотков из своей серебряной фляжки.
– Итак, – сказал он. – Я хотел тебе сообщить, дорогая Викки, что все устраивается как нельзя лучше. Я все превосходно организовал. Хотя, надо сказать… – он легонько подтолкнул меня. – Во-первых, мне пришлось выдержать небольшое сражение. Всего лишь недоразумение. Будь хорошей девочкой и подожди наверху. Я должен переговорить с твоей тетей Мод.
Меня несколько обеспокоила его неуверенность. Ведь я же и так знала, что все налаживается в той мере, насколько это вообще могло быть. Я остаюсь в Винтеркомбе с Дженной и Вильямом; тетя Мод станет время от времени навещать нас, дядя Фредди будет проводить тут большую часть времени, а дядя Стини – баловать нас своими налетами. Что еще надо налаживать?
Какое-то время, как он и попросил, я оставалась наверху, затем выбралась на лестничную площадку, а после – поскольку перепалка, похоже, заняла много времени – спустилась вниз по лестнице. Дверь в гостиную была приоткрыта, и я ясно слышала убедительный голос дяди Стини.
– Только через мой труп! – разъяренным тоном объявила тетя Мод, но дядя Стини перебил ее:
– Мод, дорогая, возьмись же за ум! Надвигается война. И если ты веришь в миротворцев, то я нет, как и Фредди. Чего еще ты ждешь? Денег нет. Фредди не может присматривать за ней. Я уверен, что ты не заставишь и меня исполнять эту роль. Бедная маленькая малышка совершенно подавлена. Ей надо покинуть это место, все забыть.
– Никогда! Только не к этой женщине! Я не позволю, Стини! И никаких разговоров на эту тему больше не будет, понимаешь? Пусть даже ты вбил это в свою тупую башку, но больше ничего не будет. Таковой проблемы не существует, ты ее выдумал. Виктория отправится в Лондон и будет жить со мной.
– В тупую башку? – Дядя Стини вроде стал заводиться. – Я далеко не тупоголов. Да станет тебе известно: все тщательно продумано! Так уж вышло, что ты относишься к Констанце с предубеждением, но она – крестная мать ребенка…
– Крестная мать? Это было ошибкой! Как я и говорила в свое время.
– Как только до нее дошло известие, она сразу же предложила взять Викторию к себе. Немедленно. Сразу же. Без промедления…
– Ничего подобного сделать ей не удастся, и можешь сообщить ей, Стини, что я буду ей весьма благодарна, если она ни во что не будет вмешиваться. Виктория отправится в Лондон со мной!
– А когда начнется война? Что тогда? Ты останешься в Лондоне, не так ли? Должен сказать, что это не очень умное решение. Кроме того, ты не в лучшем состоянии, ты уже далеко не молода.
– У меня нет старческого слабоумия, Стини, если у тебя хватит благородства это признать.
– Америка – сейчас самое подходящее место. Если разразится война, Виктория будет в безопасности. Ради Бога, Мод, мы же не говорим, что она там останется на вечные времена – только на время. Ребенку это пойдет на пользу. Она всегда хотела познакомиться с Констанцей. Ты же помнишь, как она вечно спрашивала о ней.
– Ты выпил, Стини?
– Нет. Не выпил.
– Да, ты пил. У тебя глаза розовые… Я всегда могу тебя уличить. Когда ты начинаешь выходить из себя, я сразу же вижу, что ты врешь. Говорить больше не о чем. Если ты забудешь свои идиотские планы, я забуду, что когда-то ты предлагал их.
– Забыть я не могу, – резко и сердито ответил дядя Стини. – И мне придется указать тебе, Мод, что опекунами являемся мы с Фредди, а не ты – то есть окончательное решение принимать нам.
– Пф-ф-ф! Фредди согласен со мной, не так ли, Фредди?
– Ну, – я услышала, как дядя Фредди тяжело вздохнул: ему никогда не нравилось выступать в роли арбитра. – Ясно, что в словах Мод есть определенный смысл. – Он помолчал. – С другой стороны, и Стини говорит с толком. Я хочу сказать, что, если разразится война, лучше находиться в Америке. Но по сути, я не думаю, что Констанца…
Вот так это и продолжалось: пререкания, примирения и снова споры.
Отходя ко сну, я не сомневалась, что тетя Мод одержит верх, потому что она, несмотря на возраст и некоторую рассеянность, обладала неоспоримой волей к победе, когда ей бросали вызов. Я долго и старательно молилась, чтобы победила тетя Мод и чтобы я отправилась жить с ней в Лондон. Если она потерпит поражение, я видела перед собой мрачное будущее. Я отправляюсь в Нью-Йорк жить со своей крестной Констанцей, как я недавно молилась дважды в день в течение стольких месяцев. Это стало возможным из-за гибели моих родителей, но не мои ли каждодневные молитвы привели к их смерти? «О, прошу тебя, Господи, – взмолилась я той ночью. – Я не хотела этого. Не поступай так со мной!»
Тем же вечером тете Мод пришлось отступить, но не из-за аргументов дяди Стини, а в силу сердечной слабости. За обедом она стала жаловаться, что ей колет в правую руку и бегают мурашки; она стала обвинять Стини, что он довел ее до такого состояния. И вечером, когда она улеглась в постель, ее настиг второй удар, более серьезный, чем первый, от которого ее парализовало с правой стороны. Теперь на долгие месяцы она потеряла способность читать и писать и возиться со мной. В конце концов она оправилась, но приходила в себя очень медленно, а тем временем дядя Стини убедил ее. Я думаю, что в глубине души дядя Фредди противился этой идее, но он никогда не осмеливался противоречить своему младшему брату. Я пыталась убедить обоих дядьев, что хотела бы остаться в Англии, но дядя Фредди явно боялся спорить с дядей Стини, а тот вообще отказывался меня слушать: он гнал во весь опор, закусив удила. И ничто из моих слов не могло заставить его сбросить темп.
– Чушь, Виктория, это наилучший выход. Куча девочек руками и ногами вцепились бы в такую возможность. Нью-Йорк – о, как тебе понравится в Нью-Йорке! И Констанца – ты и ее полюбишь, как и я. Она такая интересная, Викки. Она всюду ездит, она знает всех и вся, и ты будешь прекрасно проводить время с ней. Вот подожди, увидишь, как она будет возиться с тобой…
– Не думаю, что папа хотел бы меня отпускать. Или мама. Им бы это не понравилось – и вы сами знаете, дядя Стини.
– Ну, для этого были причины. – Стини отвел глаза и махнул рукой. – Забудь все, дорогая. Теперь ничего не имеет значения. Все в прошлом. – Он сделал очередной глоток и, как всегда, проказливо взглянул на меня. – Как бы там ни было, тут есть и доля неправды. Было время, когда твой папа очень любил Констанцу…
– Вы уверены, дядя Стини?
– Абсолютно. А она всегда любила его. Так что все в порядке, не так ли? – Он одарил меня белозубой улыбкой и, прежде чем я придумала, что ему возразить, сунул мне в рот еще один трюфель.
* * *
Я покинула Англию на борту «Иль-де-Франс» 18 ноября 1938 года, за месяц до своего восьмилетия.
Тетя Мод еще не оправилась настолько, чтобы проводить меня на пристань, так что я попрощалась с ней в Лондоне, в ее некогда знаменитой гостиной, выходившей окнами на Гайд-парк. До Саутхэмптона я добралась с Дженной – она должна была отправиться в путешествие со мной, – с двумя дядьями и – по моей просьбе – вместе со своим другом Францем Якобом.
Все надавали мне подарков в дорогу: дядя Фредди вручил кучу детективных историй, дядя Стини – орхидею, у которой был какой-то хищный вид, Франц Якоб подарил мне коробку шоколада. Он сунул мне ее в последний момент, уже около трапа. Большинство провожающих сошли на набережную; мои дяди стояли на ней; летели первые охапки конфетти и рвались ленточки.
– Вот, – Франц Якоб вытащил из кармана квадратную коробку. В ней было, как я потом увидела, восемь восхитительных шоколадок ручной работы – по одной за каждый год моей жизни. Они были украшены изображениями аметистовых фиалок и зеленых, как изумруды, дудников. Они были аккуратно, словно драгоценности, уложены в коробке. Венский шоколад; должно быть, его специально передали, думаю, от его семьи. Франц Якоб преподнес мне его с коротким сдержанным поклоном, и длинные волосы опять упали ему на лоб.
Я была тронута его заботой, но попыталась не очень бурно выразить свои чувства, чтобы не смутить его. Прижимая к себе коробку, я поблагодарила его и замялась.
– Мне будет не хватать тебя, Франц Якоб, – решилась наконец я.
– Ты не потеряешь меня. Расстояние не мешает чувствовать сердце друга.
Думаю, он заранее подготовил эту маленькую речь, потому что слова звучали как-то заученно. Мы нерешительно посмотрели друг на друга, а затем, по английскому обычаю, обменялись рукопожатием.
– Я буду писать тебе каждую неделю, Франц Якоб. И ты пиши тоже, ладно? Ты дашь мне знать, если тебя пошлют в другое место?
– Конечно, я буду писать. – Он бросил на меня один из своих взглядов, полных нетерпения. Вытащив из кармана пару коричневых кожаных перчаток, он натянул их и аккуратно застегнул кнопочки у запястий. – Я буду писать каждую субботу. И в каждый конверт стану вкладывать математическую задачу. – Он даже позволил себе улыбнуться. – Я буду проверять твою успеваемость, ладно?
Думаю, он понял, что я готова заплакать, а слезы всегда заставляли его теряться. Взревел корабельный ревун, который испугал меня, стоящие рядом со мной кинули на берег ярко-розовую ленту. Я увидела, как она, взлетев, распустилась и упала. Когда я повернулась, Франц Якоб уже спускался по трапу, уходя из моей жизни. Я тогда этого не знала, к счастью, но Франц Якоб, которому я доверяла больше всего в жизни, не сдержал своего обещания. Он так ни разу и не написал мне.
Швартовы были отданы, буксирные концы натянулись, мы неторопливо двинулись к выходу из гавани. Мы с Дженной только стояли у борта, вглядываясь в туманную пелену дождя, на набережной продолжал играть оркестр, мои дядья махали нам, неподвижно стоял Франц Якоб: их фигурки становились все меньше и меньше, пока, как мы ни вглядывались, они не растворились вдали.
Вот что я запомнила в связи с прощанием: Франца Якоба и его обещание, которого он не сдержал. Я забыла все: путешествие, и никогда не вспоминала его, океанский лайнер и пейзажи Атлантики, открывавшиеся с его палуб, – все это ушло; порой я пыталась представить себе город, который ждет меня, далекий край. Я тогда в первый раз увидела Манхэттен – незнакомую, но поразительно красивую землю. Над водой клубился туман, зимнее солнце освещало вавилонское столпотворение небоскребов.
Констанца стояла на пристани. В снах мне часто виделось, что Констанца встречает меня. Так она встретила меня на самом деле. Она подбежала и заключила меня в объятия. Ткань ее одежды была мягка. Я ощущала ее духи, которые были нежными, как зелень свежего папоротника, отдающего лесной сыростью. На руках у нее были перчатки. Она коснулась ими моего лица. Руки у нее оказались тонкими и маленькими, почти как у меня. Замша перчаток была мягкой, словно вторая кожа.
Констанца любила всего касаться. Она гладила мои волосы. Потом улыбнулась, увидев мою шляпку. Она взяла мое лицо в рамку своих рук. Она внимательно изучала меня, черточку за черточкой. Бледная кожа, веснушки, растерянные заплывшие глаза, но почему-то это зрелище обрадовало ее, потому что она улыбнулась, словно бы узнала меня – хотя это было невозможно. Я, не отрывая глаз, смотрела на свою крестную мать. Она была блистательна.
– Виктория, – сказала она, держа в ладонях мои руки. – Виктория, это ты. Добро пожаловать домой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































