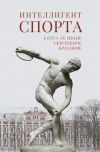Текст книги "И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата"

Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Notes
1 The present essay is adapted from a work in progress (a “creative biography” of Pushkin) by the author and Sergei Davydov (Middlebury College).
2 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 17 т. М., 1937–1959. Т. 6. С. 165 (further references to this edition will appear directly in the text accompanied by volume and page numbers); Pushkin A. Eugene Onegin / Trans, by J.E. Falen. Oxford, 1995. P. 185.
3 Грот К.Я. Пушкинский лицей. СПб., 1998. С. 412.
4 Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 43–44.
5 Cited in: Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск, 1998. С. 43/
6 Вересаев В. Пушкин в жизни / 6-е изд. М., 1936. Т.1. С. 89.
7 Пущин И.И. Указ. соч. С. 46–47.
8 Nabokov V. Nikolai Gogol. Norfolk, 1944. P. 29.
9 Recall Pushkin’s famous definition of inspiration (vdokhnovenie), which he often shows in practice in poems like “Poet” (1827): “Inspiration? It is the disposition/orientation of the soul to the most vivid reception of impressions, and consequently, to the rapid grasp of ideas, which aids in the explanation of the former” (XI, 41).
10 «Юный Пушкин-поэт – это младенец, который сразу встал и пошел; так становится на крыло выброшенный из гнезда сильный птенец. Он, может быть, и не „учился" вовсе – просто ему показали, „как надо делать", и он сразу начал так делать» (Непомнящий B.C. Лирика Пушкина как духовная биография. М., 2001. С. 20).
11 «В Лицее ему не стоит видимого труда „перевоплотиться" в Батюшкова (ср., например,„Городок", 1815, и батюшковские „Мои пенаты"), вздыхать в манере Жуковского („Мечтатель", 1815), греметь подобно Державину („Восп. в Ц-С“, 1814)» (Там же. С. 23).
12 Грот К.Я. Указ. соч. С. 333.
13 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 246, 735.
14 Там же. С. 735.
15 Там же. С. 170–171.
Наталия Мазур, нИкита Охотин
«Зачем кусать нам груди кормилицы нашей?..»
Комментарий к одной пушкинской фразе
Несмотря на едва ли не хрестоматийную известность, пушкинское выражение из письма К.Ф. Рылееву от 25 января 1825 года «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?» (XIII, 1351) до сих пор не получило необходимого комментария. Единственная попытка выяснить его происхождение принадлежит В.В. Виноградову, назвавшему этот оборот дантовским2. Однако ученый не дал точной ссылки на Данте, процитировав итальянский источник по «Письму из Рима к издателю „Литературной газеты“» С.П. Шевырева (1830):
Твои ПИТОМЦЫ
Oggi le рорре
Mordono ingrati della lor nudrice!
ныне, неблагодарные, кусают перси своей кормилицы3.
Указание Виноградова не нашло подтверждения: А.О. Демин, суммируя переклички между Пушкиным и Данте, сообщил, что в «Божественной комедии» этих стихов не обнаружил4. Справедливости ради заметим, что хотя в поэме таких стихов действительно нет, однако в тридцатой песни «Рая» есть похожий образ: «La cieca cupidigia che v’am-malia / Simili fatti v’ha al fantolino / Che muor per fame e caccia via la balia»5, который, впрочем, гораздо дальше отстоит от пушкинской фразы, чем ошибочно приписанная Данте цитата из шевыревской статьи.
Шевырев писал о выставке французской живописи в Риме и о восторженном отклике на нее в Journal de Commerce, где французская художественная школа ставилась много выше итальянской. Интересующие нас строчки он заимствовал из полемической статьи местного журналиста, напоминавшего об историческом первенстве итальянского искусства. Русский путешественник не знал или не счел нужным сообщить, что понравившиеся ему стихи входят в поэму Ипполита Пиндемонте «I Viaggi» («Путешествия», 1793) и обращены к тем итальянцам, которые восхищаются всем иностранным и бранят родину, не желая видеть, что все лучшее в чужих краях принадлежит их отечеству:
… Ordini, е leggi ammira,
Scuole ammira, e accademie, e tutto nuovo
Gli sembra, e spesso la sua Italia accusa,
Che di ciô, ch’egli loda, ha in sè gran parte,
E quelli ammaestrô, chi ogge le poppe
Mordono ingrati della lor nutrice6.
У Пиндемонте выражение «кусать груди кормилицы» употребляется в том же значении, что и у Пушкина, пенявшего издателям «Полярной звезды» за «строгий приговор о Жуковском»: ‘неблагодарность учеников к учителям. Соблазн возвести пушкинский оборот к Пиндемонте тем более велик, что Пушкин, несомненно, знал поэму «I Viaggi» – именно из нее выписаны пять строк для эпиграфа к «Кавказскому пленнику» («Oh felice chi mai non pose 11 piede…» [IV, 353,475]; в окончательную редакцию эпиграф не вошел). Однако Пушкин самих «Путешествий», скорее всего, не читал, а для выписки воспользовался цитатой из поэмы, приведенной (с переводом) в книге Ж.-Ш.-Л. де Сисмонди «О литературе Южной Европы»7, по которой он в начале 1820-х годов составил общее представление об итальянской словесности и, в частности, о Пиндемонте и Данте8. Между тем интересующие нас строки у Сисмонди не приводятся, а значит, вероятность того, что в 1825 году они были известны Пушкину, крайне невелика. Скорее всего, сходство формулировок у итальянского и русского поэтов следует объяснять наличием какого-то общего источника.
Ребенок, причиняющий боль своей кормилице, бьющий или кусающий ее, проявляя жестокость и/или неблагодарность, – образ, распространенный довольно широко. Мы встречаем его прежде всего в жизнеописаниях персон, отличавшихся во взрослом состоянии аномальным поведением (злодейством, вероломством, неблагодарностью и т. п.): терзал грудь кормилицы легендарный Роберт Дьявол9; укусы будущего короля Англии Вильгельма III Оранского, по словам пристрастного Лабрюйера, довели его кормилицу до смерти10; не по-младенчески зубаст был будущий Людовик XIV11; бил кормилицу неистовый гонитель Бурбонов – граф де Мирабо12.
В фигуральном смысле этот образ нередко употреблялся в пессимистических описаниях человеческой природы:
Vilaines gens que nous sommes! comme nous sommes nés méchans et cruels! L’enfant qui est au monde depuis quelques semaines, bat sa nourrice! [Низок род человеческий! Мы рождаемся на свет злыми и жестокими: младенец нескольких недель от роду бьет свою кормилицу]13.
L’histoire de l’univers est celle des crimes et des désastres du genre humain <… > L’homme est presque toujours un enfant qui bat sa nourrice, ou un furieux qui calomnie son bienfaiteur [Мировая история состоит из преступлений и падений рода человеческого. <… > Человек почти всегда подобен ребенку, который бьет свою кормилицу, или безумцу, который клевещет на своего благодетеля]14.
Применялся этот образ и для иллюстрации «падения нравов» в том или ином сообществе. Так, в шекспировской «Мере за меру» герцог сетует, что
.. Now, as fond fathers,
Having bound up the threat’ning twigs of birch,
Only to stick it in their children’s sight
For terror, not to use, in time the rod
Becomes more mock’d than fear’d; so our decrees,
Dead to infliction, to themselves are dead,
And liberty plucks justice by the nose;
The baby beats the nurse15, and quite athwart
Goes all decorum16.
Как признак нарушения правильного порядка вещей это сравнение часто использовалось в политической публицистике:
Qu’est-ce qu’une guerre civile? C’est l’enfant qui bat sa nourrice [Что такое гражданская война? Это ребенок, который бьет свою кормилицу]17.
LABOUREUR. Le gouvernement qui l’opprime, ou l’insolent qui le méprise, ressemblent à l’enfant qui bat sa nourrice [ТРУЖЕНИК. Правительство, которое его угнетает, или наглец, который его презирает, подобны ребенку, который бьет свою кормилицу]18.
И. А. Крылов ввел подобный мотив в сатиру на злонравие дворян: герой ее Звениголов
еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения, и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице. «В этом ребенке будет путь, – сказал некогда, восхищаясь, его отец, – он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать: можно отгадать, что он благородной крови». И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с какою благородною осанкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного дня, чтобы маленький наш герой кого-нибудь не оцарапал19.
Применительно к литературным нравам образ ребенка, причиняющего боль кормилице, был едва ли не впервые использован в «Характерах» Лабрюйера, где об авторской неблагодарности говорится:
On se nourrit des anciens et des habiles modernes, on les presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on est auteur, et que l’on croit marcher tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite, semblable à ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice [Мы питаемся тем, что нам дают писатели древности и лучшие из новых, выжимаем и вытягиваем из них все, что можем, насыщая этими соками наши собственные произведения; потом, выпустив их в свет и решив, что теперь-то мы уже научились ходить без чужой помощи, мы восстаем против наших учителей и дурно обходимся с ними, уподобляясь младенцам, которые бьют своих кормилиц, окрепнув и набравшись сил на их отличном молоке]20.
Возможно, на эту максиму Лабрюйера опирался Вольтер в своем знаменитом памфлете «Речь к Велхам» («Discours aux Welches»), напечатанном в 1764 году под псевдонимом Антуана Ваде. Интересующий нас образ появляется в первом же абзаце этой речи:
О Welches, mes compatriotes! si vous êtes supérieurs aux anciens Grecs et aux anciens Romains, ne mordez jamais le sein de vos nourrices, n’insultez jamais à vos maîtres, soyez modestes dans vos triomphes; voyez qui vous êtes et d’où vous venez [О Велхи, мои соотечественники! Если вы и превосходите древних греков и древних римлян, никогда не кусайте грудь кормилиц ваших, не оскорбляйте ваших учителей, будьте скромны в ваших триумфах, помните, кто вы и кем вы были]21.
В «Речи к Велхам» Вольтер ядовито высмеивал национальное тщеславие своих компатриотов22, напоминая им о том, в какой дикости пребывали их предки-велхи во времена римского завоевания, в какой нищете и невежестве и по сей день живет большая часть этой нации, как невелик вклад французов в движение прогресса и наук. Основной мишенью для убийственной иронии Вольтера была гордость французов их языком и словесностью: «фернейский злой крикун» напоминал соотечественникам о том, что их язык обязан своим распространением эмигрантам-гугено-ам, а дарования новых авторов редко достигают величия древних. Упиваясь собственным величием и пренебрегая классическим наследием, французы вот-вот впадут в варварство и снова станут велхами.
«Речь к Велхам», вызвавшая бурную реакцию во Франции23, имела и общеевропейский резонанс. Судя по всему, именно к ней апеллировал Пиндемонте, когда сравнивал итальянских любителей всего иностранного с младенцем, кусающим грудь кормилицы: забывая об античных корнях европейской цивилизации, их потомки, прямые наследники Рима, уподобляются северным варварам-велхам.
Помнили памфлет и в России24. В кругу старших современников Пушкина с самодовольными невеждами-велхами сравнивали энтузиастов национальной самобытности – деятелей «Беседы в обществе любителей русского слова», после организации которой К.Н. Батюшков писал Н.И. Гнедичу (апрель 1818 года):
Я читал объявление о Беседе в газетах, читал ее регламент и теперь еще болен от этого чтения. Боже, что за люди! Какое время! О Велхи! О Варяги-Славяне! О скоты! Ни писать, ни мыслить не умеют! А ты еще хвалишься петербургским рвением к словесности! Мода, любезный друг, минутный вкус! И тем хуже, что принимаются так горячо. Тем скорее исчезнет жар, поверь мне: мы еще все такие невежды, такие варвары!25
Примерно в это же время Д.В. Дашков, опираясь на Вольтера, придумывает пародийную параллель к излюбленному термину А.С. Шишкова «славенороссийский <язык>» – «латиновельхофранцузский»26.
Актуальность вольтеровского памфлета для писателей «арзамасского» круга дает дополнительные основания считать, что источником пушкинской формулы была именно «Речь к Велхам». Более того, можно предположить, что Пушкин, повторяя и дополняя вольтеровскую остроту, не только воспользовался ее моралистическим потенциалом, но и вложил в нее скрытые смыслы, апеллирующие к вольтеровскому подтексту27.
Напомним контекст остроты в письме Рылееву:
Бест.<ужев> пишет мне много об Онегине – скажи ему, что он не прав: ужели хочет он изгнать всё легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии? следственно должно будет уничтожить и Orlando furioso, и Гудибраса, и Pucelle, и Вер-Вера, и Ренике-фукс, и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc. etc… Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии, но довольно об Онегине. Согласен с Бестужевым во мнении о критической [его] статье Плетнева – но не совсем соглашаюсь [в] с строгим приговором о Жук<овском>. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Ж<уковский> имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнит, за что венчает? (XIII, 134–135)28.
Хотя бестужевское письмо до нас не дошло, можно с уверенностью предположить, что рассуждения критика развивались в рамках дидактической парадигмы, согласно которой главной целью литературы является моральное и гражданское совершенствование читателей. Вероятнее всего, Пушкин слегка утрировал аргументы своего оппонента: едва ли Бестужев действительно собирался изгнать из поэзии шутливые предметы, однако в своих статьях и письмах он выстраивал такую иерархию поэтических творений, которая основывалась на возвышенности и важности избранного предмета29, и тем самым принижал «всё легкое и веселое». В самом письме Пушкин лишь намеком выразил иронию, которую вызывали у него подобные эстетические принципы, спрятав острие насмешки в подтекст: изображение Бестужева в образе строгого судии, который вершит литературные приговоры, изгоняя, казня и венчая30, подозрительно напоминает вольтеровское описание новой литературной тенденции, распространение которой и заставило его взяться за перо:
Vous êtes menacés d’un autre fléau. J’apprends qu’il s’élève parmi vous une secte de gens durs qui se disent solides, d’esprits sombres qui prétendent au jugement parce qu’ils sont dépourvus d’imagination, d’hommes lettrés ennemis des lettres, qui veulent proscrire la belle antiquité et la fable. Gardez-vous bien de les croire, ô Français! vous redeviendriez Welches [Угрожает вам иное бедствие. Я узнал, что возвышается между вами секта людей суровых, называющих себя основательными; мрачные умы, которые претендуют на право выносить приговоры потому только, что у них нет воображения; литераторы, враждебные литературе, которые хотят изгнать из нее прекрасную античность и выдумку. Берегитесь, французы! Если вы поверите им, то снова станете велхами]31.
Полную волю иронии Пушкин дал в письме к брату Льву (14 марта 1825 года), где, по-видимому, обыгран этот же фрагмент «Речи к Велхам»:
У вас ересь. Говорят, что в стихах – стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос Один сижу во компании и тому под. (XIII, 152)32.
Пушкин прибегнул здесь к тому же аргументу ad absurdum, что и в письме Рылееву. Издатели «Полярной звезды» не считали, что в стихах главное – проза, хотя и утверждали, что сила поэзии не в формальной ее стороне33, а в содержательной, – позиция, которую они последовательно защищали и в переписке с Пушкиным, и в печатных выступлениях. Более того, в своей первой программной статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» Бестужев не обинуясь поставил прозу выше поэзии:
… бросим взор на степь русской прозы. Назвав Жуковского и Батюшкова, которые писали столь же мало, сколь прелестно, невольно останавливаешься, дивясь безлюдью сей стороны, – что доказывает младенчество просвещения. Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума <…>. От сего-то у нас такое множество стихотворцев (не говорю – поэтов) и почти вовсе нет прозаиков, и как первых можно укорить бледностию мыслей, так последних погрешностями противу языка34.
Наряду с антипоэтическим выступлением молодого прозаика, которое не могло не позабавить Пушкина наивным самохвальством (а может быть, и напомнить ему блистательную защиту превосходства поэзии над прозой в «Речи к Велхам»35), обратим внимание на метафору ‘младенчества/детства’, которую Бестужев применил для характеристики русской литературы. Антропоморфная метафорика нередко употребляется в описаниях стадиального развития, однако Бестужев использовал мотив младенчества особенно настойчиво, превращая его в один из тех развернутых и причудливых образов, которые впоследствии назовут «марлинизмами». Во «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года» с младенцем сравнивался язык русской литературы:
…русский язык, подобно германскому в XVIII веке, возвышается ныне, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Теперь ученики пишут таким слогом, которого самые гении сперва редко добывали, и, теряя в численности творений, мы выигрываем в чистоте слога. Один недостаток – у нас мало творческих мыслей. Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то, но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец Алкид, который в колыбели еще удушал змей! И вечно ли спать ему?36
Проснуться и выйти из младенчества русскому языку, по мнению критика, мешали «страсть к галлицизмам» и «совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам». Одновременно образ младенца Геракла подразумевал идею исключительности русского языка, которому для полного развития недостает только оригинальных и высоких мыслей.
Пушкинская шутка про неблагодарных младенцев встраивается в этот же метафорический ряд, но благодаря вольтеровскому подтексту любимый образ критика превращается в «троянского коня». Вольтер тоже уподоблял своих соотечественников детям и дикарям37, но логика его уничижительного сравнения была обратна бестужевской: младенцами, кусающими грудь кормилицы, и велхами французов сделала излишняя гордость своей культурой и пренебрежение к чужим, то есть именно те черты национального менталитета, в которых Бестужев усматривал для России пути к «взрослению».
Мы не можем с уверенностью полагать, что критик опознал источник пушкинской остроты и понял все ее импликации38. Показательно, однако, что в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года», продолжающей эпистолярную полемику зимы 1825 года, Бестужев не только вернулся к любимому сравнению, но и развил его в ключе, противоположном Пушкину и Вольтеру. Со свойственной ему аффектацией он утверждал уже не младенчество, но полное отсутствие литературы в России, объясняя его тем,
… что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народною гордостию, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унизить даже и то, что есть. К довершению несчастия мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной ни с нравом русского народа, ни с духом русского языка <…> а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он (русский ум. – Н.М., Н.О.) кинулся в кумовство и пересуды! <…> Мы, как дети, которые испытывают первую свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что внутри39.
Заканчивая свой комментарий, конспективно отметим еще одну характерную особенность разбираемой полемики. Переписка Пушкина с издателями «Полярной звезды» поразительно богата оборотами и образами, которые можно счесть дискурсивными приметами Великой французской революции. Это и рылеевское республиканское «ты», легко опознанное и принятое Пушкиным, и бестужевское сравнение русского языка с Алкидом, которое не могло не вызвать ассоциаций с метафорой народ-Геракл, весьма популярной в символическом языке революции40. В тот же ряд встраиваются инвективы Бестужева против «иноземного воспитания» и «безнародности»: в годы Террора недостаток патриотизма был одним из самых распространенных и тяжелых обвинений, которое вело прямым путем на гильотину. У Пушкина это «республика словесности», которая «казнит и венчает»: социокультурный идеал эпохи Просвещения благодаря историческому намеку – казнь Людовика XVI, венчание Бонапарта – приобретает политические обертоны (напомним также, что в феврале-марте 1825 года Пушкин начинает работать над «Андреем Шенье», где выстраивает оппозицию казнимого поэта и венчанного злодея – Робеспьера41). Средства, предлагаемые Пушкиным для борьбы с литературной ересью («истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос Один сижу во компании и тому под.» [XIII, 152]), подозрительно напоминают антиякобинский арсенал термидорианской jeunesse dorée: хлысты, палки, песни и шиканье в театре. Наконец, и вольтеровские велхи, кусающие грудь кормилиц, обретают в этом контексте дополнительные коннотации: термины варварство, вандализм и каннибализм регулярно использовались в монархическом и термидорианском дискурсе для описания Террора42.
Стоит ли за этими отсылками разность идеологических позиций, подсвеченных отблеском 14 декабря, или же перед нами не более чем литературная jeu de paume, перебрасывание знаковыми словечками, мы предоставим разгадывать адресату нашей статьи – непревзойденному мастеру политических намеков и значимых умолчаний.