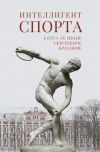Текст книги "И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата"

Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
4
Некоторые выводы
Итак, ряд данных – документальных, мемуарных, исторических – позволяет заключить: письмо Бутурлина Перовскому о Пушкине-ревизоре не существовало и не могло существовать в природе.
Рассказанная Соллогубом и анонимным мемуаристом история о получении и чтении письма оренбургским военным губернатором в присутствии Пушкина – это, несомненно, деформированная история реального бутурлинского письма (пришедшего в Оренбург через месяц после отъезда Пушкина) – об учреждении над Пушкиным секретного надзора. В историях и с реальным, и с фиктивным письмом действуют одни и те же персонажи, действие развертывается на фоне одних и тех же декораций, обсуждается один и тот же герой. Смысловой сдвиг в изложении произошел на уровне сюжета, но этот сдвиг изменил реальную картину до неузнаваемости.
Как же могла произойти подобная деформация?
По всей вероятности, после кончины Николая Павловича (вряд ли раньше) в общество проникли какие-то сведения о настоящем письме Бутурлина, восходящие, видимо, к Далю. Зная, в какой туманно-обтекаемой форме сообщал Даль о бутурлинском письме даже Бартеневу, мы можем предположить, что исходившие от него сведения имели самый общий характер и были лишены каких-либо подробностей. В лучшем случае могло стать известно, что в каком-то «секретном письме» нижегородского военного губернатора высказывались подозрения насчет того, не преследовало ли путешествие Пушкина, помимо исторических разысканий, каких-то иных целей.
Эта скудная информация легла на благодатную почву.
В 1855 стало широко известно признание Гоголя о том, что «мысль Ревизора» принадлежит Пушкину33. Читательский интерес был подогрет: возникло естественное желание узнать, в чем же именно состояла эта «мысль».
Какие-то слухи о пушкинском происхождении сюжета «Ревизора» циркулировали давно. Видимо, к ним отсылает пояснение в мемуарах анонима, опубликованных Бартеневым: «Тогда Пушкину пришла идея написать Комедию: „Ревизор“. Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде». К сообщению о пушкинских литературных планах и относится, вероятнее всего, помета мемуариста (ввергнувшая в соблазн последующих интерпретаторов): «Слышано от самого Пушкина». Сведения о пушкинских намерениях и планах (документально подтвержденных, повторим, лишь в XX веке), действительно, могли восходить только к Пушкину. Но реальная составляющая этих слухов не помнилась уже практически никем, что и неудивительно. Для поколения Пушкина П.П. Свиньин – неотъемлемая часть литературного ландшафта, носитель амплуа выдающегося враля, предмет постоянного вышучивания34. Для поколения, вступившего в свет в середине 30-х годов (а именно к нему принадлежали Соллогуб и, с большой долей вероятности, анонимный мемуарист) фигура Свиньина утратила актуальность: примечательно, что в мемуарном корпусе Соллогуба, где мелькают сотни имен, Свиньин не упомянут ни разу. Стоит напомнить также, что Бодянский после разговора с Гоголем о происхождении сюжета «Ревизора» наводил о Свиньине и его приключениях специальные справки; сообщение Гоголя его заинтриговало, но само по себе, видимо, мало что объяснило35. В памяти же мемуаристов, не склонных, в отличие от ученого Бодянского, к специальным разысканиям, история со Свиньиным совершенно не запечатлелась: имя его ничего им не говорило.
Напротив, слухи о «секретном письме» подсказывали напрашивающийся ответ на вопрос о роли Пушкина в создании «Ревизора»: ведь письмо – одна из пружин действия гоголевской комедии!.. Соответственно, слухи о бутурлинском письме начинают обрастать деталями, явно навеянными «Ревизором»: в рассказе о его содержании и об обстоятельствах его получения оказывается свернута почти вся комедия Гоголя – завязка («хозяин города» предупреждается конфиденциальным письмом о приезде инспектора из Петербурга), развитие действия (партикулярное лицо ошибочно идентифицируется как ревизор) и развязка (письмо читается в присутствии лица, о котором в письме говорится).
История насыщается историческими подробностями, создающими атмосферу достоверности. Но достоверность их иллюзорна: это не драгоценные свидетельства очевидца, а реалии (заимствованные из «предания» и даже печатных источников), специально подобранные так, чтобы увеличить правдоподобие анекдотического сюжета. Сюжет новеллы они действительно мотивируют, а вот с биографией Пушкина вступают в противоречие. К примеру, утверждение, что Пушкин прибыл в Оренбург прямо из Нижнего Новгорода, дает мотивировку опозданию письма Бутурлина. Но рассказчик анекдота не знает, что Пушкин в пути делал длительные остановки, а этот факт лишает мотив опоздания должной убедительности. Чтение письма происходит в доме Перовского, что соответствует доступной к тому времени информации, но опровергается документальными данными, которые станут доступны позднее, и т. п.
Наконец, «письмо Бутурлина» окрашивается – разумеется, независимо от намерений мемуаристов – элементами гоголевского стиля. В версии анонима письмо почти повторяет словесные обороты Андрея Ивановича Чмыхова: «Ему дано тайное поручение собирать сведения
о неисправностях. Вы знаете мое к Вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтобы вы осторожнее, и пр.». Ср. у Гоголя: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию… советую тебе взять предосторожность». Тон «письма Бутурлина» разве что одним регистром стилистически выше тона корреспондента городничего – и все же выше не настолько, чтобы за «и пр.» не ожидать сентенцию, подобную чмыховской: «Так как, я знаю, что за вами, как за всяким, водятся грешки, потому что вы человек умной и не любите пропускать того, что плывет в руки…»
Так несуществующее письмо обрело в мемуарных рассказах и «содержание», и «исторический контекст», и выразительную стилистическую фактурность. Фантомный литературный конструкт превратился в основной сюжетный источник гоголевской комедии, в воплощение той самой «мысли Ревизора», которую Пушкин якобы подарил Гоголю.
Это письмо, которого Бутурлин никогда не писал, Перовский не читал, а Пушкин не слышал, должно быть исключено из пушкинской биографии и из творческой истории комедии Гоголя «Ревизор».
Примечания
1 Осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849–1852 гг. II Русская старина. 1889. № 10. Октябрь. С. 133–134.
2 Морозов П. О. Первая мысль «Ревизора» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Вып. 16. С. 110–114.
3 Русский архив. 1865. № 5. Стлб. 744. Ср.: Соллогуб В. А. Воспоминания. М., 1998. С. 228.
4 Панов В. Еще о прототипе Хлестакова // Север. 1970. № и. С. 125.
5 Русский архив. 1865. № 5. Стлб. 744–745.
6 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., Л., 1937–1959. T.XV. С. 78. Далее ссылки на это издание даются в скобках.
7 Данилевский Г.П. Украинская старина: Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1866. С. 214.
8 Этот мемуар Данилевского вообще сомнителен и, похоже, сплошь компилятивен. Кажется, он толком не слышал разговора о «Ревизоре», а опирался в основном на Бодянского, причем нещадно его перевирая. В позднейших воспоминаниях Данилевского («Знакомство с Гоголем», 1886), рассказывающих, в частности, о том самом дне, 31 октября 1851 года, об обсуждении сюжета «Ревизора» вообще нет ни слова. См.: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 440–444.
9 См., в частности, раздел о Бутурлине в сетевом проекте «Нижегородские градоначальники» (http://www.admgor.nnov.ru/ references/mayor/buturlin.htm). То же – на официальном сайте городской администрации Нижнего Новгорода (http://www.admgor.nnov.ru/references/ Governor/Governor_n.html).
10 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2003. Т. 4. С. 638.
11 Комментатор «Ревизора» Ю.В. Манн предположил даже, что «это свидетельство и послужило основой рассказа как Соллогуба, так и Данилевского» (Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 635). По отношению к Данилевскому (опиравшемуся, впрочем, и на Соллогуба) это заключение безусловно верно. Но считать рассказ анонима «основой» мемуаров Соллогуба нет оснований. Естественнее предположить, что тексты восходят к общему источнику.
12 Абрамович С. Пушкин в 1833 году. М., 1994. С. 388. Заметим, что заключительную фразу в опубликованном отрывке Абрамович приписывает Бартеневу, т. е. рассматривает ее как издательский комментарий к мемуару. Это, видимо, не так.
13 Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта: Воспоминания современников. М., 1992. С. 340.
14 Впервые: Русская старина. 1883. Т. 37. № 1. С. 78. Цит. по: Абрамович С. Указ. соч. С.389.
15 Там же. С. 440.
16 Славянский Ю.Л. Поездка А.С. Пушкина в Поволжье и на Урал. Казань, 1980. С. 77.
17 Мы, впрочем, не можем с совершенной уверенностью утверждать, кому именно принадлежит композиция записи рассказа – Далю или Бартеневу. Соответственно, невозможно сказать, сам ли Даль нарушил в упоминании о бутурлинском письме хронологический порядок изложения, или это сделал его слушатель.
18 Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. / Сост. М.А. Цявловский (1799 – сент. 1826), Н.А. Тархова (сент. 1826–1837); Отв. ред. Я.Л. Левкович. М., 1999. Т. 4. С. 101–104.
19 Абрамович С. Указ. соч. С. 407.
20 См. переписку Пушкина с начальником канцелярии III Отделения А.Н. Мордвиновым (XV, 69–71).
21 См.: Северная пчела. 1833. 5 июня. № 123.
22 Большаков Л.Н. «Все он изведал…»: Тарас Шевченко: поиски и находки. С. [5]. (http://kraeved.opck.org/biblioteka/lichno-sti/vse_on_izvedal/vse_on_izvedal.pdf).
23 В 1847 году Т.Г. Шевченко был доставлен фельдъегерем из Петербурга в Оренбург менее чем за девять суток, с 1 по 9 июня. См.: Оренбургская Шевченковская энциклопедия. Ч. II: Из биохроники – 1847 (http:// www. о renburg. ru/culture/en cyclop/ tomi/index-part2.html).
24 См.: Славянский Ю.Л. Указ. соч. С. 26–52.
25 Можно, правда, заметить, что и сохранившееся официальное письмо Бутурлина о Пушкине шло из Нижнего Новгорода в Оренбург как будто тоже очень долго: отношение Бутурлина помечено 9 октября – набросок ответа Перовского датирован 23 октября. Однако официальная переписка проходила через стандартные бюрократические процедуры – письмо переписывалось, регистрировалось, передавалось по инстанциям и отправлялось по назначению обычной почтой. Дата на отношении не соответствовала дате реальной отправки письма. В свою очередь, дата на ответном письме Перовского не означает даты получения письма Бутурлина: просто оренбургский генерал-губернатор отдавал распоряжение канцелярии в канун почтового дня (об этом см. ниже).
26 Соколов Д.Н. Пушкин в Оренбурге // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1916. Вып. 23/24. С. 84.
27 Там же. С. 83.
28 Анненков П.В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. (Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и с его рисунков, и проч. Т. 1). СПб., 1855. С. 372.
29 Даль В.И. Воспоминания о Пушкине // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / 3-е изд., доп. СПб., 1998. Т. 2. С. 258.
30 Соколов Д.Н. Указ. соч. С. 73.
31 «Воспоминания о Пушкине» В.И. Даля: Авторизованная писарская копия / Вступительная заметка, публикация и комментарии Ю.П. Фесенко // Пушкин и его современники: Сборник научных трудов. СПб., 1999. Вып. 1 (40). С. 12; выделено мною. Ю.П. Фесенко предполагает, что купюру Майков сделал осознанно: «Возможно, Л.Н. Майков хотел избежать резкого расхождения с отличающимся утверждением Перовского» (с. 8). Однако противоречия между письмом Перовского и воспоминаниями Даля, конечно, нет: «останавливался» – не означает «жил постоянно» (а у кого еще останавливался Пушкин, уведомлять полицейские инстанции было не к чему). Скорее всего, пропавшее слово – следствие обычной типографской небрежности.
32 Бартенев П.И. О Пушкине… С. 340; выделено мною.
33 Сначала фрагмент «Авторской исповеди», непосредственно касающийся Пушкина, был опубликован по рукописи Анненковым в его «Материалах…» (цензурное разрешение – 22 октября 1854 года). Через несколько месяцев «Авторская исповедь» была напечатана уже целиком, в составе «Сочинений Н.В. Гоголя, найденных после его смерти» (цензурное разрешение – 26 июля 1855 года)
34 Об основаниях для такой репутации см.: Проскурин О. Первые «Отечественные за писки», или О лжи и патриотизме // Отечественные записки. 2001. № 1 (http://www.strana-oz.ru/?numid= i&article=H7).
35 См.: Выдержки из дневника О.М. Бодянского // Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 118.
Екатерина Лямина
…Сел…глядел»: кто он?
Траектория попадания строки из «исторического памятника» – письма Александра I к Н.М. Карамзину от 10 ноября 1824 года – в поэму «Медный всадник», намеченная в одной классической работе [Вацуро: 168], была затем уточнена в другой [Осповат: 127–128]. Для лежащего в близкой плоскости вопроса об апроприации упомянутого фрагмента художественным текстом было бы небесполезно очертить как ситуативную рамку, так и многослойную речевую и эмоциональную атмосферу, где обращалась реплика государя, им самим и зафиксированная.
В ряду свидетельств о катастрофе 7 ноября и реакциях Александра I на происходившее выделяется репортаж, который почти в режиме on line велся из городской резиденции императора. Он дает представление о душевном состоянии тех, кто, пребывая «посреди ужаснейшего бедствия» вне опасности, тем живее ощущал, сколь незавидна участь других.
[Н]е знаю даже, уйдет ли завтра мое письмо, поскольку мы в Зимнем дворце точно на корабле. В считаные часы Нева разлилась поверх всех преград; трудно заподозрить, что есть набережная, парапет; огромные волны разбиваются о стены дворца <…>. Отрезанными, лишенными всякой связи с миром мы останемся до завтрашнего дня. Зрелище сие страшит гибельностью, в нем воплощенной; хуже пожара, ведь тут ничем не поможешь, —
писала императрица Елизавета Алексеевна в половине третьего пополудни, на пике наводнения1.
Вряд ли мы ошибемся, предположив, что большую часть этого дня – во всяком случае, те семь с небольшим часов светлого времени, в которые уложилась катастрофа2, – Александр I провел переходя из одной части Зимнего в другую. Внутридворцовые визиты и посещения, так называемые «tournées de famille» [Николай Михайлович: 321], как можно судить хотя бы по камер-фурьерским журналам, составляли рамку повседневного бытия царствующей фамилии, а на тот момент резиденция (нечастый случай) была разве что не переполнена родственниками государя.
За несколько дней до 7 ноября завершили летний сезон (в Гатчине и Царском Селе соответственно) вдовствующая императрица и великая княгиня Елена Павловна. Вместе с ними в город перебрались гости: герцогиня Саксен-Веймарская Мария Павловна с дочерьми, принцесса Оранская Анна Павловна, ее супруг, наследный принц Вильгельму их дети (см., например: [Карамзин 1866: 383], [Wassenaer: 53])3. С новостями и наблюдениями Александр должен был неоднократно заходить и к жене. После возвращения в столицу в конце октября она не покидала своих покоев по нездоровью, так что ей были доступны не все точки обзора4.
Наблюдение же volens nolens оказалось для хозяев Зимнего основным занятием. Детали постоянно меняющейся ситуации – как за окнами, так и внутри5 – были и полем проявления эмоций, и предметом оживленного и многократного обсуждения. Здесь явно должны были возникать и отшлифовываться формулировки, ряд которых был обречен на выход за пределы дворца, на более широкое бытование, и не только городское.
Елизавета Алексеевна, тонко распознававшая нюансы настроения и поведения государя, в цитированном письме упоминает лишь об одной его попытке что-то предпринять непосредственно во время катастрофы. Наблюдая за Невой, покрытой потерявшими управление судами, в том числе сенными барками с людьми, «император выслал большую шлюпку, которая всегда стоит на приколе перед дворцом: я умирала от страха, как бы он, движимый благородным порывом человеколюбия, не решил сам в нее взойти. Слава Богу, он этого не сделал, но, увидев его шлюпку, те, кто не отваживался рискнуть, тоже зашевелились»6. Об эмоциях Александра она в эти часы не сообщает, касаясь их только в следующем письме (от и ноября), после рассказа о его поездках в наиболее пострадавшие части города: «L’Empereur en est extrêmement affecté, comme de raison, et a passé tous ces jours ici, à remédier à tout ce à quoi on peut remédier. Mais la vie ne peut pas être rendu à ceux qui ont péri, et voilà ce qu’il y a de plus affligeant!» [Николай Михайлович: 318]7.
Через день, 13 ноября, в Зимнем дворце появился великий князь Николай, накануне возвратившийся из Берлина. События дня, на протяжении которого император беседовал с ним как минимум трижды, он (по обыкновению, перед сном) занес в свой журнал:
Levé à 8 <…> chez l’Ange, attendu, me reçois en chemise, causé, très affligé du désastre, détails horribles, 400 personnes péris, dégâts terribles, l’eau sur la place et dans les rues de deux archines et demi en tout 11 pieds au dessus du niveau ordinaire <… > repartit chez l’Ange, m’ordonne de revenir plus tard <…> repartit chez l’Ange, attendu, entré, causé assis, remis la lettre du Roi, affaire de Guill., etc. L’Ange comme toujours, repartit chez l’Imp<ératrice>, malade, tousse, fièvre, causé, Hélène, très ronde, repartit, chez ma Mère, l’Ange arrive <…> diné à deux avec l’Ange, beaucoup causé [Николай: 70–70 об.]8.
Свойственная дневникам великого князя лапидарность не скрадывает сложности обрисованной картины. Выделим несколько моментов. Во-первых, Александр, вполне естественно, сразу заговаривает о наводнении (во второй беседе рядом с этой темой появляются и другие, в частности пребывание великого князя в Пруссии и некоторые события при тамошнем дворе). Во-вторых, в законспектированном рассказе императора о катастрофе перед нами почти исключительно цифры и факты, ламентационный же слой проявлен скупо. В-третьих, Николаю бросается в глаза, что государь сильно расстроен и озабочен – ив этом же ключе, вероятно, можно интерпретировать две детали, выделяющиеся на фоне остального корпуса дневника: Александр принимает брата не в мундире, а камерно, в рубашке (хотя не исключено, что в связи с ранним часом) и проявляет несвойственную ему резкость («приказал… зайти позже»).
Параллельно с устным обсуждением событий шла письменная разработка формул их освещения. Утром 8 ноября император получил письмо, предложившее ему аспект и тон осмысления трагедии и наметившее конкретику дальнейших действий:
Я не мог спать всю ночь, зная ваше душевное расположение, а потому и уверен сам в себе, сколь много Ваше Величество страдаете теперь о вчерашнем несчастии. Но Бог, конечно, иногда посылает подобные несчастия и для того, чтобы избранные его могли еще более показать страдательное свое попечение к несчастным. Ваше Величество, конечно, употребите оное в настоящее действие. Для сего надобны деньги, и деньги неотлагательные, для подаяния помощи беднейшим, а не богатым [Шильдер: 324].
Далее автор письма (им был Аракчеев) предлагал пустить на эти цели капитал в один миллион рублей, скопившийся на счетах подведомственных ему военных поселений.
Ход был выверен и стилистически9, и прагматически. Свидетельством тому – ответное письмо, где облегчение сложным образом переплетено со скорбью:
Мы совершенно сошлись мыслями, любезный Алексей Андреевич! А твое письмо несказанно меня утешило, ибо нельзя мне не сокрушаться душевно о вчерашнем несчастии, особливо же о погибших и оплакивающих их родных. Завтра побывай у меня, дабы все устроить [Шильдер: 325].
В последующие дни эти ремарки, разветвляясь, складываются под пером Александра в текст отчетливо резиньяционного звучания. При этом его контуры обрисовываются как в получастной записке Карамзину от 10 ноября:
Вы знаете уже о печальных происшествиях 7-го ноября! Погибших много, нещастных и страдающих еще более! Мой долг быть на месте: всякое удаление причту себе в вину. Вам не трудно представить себе грусть мою. Воля Божия: нам остается преклонить главу пред Нею» [Карамзин 1866: 386]10,
так и в рескрипте князю А.Б. Куракину, председателю учрежденного и ноября Комитета о пособии разоренным наводнением в Санкт-Петербурге:
Бедствие, постигшее С.-Петербург в 7-й день сего ноября, внезапным и необыкновенным наводнением, исполнило сердце мое горестными чувствами11. Судьбы Всевышнего праведны и неисповедимы. В глубокой покорности воле Божией и скорбя о всех, потерпевших убытки и расстройство, правительство не может вознаградить все траты сего бедственного дня, но доставление скорой и существенной помощи наиболее разоренным и неимущим я вменяю себе в священный долг: они имеют ближайшее право на отеческое мое попечение [Шильдер: 481].
Эти (и другие, до нас не дошедшие) варианты высказываний Александра I о катастрофе несколько недель, так сказать, висели в атмосфере петербургских салонов, во многом определяя ее интонационное и эмоциональное наполнение. Обсуждались они, надо думать, и в доме Лавалей, чьи интенсивные интеллектуальные и дружеские контакты с Карамзиным, установившиеся после его переезда в Петербург, хорошо известны; см.: [Карамзин 1866: 383,393, 412], [Вайнштейн, Павлова: 167–168], [Сперанская: 96–97]. И хозяева салона, и его посетители наверняка обладали собственными сведениями о реакциях императора как очевидца бедствия. И все же их патентованным транслятором и комментатором в этом кругу будет справедливо считать Карамзина, который беседовал с государем на интересующую нас тему, в частности 23 ноября: «Благодетельный Царь наш думает только об утешении нещастных, разоренных наводнением, и не хотел даже говорить мне о своей ноге: я встретился с ним в комнатах у Императрицы» [Карамзин 1866:384].
Ужасы потопа в комментариях такого рода трактовались как очередное звено в цепи испытаний, которые выпали Александру I в тот год: рожистое воспаление на ноге, чудом не кончившееся фатально (зима-весна); смерть дочери (июнь); неясной этиологии нездоровье императрицы («общая простуда», «докучливый кашель», упадок сил), обострившееся в октябре и особенно тревожное на фоне оставленных наводнением, в том числе во дворце, сырости и холода12. Помимо прочего, эта болезнь в мрачном свете рисовала перспективы сближения, наконец наметившегося между супругами [Карамзин 1866:385–386].
Салонные толки, как зеркало, отражали изменения, которые претерпевал публичный образ императора. С одной стороны, граница между его частной жизнью и государственным бытием все больше размывалась, а сам облик – все больше интимизировался (восприятие «личных печалей» царя [Шильдер: 311; письмо к Аракчееву от 14 июня 1824 года] и петербургской трагедии в одном ряду весьма характерно). С другой – шла прижизненная эмблематизация фигуры Александра в пиетистски-романтических формулах, ему самому прекрасно известных и привычных.
В качестве одного из свидетельств этого сложного процесса приведем выдержку из частного письма австрийского посланника Людвига Лебцельтерна к канцлеру Меттерниху от 3/15 декабря. Сообщив адресату новости о самочувствии Елизаветы Алексеевны, в целом малоутешительные, он далее касается поведения императора в обстоятельствах, которые не сулили просвета и в будущем:
Prions le Ciel avec ferveur, Mon Prince, pour qu’il ne mette point les hautes vertus et la pieuse résignation de l’Empereur à de nouvelles épreuves. Il n’en a deja subi que de trop cruelles dans le courant de cette année, et 11 y a opposé la force d’âme et d’admirable constance que peuvent uniquement inspirer la pureté de conscience et une religieuse soumission aux décrets inscrutables de Providence [Лебцельтерн: 174–175]13.
Лебцельтерн, зять Лавалей и частый гость их салона, сам был очевидцем наводнения14. Здесь, однако, он размышляет уже не о катастрофе как таковой. Его суждение практически неотличимо от пассажа из массовой душеполезной литературы. Втянутая сюда реплика, которой Александр в свое время отозвался на трагедию, утратила не только характеристики прямой речи, эмоциональную окраску и привязку к конкретному событию. Перед нами всецело и образцово христианское, т. е. по определению связанное только с личным бытием, восприятие ударов судьбы.
Окончательную полировку – как в переносном, так и в прямом смысле – этот облик великого в своем человеческом смирении царя получил в годы, предшествовавшие открытию на Дворцовой площади Александровской колонны. Академик Б.И. Орловский, который при жизни императора создал несколько его скульптурных изображений, уже в сентябре 1830 года начал работу над фигурой ангела для вершины монумента. Прежде чем были удовлетворены все пожелания Николая I, императорской фамилии и специальной комиссии, скульптор выполнил четырнадцать моделей различной величины. Итоговый вариант переосмысляет расхожее (тиражировавшееся в том числе и в надгробных композициях) романтическое клише. Огромный (высота фигуры 6,4 м) бронзовый ангел на стоящей неколебимо15 триумфальной колонне, символизирующей Россию, все же изображен со скорбно опущенной (угол наклона – не менее 40°) головой. Наделенный портретным сходством с покойным государем, он прочитывается как художественная проекция «позднего» Александра – а наводнение 1824 года уже приобрело статус одного из ключевых и символических эпизодов второй половины его царствования. Можно предположить, что развернутый лицом к Неве «вечный сияющий» ангел [Жуковский: 65] оказывался едва ли не ультимативной визуальной параллелью к вполне достоверному исторически образу императора, печально и беспомощно взиравшего на разъяренную реку из дворца.
Не исключено, что автор «Медного всадника» слышал какие-то рассказы о ноябрьском бедствии и тогдашних толках вокруг него – в ряду прочих устных свидетельств – также и от старших Лавалей и/или их дочери Зинаиды (в замужестве Лебцельтерн), которая приезжала в Россию летом 1832 года и в середине августа виделась с поэтом на вечере у Д.Ф. Фикельмон [Тархова: 468]. Прямых свидетельств об этом, впрочем, нет. Знакомство Пушкина с рескриптом Куракину16 более вероятно, хотя и не может быть доказано безоговорочно. С другой стороны, в июле того же 1832 года, когда работа над скульптурой для будущей колонны шла полным ходом, он принимал у себя в доме Орловского и двух других академиков: им было поручено освидетельствовать бронзовую статую Екатерины II, перевезенную в столицу из калужского имения Гончаровых, и сформулировать заключение относительно ее художественных достоинств [Пушкин 1935: 503–504]– Разговор мог коснуться и других монументов, в частности того, что создавался по высочайшему заказу и, скорее всего, был в этом качестве предметом общественного интереса.
Важнее другое: мимо внимания Пушкина едва ли прошло застывание образа Александра I в стилистически унифицированных формах. Скептическое отношение к ним, видимо, имеет смысл включать в ряд параметров, задавших обрисовку императора в поэме. Во всяком случае, такому допущению не противоречит ни восстановленная в «резюмирующем суждении» [Осповат: 127] царя живая интонация17, ни его подчеркнутая растерянность («печален, смутен»), ни резкий субъектный и предикатный сдвиг в строках 206–207 по сравнению с зафиксированными вариантами этой ремарки (фраза «царям не совладеть» предполагает хотя бы умозрительную попытку борьбы со стихией в качестве лица, наделенного властью, – покорность воле Божией борьбу исключает a priori).
Отметим также, что в черновиках поэмы лишь однажды возникло сравнение дворца с кораблем («ковчег» [Пушкин 1978:43]), предпочтение же почти сразу было отдано варианту «остров»18. Между тем в риторических и изобразительных клише второй половины 1810-х– 1830-х годов всесильный, а ныне беспомощный властелин, в глубокой задумчивости сидящий на мрачном острове, отрезанном от мира, – это низложенный Наполеон19; говорить же о парности этой фигуры к фигуре Александра I в историко-политической фразеологии эпохи было бы излишне. На фоне возведения колонны в честь побед покойного императора такое имплицитное сопоставление20 отдавало горькой иронией. Склонный к рефлексии государь через одолевающие его думы21 оказывался, в числе прочих героев поэмы, подключен к опорным для нее и проникнутым отнюдь не пиетизмом строкам 248–250:
…Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!