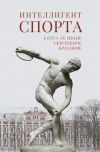Текст книги "И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата"

Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Примечания
1 РО РНБ. Архив Академии художеств. Д. 46.
2 Первый историк Академии художеств П.Н. Петров ссылался на биографическую легенду, согласно которой Дмитревский позировал для образа Рогнеды: «Дмитревский, наряженный Рогнедою и убранный руками самой Императрицы, гордился даже страстностью выражения лица своего, служившего прямою моделью художнику» [Петров: 151]. Некоторые основания для такой легенды, вероятно, существовали. Однако советские историки живописи опирались на свидетельство А. Оленина о том, что Дмитревский позировал для образа Владимира, и пытались доказать это, ссылаясь на якобы имеющее место портретное сходство. Между тем очевидно, что никакого портретного сходства с Дмитревским ни у Владимира, ни у Рогнеды нет: лица героев условны, «идеальны» и лишены какой бы то ни было портретности. Театральная экспрессия, как это и принято в классицистической живописи, заключена в позах и жестах. Не исключено, что Дмитревский представлял обоих персонажей.
3 Ср., например, «народную балладу» Федора Иванова «Рогнеда на могиле Ярополковой» (1808). Годом прежде Иванов переложил «русским складом» «Плач Минваны». Рогнеда оплакивает своего героя в том же шотландском пейзаже: «Вот те холмы величавые, / Прахи храбрых опочиют где; / Вот и камни те безмолвные, / Мхом седым вокруг поросшие. / Вижу сосны те печальные, / Что склоняют ветви мрачные / Над могилой друга милого…» [Поэты: 334].
Литература
Арцыбашев / Арцыбашев Н. Рогнеда, или Разорение Полоцка // Северный вестник. 1804.
Батюшков / Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977.
Белинский / Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953–1959.
Востоков / Востоков А.Х. Стихотворения. Л., 1935-
Жидков / Жидков Г.В. Русское искусство XVIII века. М., 1951.
Жуковский / Жуковский В.А. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1959–1960.
Измайлов / Измайлов В. Путешествие в полуденную Россию в 1799 году. М., 1805.
Загоскин / Загоскин М. Аскольдова могила. М., 1833.
Каганович / Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М., 1963.
Карамзин / Карамзин Н.М. О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств. Письмо к господину N.N. // Вестник Европы. 1802. Ч.6. С. 289–308.
Левин / Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе: Конец XVIII – первая треть XIX в. Л., 1980.
Ломоносов / Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: В и т. М.; Л., 1950–1983.
Молева, Белютин / Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств в XVIII веке. М., 1956.
Мордовченко / Мордовченко Н.И. Рылеев // История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1953. Т. 6.
Муравьев / Муравьев А. Рогнеда. Отрывок из лирической трагедии // Атеней. 1830. Ч. I. С. 259–267.
Петров / Петров П.Н. Антон Лосенко // Северное сияние. СПб., 1864.
Писарев / Писарев А. Предметы для художников, избранные из Российской истории, Славенского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе. СПб., 1807.
Погодин / Погодин М. Письмо о русских романах // Северная лира на 1827 год. М., 1984.
Попов / [Попов М.И.] Старинные диковинки // Библиотека русской фантастики: В 20 т. М., 1992. Т. 3.
Поэты / Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971.
Рогнеда / Рогнеда: Историческая повесть // Вестник Европы. 1820. № 6. С. 81–97.
Рылеев / Рылеев К.Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1971.
Тургенев / Тургенев А.И. Критические примечания, касающиеся до древней Славяно-Русской Истории // Северный вестник. 1804. Ч. 2. № 6. С. 267–293.
Херасков / Херасков М. Владимир // Творения М. Хераскова / Вновь исправленные и дополненные. М., 1797. Ч. II.
Эмин / Эмин Ф. Российская история жизни всех древних от начала государей… СПб., 1767.
Всеволод Багно
Проблема самоидентификации и донкихотовская «идея» в России XIX века
Огромная роль, которую сыграл в русской культуре XIX столетия образ Дон Кихота, объясняется тем местом, которое занимала в России этой поры проблема самоидентификации. Споры о судьбах России, столь волновавшие всю русскую интеллигенцию, концепции особого ее предназначения ассоциировались с донкихотовской «идеей», со знаменитым девизом дон кихотов всех времен и народов: «Я знаю, кто я».
Не случайно пик русского донкихотства падает на эпоху второй половины XIX века. Роман о Рыцаре печального образа в эти десятилетия сопутствовал нашему соотечественнику на протяжении всей его жизни. Именно в это время появилось множество адаптаций и переложений сервантесовского романа для детей. В 1879 году вышла переделка «Дон Кихота» для малышей, сокращенная до (sic!) четырех страниц1. Издание И.Д. Сытина для детей насчитывало десять страниц2. Все эти издания были щедро иллюстрированы.
Русское донкихотство XIX столетия, как феномен культуры, зародилось в предшествующую эпоху, когда произошла переоценка ценностей и, в частности, – реабилитация Рыцаря печального образа.
Тема донкихотства Павла I давно стала предметом пристального внимания историков. Еще современники соотносили с мироощущением, поступками, сумасбродством и пассеизмом Рыцаря печального образа попытки русского императора повернуть историю вспять, его декларируемую рыцарственность и крайность воззрений. Павла I с Дон Кихотом часто сравнивали в многочисленных эпиграммах. Русским Дон Кихотом называл Павла I Наполеон, которого русский император вызвал на дуэль в Гамбурге, с целью положить этим поединком предел опустошавшим Европу войнам3. Неудивительно поэтому, что союз Павла и Наполеона придворные Бонапарта, который и сам себя иной раз сравнивал с сервантесовским героем, называли «раздел мира между Дон-Кихотом и Цезарем»4. «Романтиками», «рыцарями», «донкихотами», способными понять друг друга, были Наполеон и Павел для Мережковского5. «Коронованным Дон Кихотом» императора называли историки6.
Свое донкихотство Павел декларировал задолго до восшествия на престол: он приказал развесить по стенам так называемой «малиновой гостиной» (переехавшей впоследствии в Гатчинский дворец) гобелены, изображающие сцены из «Дон Кихота», выполненные на Парижской мануфактуре и подаренные Павлу Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой7.
Донкихотство Павла I, «Дон Кихота на троне», представляет первостепенный интерес уже хотя бы потому, что примыкает одновременно к двум распространенным и никак между собой не связанным сюжетам: «золушки» и «калифа на час». Таким образом, на русской почве миф о Рыцаре печального образа нашел воплощение в истории о коронованной, рыцарственной золушке, истории с трагическим концом.
Известное высказывание Карамзина: «Назови меня Дон-Кихотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею так страстно, как я люблю – человечество!»8 – примечательно по разным причинам. Оно в высшей степени характерно для сознания мифотворящего, не склонного, да, впрочем, и не обязанного считаться с реальностью и фактами. Человечество в нем уподобляется Дульсинее. Позже народники подменили бы «человечество» «русским народом». Однако если строго следовать не только роману Сервантеса, но даже мифу о Дон Кихоте, то получалось, что современные паладины человечества и обожатели народа любят не само «человечество» или «русский народ» (Альдонсу), а свою мечту о них, свое о них представление (Дульсинею). Именно это неизбежное противоречие (отнюдь, естественно, не умаляющее значения подобной интерпретации) и выявил трезвомыслящий Белинский в донкихотовском обожании славянофилами своей Дульсинеи – допетровской Руси9. Психологическое обоснование тех же пассеистских увлечений славянофилов, их упований на допетровскую Русь как на зачарованную Дульсинею дал Писарев:
Славянофильство – не поветрие, идущее неизвестно откуда, это – психологическое явление, возникающее вследствие неудовлетворенных потребностей. Киреевскому хотелось жить разумною жизнью, хотелось наслаждаться всем, чего просит душа живого человека, хотелось любить, хотелось верить… В действительности не нашлось материалов; а между тем он полюбил ее, объидеализировал, раскрасил по-своему и сделался рыцарем печального образа, подобно несравненному Дон-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобосской. Славянофильство есть русское донкихотство; где стоят мельницы, там славянофилы видят вооруженных богатырей, отсюда происходят их вечно-фразистые, вечно-неясные бредни о народности, о русской цивилизации, о будущем влиянии России на умственную жизнь Европы10.
И.П. Смирнов как-то отметил, что в России новаторство часто было пассеистским, выступало в обличье консерватизма, было обращено в прошлое11. Это наблюдение многое объясняет в той удивительной славе, которая выпала на долю сервантесовского героя-пассеиста, той ни с чем не сравнимой роли, которую русское донкихотство сыграло в истории идей в России. Возвращаясь к Карамзину, можно сказать, что, уподобив зачарованную Дульсинею страждущему человечеству, Карамзин, по-видимому, впервые выразил то понимание донкихотства, столь свойственное русскому утопическому сознанию, которое стало символом веры русской интеллигенции.
Наконец, в связи с Карамзиным и его интерпретацией стоит упомянуть и еще одну закономерность в истории русского донкихотства, выявленную и отчасти прослеженную Ю.А. Айхенвальдом: в России описывали путь, пример и феномен Дон Кихота одни (Карамзин, Белинский, Тургенев, Достоевский, Мережковский, Сологуб, Луначарский), а жили «по Дон Кихоту» другие (Радищев, Чернышевский, Толстой, Вл. Соловьев, Волошин, Короленко, Сахаров). Насколько мне известно, Карамзина никто (кроме него самого) Дон Кихотом не называл. В то же время не случайно в пьесе Мережковского «Павел I» приведенная выше карамзинская фраза приписана Павлу.
«Политического Дон Кихота, заблуждающегося, конечно, но действующего с энергией удивительной и с рыцарскою совестливостью» увидел в Радищеве Пушкин12. В окончательном тексте статьи «Александр Радищев» Пушкин с удивительной прозорливостью заменил «Дон Кихота» на «фанатика», как бы предостерегая потомков от рыцарского обаяния подобных людей, совестливых и энергичных, а точнее, совестливых, но энергичных. Тем самым впервые в русской культуре возникает тема искушения донкихотством:
Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей, член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха – а какого успеха может он ожидать? – он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону13.
Тем более знаменательно, что за три месяца до декабристского восстания самого Пушкина Вяземский назовет Дон Кихотом «нового рода», который служит «чему-то, чего у нас нет»14.
Вполне естественно, что для русского донкихотства именно эпохи реакции оказывались наиболее плодотворными. При этом к дон кихотам причисляли как самодержцев, так и «политических» дон кихотов, выступающих против «оборотней», дон кихотов «коронованных». Более того, если в 1863 году Бакунин утверждал: «Император Николай был Дон-Кихотом системы, созданной Петром I и Екатериной II; он был наиболее трагическим ее выразителем. Он считал себя благодетелем и просветителем России»15, то ранее, в 1851-м, в «Исповеди», написанной в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и адресованной тому же Николаю I, Бакунин на протяжении всего текста с редким постоянством возвращается к мысли о собственном донкихотстве:
Искать своего счастья в чужом счастьи, своего собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в свободе других, – вот вся моя вера, стремление всей моей жизни. Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало. Во мне было всегда много донкихотства: не только политического: но и в частной жизни; я не мог равнодушно смотреть на несправедливость, не говоря уж о решительном утеснении; вмешивался часто без всякого призвания и права и не дав себе времени обдумать, в чужие дела…16
При этом вряд ли можно счесть случайным встречающееся в «Исповеди» почти дословное совпадение с пушкинской оценкой Радищева17, но также и удивительную близость некоторых тезисов с рассуждениями Герцена о «Дон Кихотах революции»18 и, наконец, с основными тезисами знаменитой речи Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», замысел которой возник у писателя еще в 1840-е годы, во время французской революции, той же революции, поражение которой столь остро переживал Герцен и в которой самое активное участие принимал Бакунин19.
В книге «В среде умеренности и аккуратности» (1877) М.Е. Салтыков-Щедрин взглянул сквозь призму донкихотства на российскую действительность и пришел к самым безрадостным, безысходным выводам. Писатель не оставляет нам иллюзий: если в мире «ликующего хищничества» где-то завалялись слова «совесть», любовь», «самоотверженность», то одним хохотом над тем, в чем этот мир увидит что-то «отрепанное, жалкое, полупомешанное», он, скорее всего, не ограничится: «Одним простым хохотом Дон-Кихота не проймешь, да он и не удовлетворяет и самого хохочущего. Является потребность проявить себя чем-нибудь деятельным, например: наплевать в лицо, повалить на землю, топтать ногами»20. Более того, гениально прозревая тоталитарное будущее России, Салтыков-Щедрин показывает, что развенчания донкихотов нынешнему и грядущему хаму недостаточно. Следующим на очереди непременно будет «сторонний человек», т. е. тот, кто ни во что не ввязывается и пытается отсидеться в углу:
Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра, вдруг очутится если не прямо в положении кознодействующего Дон-Кихота, то, во всяком случае, в положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, и бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины («смотрел кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал», не «накладывал») и в заключение скажут: «Ты даже опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот, по крайней мере, всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда…»21
Россия занимает центральное место в доктринах донкихотов христианства, как русских, так и западноевропейских мыслителей, выступивших в XIX – начале XX века в защиту христианских ценностей с филиппиками против секуляризации культуры, воинствующего атеизма и социалистических увлечений.
Если речь идет о реальных воплощениях донкихотства, то донкихотами христианства современники называли также таких русских религиозных мыслителей, как Леонтьев, Соловьев и Бердяев.
С точки зрения Розанова, Леонтьев в своем неистовом христианстве был «теоретиком и Дон-Кихотом „эгоистического Я“, а не был вовсе жизненным человеком со всей суммой реальных отношений»22.
Дон-Кихотом вполне был готов признать себя К.Н. Леонтьев. В статье 1880 года он рассуждает о донкихотах христианства в связи с важнейшей для русского и европейского самосознания темой судеб европейской цивилизации после Великой французской революции. Русский мыслитель не оспаривает хода истории, он лишь, как истинный донкихот, не соглашается с ним и считает его «роковым и медленным разрушением»23.
Самое непосредственное отношение к теме «Донкихоты христианства» имеет Достоевский. В сущности, именно донкихотом христианства был для своих оппонентов автор «Идиота» и «Братьев Карамазовых». Так, в фельетоне газеты «Голос», посвященном «Братьям Карамазовым», Достоевский уподобляется Жозефу де Местру, а его религия любви истолковывается как религия ненависти, поскольку «из-за слащавой физиономии смиренномудрого инквизитора высовываются красные языки пылающего костра»24.
Донкихотовская идея – возродить преданную забвению рыцарскую цивилизацию – оказалась чрезвычайно актуальной в России XIX столетия, когда русская интеллигенция формулировала «русскую идею» – представление об особом предназначении России, призванной спасти европейскую христианскую цивилизацию, поруганную Великой французской революцией, протянуть руку охваченному кризисом, утратившему духовные ориентиры Западу.
В тот период самоидентификации России, который опосредованно связан с Великой французской революцией и Наполеоновскими войнами, не последнее место занимает донкихотовский субстрат. Не будет преувеличением сказать, что «идея» Рыцаря печального образа – спасти гибнущее человечество, утратившее моральные ценности, опутанное меркантильными заботами, – претворилась на русской почве в одну из составляющих «русской идеи». Донкихотовский утопизм, донкихотовский нонконформизм, донкихотовское стремление повернуть историю вспять, мессианский элемент донкихотства оказались в XIX столетии востребованы именно в России, и эта востребованность донкихотства русской культурой не осталась не замеченной Западом.
Примечания
1 Рыцарь Дон Кихот. М., 1879.
2 История удивительного рыцаря Дон Кихота Ламанчского (по Сервантесу). М., 1895 (переиздано в 1900,1902,1904, 1909 годах).
3 См.: Цареубийство и марта 1801 года: Записки участников и современников. СПб., 1908. С. 58–59.
4 См.: Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1982. С. 209.
5 См.: Мережковский Д. С. Данте, Наполеон. М., 2000. С. 327.
6 Валишевский К. Сын Великой Екатерины Павел I: Его жизнь, царствование и смерть. СПб., 1914. С. 480, 486, 488.
7 См.: Витязева В.А. Каменный остров. Ар-хитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX века. Л., 1991. С. 52.
8 Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 42.
9 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 81.
10 Писарев Д.И. Сочинения: В 4 т. М., 1955. T. 1.С.337.
11 Смирнов И.П. Бытие и творчество. СПб., 1996. С. 135.
12 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 17 т. М., 1949. Т. 12. С. 353.
13 Там же. С. 32–33.
14 Там же. Т. 13. С. 222.
15 Материалы для биографии М. Бакунина. М.; Л., 1933. Т. 2. С. 623–624.
16 Бакунин М. Исповедь // Алексеевский равелин. Л., 1990. С. 305.
17 «Не говоря о великости преступления, Вам должно быть очень смешно, Государь, что я один, безымянный, бессильный, шел на брань против Вас, Великого Царя Великого Царства! Теперь я вижу ясно свое безумие, и сам бы смеялся, если бы мне было до смеху, и поневоле вспоминаю одну баснь Ивана Андреевича Крылова… Но тогда ничего не видел, а шел как угорелый на явную гибель» (Там же. С. 280).
18 Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1959. Т. 16. С. 149.
19 «Без связей, без средств, один с своими замыслами посреди чуждой толпы, я имел только одну сподвижницу: веру, и говорил себе, что вера переносит горы, разрушает преграды, побеждает непобедимое и творит невозможное; что одна вера есть уже половина успеха, половина победы: совокупленная с сильной волей, она рождает обстоятельства, рождает людей, собирает, соединяет, сливает массы в одну душу и силу; говорил себе, что, веруя сам в русскую революцию и заставив верить в нее других, европейцев, особливо славян, впоследствии же и русских, я сделаю революцию в России возможной, необходимой» (Бакунин М. Исповедь… С. 294).
20 Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1971. Т. 12. С. 250.
21 Там же. С. 251.
22 Розанов В.В. Уединенное. М., 1990. Т. 2.
С. 392-393-
23 Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем. СПб., 2006. Т. 7. Кн. 2. С. 54.
24 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1976. Т. 15. С. 488.
David M. Bethea
Ghostlier Demarcations, Keener Sounds
Personality and Verbal Play in Pushkin’s Lyceum Verse
Pushkin’s biographers have often pointed out that the Lyceum played a special role in the poet’s psychic development, as a place (and a time) where a troubled youth’s better angels could be appealed to and where lifelong friendships based on shared experience and bonds of trust could be cemented.1 From Annenkov to Lotman to Bin yon, these six years of structure and routine become the “family life” that the young Pushkin did not have at home with Sergei Lvovich and Nadezhda Osipovna: “Nam tselyi mir chuzhbina;/ Otechestvo nam Tsarskoe Selo.” But the Lyceum was crucial to Pushkin’s development in another respect: it was a place that lent itself almost magically to poetical musing. As we learn from the famous opening to chapter 8 of Eugene Onegin:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась; муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
[In days when I still bloomed serenely
Inside our Lycée garden wall
And read my Apuleius keenly,
But read no Cicero at all —
Those springtime days in secret valleys,
Where swans call and beauty dallies,
Near waters sparkling in the still,
The Muse first came to make me thrill.
My student cell turned incandescent;
And there the Muse spread out for me
A feast of youthful fancies free,
And sang of childhood effervescent,
The glory of our days of old,
The trembling dreams the heart can hold.]2
The valleys that are “secret, mysterious” (tainstvennye) because they first gave birth to private reverie; the lakes and the swans (swans being a Derzhavinian metaphor for poetry to Pushkin and his Lyceum mates); the Apuleius whose adventure stories and sexual license are much more the attractive forbidden fruit for these teenagers than stern Cicero; the notion of withdrawal into the gardens (“v sadakh”) and into the student cell (kel’ia) that somehow miraculously opens out into an illumination called the Muse – all this is integral to the “blooming” (“ia bezmiatezhno rastsvetal”) of the future poet. In the essay to follow I propose to first give a brief sketch of the young Pushkin against the background of his Lyceum experience and then to examine aspects of his earliest attempts at verse in an effort to catch glimpses of the mature poet in the boy wonder. My point is not to raise the status of the juvenilia, but rather to see the latter as the creative laboratory wherein, regardless of initial artistic success or failure, different genre-specific “voice zones” are crystallizing and a consistent uniting lichnosf is coming into view. Pushkin is not yet “Pushkin,” to be sure, but if we look carefully there are moments when he could be. At the same time, the sense of risk that accompanies the adolescent Pushkin’s many and varied challenges to authority provides a “haunted” quality to his play – there will be consequences for his verbal actions – that will be a hallmark of some of his greatest works.
Before getting started let us recall what the eleven-year-old boy Sasha Pushkin first saw when he and Uncle Vasilii L’vovich entered one of the three imposing wrought-iron gates leading to the Great or Catherine Palace at Tsarskoe Selo on 9 October 1811 (OS). However occluded by two centuries of myth-making, the basic facts speak for themselves: the impressionable boy would have seen an architectural and landscape ensemble dazzling not only by Russian, but indeed by European and world standards. The Catherine Palace, the emperor’s summer residence, was an immense three-story Baroque edifice extending more than a football field in length; when viewed from within, its seemingly endless enfilade of parqueted chambers created the impression of a veritable Versailles-like hall of mirrors without the reflecting glass. In the northeast corner of the building was an archway connecting the Lyceum, whose four floors had housed the grand duchesses prior to marriage in Catherine’s time but now were newly renovated for the school, to the palace. Other visual marvels in the immediate vicinity included, some 500 meters to the north, the Quarenghi-designed Alexander Palace, chastely classical where the Catherine Palace was voluptuously baroque, a gift to her favorite grandson and future tsar by Catherine the Great; the Cameron Gallery, a grand arcade constructed by the Scottish architect Charles Cameron that extended southeast from the western end of the Catherine Palace and was elegantly lined with ionic columns interspersed with the busts of the greats from ancient and modern history; the Chinese Pavilion that was part of an elaborate oriental complex; several royal bathhouses inspired by the luxury of Nero and set on a wedding cake of terraces flowing south from the Great Palace; charming combinations of grottos, marble bridges, greenhouses, chapels, theatres, and reception halls; and of course, no less stunning than the architectural landmarks and designed with them in mind, the vast parks, beautifully carved around swan-festooned lakes with miniature islands and dotted here and there with monuments to Russian military victories, that were in the Dutch style during the time of Elizabeth and in the English style during the time of Catherine II. In short, this aestheti-cized space was alive with history and myth. The parks’ meandering paths and viewing sites were the perfect hideouts for a budding versifier.
In the company of his peers young Sasha Pushkin did not immediately stand out for his poetic craft. Numerous Lyceans tried their hands at verse, and of these Aleksei Illichevskii was considered the most promising to start with. Pushkin had two nicknames: the first, and best known, was “Frenchman,” which he earned because of his excellent command of the language, but which another classmate, Modest Korf, suggests may have had a pejorative coloring given the context (the Napoleonic wars). The second was “Mixture of Monkey and Tiger” (pomes’ obez’iany s tigrom). This latter sobriquet is particularly telling, as it foregrounds both Pushkin’s external features (he calls himself vrai singe in the 1814 “Mon Portrait”) and his love of pranks, on the one hand, and his sharp claws and fierce fighting spirit, on the other. An 1812 character report made by his professors cites many of the traits that made up this strange breed of tiger monkey: his talents are more “brilliant” than “substantial,” his mind “ardent” and “subtle” rather than “profound”; his diligence is “mediocre”; he is “well read” in both French and Russian literature, but his knowledge is “superficial”; he displays “pride” together with “ambition,” which at times causes him to seem “withdrawn”; “heated bursts of irritability, flippancy, and a special kind of witty loquaciousness” are characteristic of him; at the same time his “good nature” is noticeable, as he recognizes his faults.3 In his dealings with others Pushkin often found himself in awkward situations from which to extricate himself required tact; unfortunately, despite his essentially good heart, it was tact that he didn’t have. Close friend Ivan Pushchin says it with the greatest clarity:
From the very beginning Pushkin was more short-tempered than most and therefore did not arouse general sympathy. This is an eccentric person’s lot among people. It wasn’t that he was acting out a role or trying to impress us with special oddities, as happens with some people. But at times it was through inappropriate jokes and awkward witticisms that he put himself in a difficult situation, from which he could then not escape. This would lead to new blunders, which never go unnoticed in schoolboy dealings… In him was a blend of excessive boldness and shyness, both appearing at the wrong times, which by that fact harmed him further. It would happen that we’d both get in a scrape; I’d manage to wiggle out of it, while he could never set it right. The main thing that was lacking in him is what is called tact, that capital which is necessary in relations with comrades, where it is difficult, almost impossible, when involved in totally informal interactions with others, to avoid some unpleasant confrontation brought on by daily life.4
And Baron Korf, as precise and unforgiving as Pushchin is generous, has this to say about Pushkin:
Easily enraged, with unbridled African passions (his heritage on his mother’s side), eternally preoccupied, eternally immersed in poetical daydreams, spoiled from childhood by the praise of flatterers that can be found in every circle, Pushkin neither as a schoolboy nor afterwards in society had anything appealing in his deportment… In him was no external or internal religion, no higher moral feelings. He even asserted a kind of bragger’s pride in the supreme cynicism he showed these subjects… and I do not doubt that for the sake of a caustic word he sometimes said even more and worse than he thought and felt.5
As harsh as Korf’s appraisal is, there is also much truth in it, and when placed next to Pushchin s it affords us a rather accurate picture of how the adolescent Pushkin must have seemed to both well-wishers and to those he may have antagonized.
As is evident from these character sketches, Pushkin was in need of yet a third nickname: “Sem’ raz otmer’, potom otrezh’” (translation: “Measure Seven Times Then Cut,” or “Look Before You Leap”). How many times in later life he got himself in hot water by saying or doing something on impulse; the examples – insulting the principled Karamzin in a epigram, satirizing the powerful Uvarov as a gold-digger – are legion. At this stage, however, the consequences were less dire and often humorous. For example, one of the senior ladies in waiting to Alexander’s wife, the Empress Elizaveta Alekseevna, had a pretty maid, Natasha, and it was not long before Pushkin and his mates became infatuated with her. Once, as the boys were walking in smaller groups through the darkened palace corridor where the ladies’ chambers were located, Pushkin happened to be alone and heard the rustle of a dress nearby. He was certain it was Natasha. Without giving it a thought he rushed up and tried to embrace and kiss her, only to find out as the door suddenly opened that he had in his arms old Princess Varvara Volkonskaia She was insulted, Pushkin mortified. Soon thereafter the tsar himself was informed by the princess’s brother and called the Lyceum’s director, Egor Engelhardt, on the carpet. “What is going to come of this?” complained the sovereign. “Your schoolboys not only steal my ripe apples through the fence and beat the gardener’s watchmen, but now they also pester my wife’s maids of honor.”6 The tsar told Engelhardt to have the boy whipped, but luckily he refused and it eventually blew over. In the wake of the brouhaha an unrepentant Pushkin described the princess in an epigram as “an old monkey” (une vielle guenon).