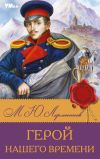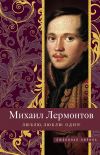Читать книгу "Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. На «вершинах невечернего света и неопалимой печали»"
М. Шапиро
Душа русской поэзии. М. Ю. Лермонтов. 1814–1841
Есть души, о которых сам Лермонтов сказал в «Демоне»:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их.
Они не созданы для мира,
Как мир был создан не для них.
В высшей степени эти чудесные слова приложимы к самому поэту. В нашей литературе существует ложная традиция отождествлять Лермонтова с его знаменитым героем Печориным. Лермонтов будто бы в Печорине создал свой портрет.
Но тем, кто это утверждает, не приходит мысль, мог ли бы Печорин, если бы он был поэтом (курьезное сопоставление: Печорин и поэзия, кроме разве каких-либо злых салонных эпиграмм!), – мог ли бы, повторяем, Печорин, каким он нам представляется, – бездушный, злой эгоист Печорин, романтический пустоцвет с ледяной душой, позер и бретер Печорин, – написать, например, бессмертную «Молитву», в которой есть следующие строки:
.. Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника, в мире безродного,
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Стоит только представить себе Печорина, молящегося такими словами Пресвятой Деве, – за кого? За княжну Мэри? За Бэлу? – чтобы увидеть всю абсурдность отождествления Лермонтова с Печориным.
Одно дело быть, другое – казаться. Молодому юнкеру, а затем и офицеру, озаренному пламенем еще им самим неосознанного гения, с душой бурной и неуравновешенной, поэтически-нежной и самолюбивой, – во что бы то ни стало хотелось казаться холодным и светским, язвительным и бездушным. Этот образ был тогда в моде – с легкой руки Байрона и отчасти и пушкинского Онегина. Молодому юнкеру, у которого нежная душа поэта не раз страдала от соприкосновения с холодным светом, с его маленькими интригами и острыми жалами, хотелось казаться плотью от плоти этого бездушного света. И он создал вокруг себя легенду, легенду о Лермонтове – Печорине (как это должно было импонировать молодому поручику!), и эту мальчишескую легенду серьезно до сих пор обсуждают знатоки русской литературы.
Печорин – и глубинная религиозность Лермонтова; Печорин с его вивисекционными (в смысле психологическом) любовными романами и единая, вечная, бессмертная любовь Лермонтова к одной только женщине за всю его молодую жизнь – к Вареньке Лопухиной; Печорин – и пламенная человечность и жалостность Лермонтова, – похоже, не правда ли?
…И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет?.. Небо ясно;
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он… Зачем?
Может быть, и эти знаменитые слова из «Валерика» – в стиле Печорина?
Что греха таить: русские люди любят друг у друга находить плохое. И особенно охотно это делается в отношении своих великих людей.
Но если бы и к каждому из нас на всю жизнь и в глазах наших потомков привязали все, что мы себе приписывали, и особенно то, что мы говорили и думали о себе в ранней молодости, – картина получилась бы не из веселых, – во всяком случае, пошлее и бездарнее печоринской легенды…
Говоря о Лермонтове, никогда нельзя забывать, что он был совершенно исключительным гением, – одним из двух величайших русских поэтов.
Русские поэты вообще умирают молодыми, – это их какая-то роковая судьба, – за исключением весьма немногих. Никто из них у нас не дожил до блистательной, лучезарной старости Гете.
И Пушкин умер молодым, тридцати семи лет, в самом разгаре своего творческого гения, хотя ему самому казалось, что он уже клонится к закату, и он писал своей жене: «Пора, мой друг, пора, – покоя сердце просит». И в другом незабываемом стихотворении: «Отпряги вола от плуга на последней борозде»1.
Но Лермонтов умер еще на десять лет раньше: в 27 лет. Двадцати семи лет, – когда обыкновенные люди только собираются начинать свою жизнь взрослых людей, когда еще только складывается будущий человек.
Попробуем представить себе, что и Пушкин умер в лермонтовском возрасте. Тогда бы мир не знал: «Пророка» (1826), «Арапа Петра Великого» (1827), всех повестей Белкина (1830), «Истории Пугачевского бунта» (1830), «Дубровского» (1832), окончания «Евгения Онегина» (1822–1831), «Египетских ночей» (1835), «Каменного гостя» (1830), «Капитанской дочки» (1836), «Моцарта и Сальери» (1830), «Пиковой дамы» (1834), «Пира во время чумы» (1830), «Полтавы» (1828), «Песен западных славян» (1831–1833), «Русалки» (1832), «Скупого рыцаря» (1830), и целого ряда самых знаменитых лирических и других стихотворений Пушкина.
И теперь сравним двадцатисемилетнего Пушкина с двадцатисемилетним Лермонтовым… Или иначе: попробуем представить себе, чем стал бы для русской литературы Лермонтов, если бы он дожил хотя бы до тридцатисемилетнего возраста Пушкина. Но этого, впрочем, мы себе хоть сколько-нибудь конкретно представить не можем, ибо взлеты гения не могут быть предвидены обыкновенными смертными.
Из списка приведенных выше крупнейших и значительнейших произведений Пушкина видно, что талант его начинал зреть, приближаясь к тридцати годам и после этого срока. Точно также и талант Лермонтова только начинал, но в гораздо бурном темпе, зреть к концу его, столь молодой и так трагически оборванной жизни. Именно к концу ее его талант начал мужать и отчасти преображаться. Не оставляя своей несравненной, прозрачной, ни с какой (даже с пушкинской) несравнимой лирики, он начал переходить к историческим произведениям, к русскому народному творчеству. Он все более начинал осознавать себя русским. «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русскою душой». Это же подтверждают и «Два великана», «Бородино» (1837), «Родина» и др. Странно говорить о двадцатитрехлетнем мальчике, что он становился зрелым человеком, но Господь, зная краткость земной жизни этого метеора из иных миров, развивал его душу иными, не общечеловеческими темпами.
В этом именно возрасте, всего за четыре года до конца своего земного странствования, Лермонтов написал изумительную «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
По поводу этого произведения Лермонтова я хочу сделать несколько неожиданное сравнение: мы все помним, как в «Войне и мире» Наташа Ростова в гостях у дедушки в имении танцевала русскую и, описывая ее пляску, Толстой замечает (точных слов не помню): «откуда могла эта шестнадцатилетняя графинюшка, воспитанная в светских гостиных, плохо говорящая по-русски, так проникнуться русским духом, так чудесно сплясать русский народный танец?»2
Это незабываемое место из Толстого невольно приходит на ум, когда задумаешься о том, как мог двадцатитрехлетний петербургский поручик, светский человек, мало видавший русскую деревню и бесконечно, казалось, далекий от русского народного творчества, – написать песню, точно совпавшую по строю, по ладу, по ритму, по содержанию – с русскими народными историческими песнями, но далеко превосходящую их по поэтической красоте?
В «Песне о купце Калашникове» судьба дала нам, как в отблеске предгрозовой молнии, – образ будущего Лермонтова. Того Лермонтова, которым бы он стал, если бы не разразилась гроза над его молодой головой, если бы в громе и молниях этой грозы не явился к нему Ангел Смерти Азраил3, которого он так поэтично описал.
Подтверждением того, что «Песня о купце Калашникове» является не единичным историческим произведением, служит показание современников и друзей Лермонтова о том, что великий поэт и писатель совсем незадолго перед своей смертью задумал написать большой роман из эпохи Петра Великого. Что это было бы за гениальное произведение – трудно представить себе даже тем, кто любит Лермонтова более всех земных поэтов.
Это приводит нас к вопросу о лермонтовской прозе. В течение многих лет «Героя нашего времени» (написанного, кстати, за год до смерти Лермонтова – 1839–1841) рассматривали в русской литературе, главным образом, с точки зрения содержания и особенно типа Печорина – одного из родоначальников «лишних людей». Но лишь за последние годы стали, наконец, обращать внимание на совершенно неповторимое совершенство лермонтовского литературного стиля, – на что следовало бы, конечно, обратить внимание много раньше. Опять и здесь – пресловутая «печоринская легенда» затмила драгоценный клад.
Кто любит лермонтовскую прозу, тот пусть время от времени перечитывает ее, особенно бесподобную «Тамань». Он тогда изумится этому прозрачному, богатому, несравненно художественному, вполне нам современному (гораздо более, чем пушкинский и язык многих позднейших писателей) лермонтовскому литературному русскому языку, который превосходит даже классический тургеневский язык.
Я бы сказала, что одна из линий русской литературы, наиболее «прозрачная», литературно-совершенная, прекрасная по стилю, – идет от Лермонтова через Тургенева к нашему современнику Бунину, – в стихах более холодному, чем Лермонтов, в прозе – более страстному, чем он.
Бунин, любящий Лермонтова, собирается писать о нем книгу4.
В этом сознательном или бессознательном стремлении к совершенству стиля – нечто от Запада, – недаром Тургенев был наибольшим западником среди наших великих писателей. А Лермонтов – этот начал с романтического байронического Запада и кончил глубинами русского национального духа.
Недаром в этом литературном совершенстве виден Запад: другие наши великие писатели, в первую очередь Достоевский, за красотой литературного стиля вовсе не следили, да и невозможно представить себе надрывы Достоевского, описанные совершенным русским языком. Тут его взвинчено-нервный, зачастую неправильный язык придает особую силу его потрясающим творениям.
Да и Толстой с его необычайной художественностью, чистоскульптурной манерой письма, особенно сказывающейся в каком-нибудь маленьком сравнении, небрежно оброненной фразе, как будто случайной подробности, – и он не следил за стилистическим совершенством. В этой выпуклости, в этой его скульптурности продолжателем Толстого является в современной литературе Алданов5, о чем мне приходилось писать раньше.
Гоголь – тот сам по себе. От него пока «линии» не пошло, – уж очень он своеобразен со своим русско-малороссийским певучим языком и неповторимым стилем.
Но вернемся к Лермонтову.
Я здесь не задаюсь целью хоть сколько-нибудь подробно писать о произведениях Лермонтова. О них будет достаточно сказано в этот его юбилейный год, который совпал с новой мировой трагедией – Второй мировой войной, и который потонет в ее оглушительных взрывах.
Темой здесь написанного является душа Лермонтова. Говоря о его душе, нельзя не остановиться на глубокой, горней, какой-то не от мира сего религиозности Лермонтова6.
Русская литература знает лишь одного еще писателя с такой же глубокой религиозностью – Достоевского. Лишь для Лермонтова и Достоевского «Бог с сатаною борется, – и поле битвы – сердца людей».
Их обоих всегда окружали как Ангелы Света, так и Ангелы Тьмы, которые всегда витают вокруг душ, сотканных из «лучшего эфира». Никто так глубоко, как Достоевский, не проник в тайники потрясенной человеческой души, никто так не изведал и не поведал миру как о падении ее, так и о ее воскресении.
В более поэтических образах борьбу Бога с Сатаной за человеческую душу показал нам Лермонтов в борьбе Ангела с Демоном за душу Тамары, которая закончилась победой Света над Тьмой.
Есть ли еще один поэт, один писатель в мире, в творениях которого так часто, так постоянно встречались бы ангелы и духи тьмы? Лермонтовым у Гете взятая, но совершенно по-иному разработанная тема попытки соблазнения земной девушки Духом Тьмы проходит не только в непревзойденном по красоте «Демоне». В другом – одном из лучших – незаконченных произведений Лермонтова, поэме – «Сказка для детей», Мефистофель влюбляется в очаровательную девочку-подростка Нину. Демоны борются с ангелами, ангелы спасают человеческие души, и ангелы же с грустью несут души будущих людей на землю «для мира печали и слез». И «звуки небес», которые слышат некоторые души, принесенные на землю ангелами, не заглушаются никакой земной прозой, ибо эти звуки – слова самого Бога.
В «Ангеле», в «Молитве», «В минуту жизни трудную», в стихотворении «Есть звуки – значенье – темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно», в «Звуках», в «Моя душа, я помню, с детских лет» – и во многих других стихотворениях Лермонтова говорится или упоминается о тех таинственных «словах», которые он слышал среди суеты этого мира. Можно было бы сказать, что его окружали и посещали таинственные «голоса» – голоса из иного мира.
Такие люди долго не живут, Лермонтов и сам знал, что он проживет недолго, и не раз говорил об этом. В «Герое нашего времени» – в эпизоде убийства на дуэли Грушницкого – он описал внешнюю обстановку своей будущей смерти. Но и раньше он о смерти своей говорил неоднократно.
Если в потрясающем по красоте «Мцыри» Лермонтов описал еще дерзновенную борьбу свободолюбивого человека со строгими ограничениями монастырского быта и религиозных правил, – то в лирике его мы видим глубокую религиозность, тихую умиротворенность. В «Молитве» («Я Матерь Божия»), в «Ветке Палестины», в «Горных вершинах», в «Демоне», и во многих, многих стихотворениях и творениях Лермонтова звучит его какая-то близость к иным мирам, к таким горним высотам человеческого духа, к которым не приближался никто из русских писателей и к которым лишь стремился из глубин своего страшного боренья за человеческую душу Достоевский.
Залетная вестница из других миров – вот что такое душа Лермонтова.
И если солнечный Пушкин, столь любивший эту нашу землю-матерь со всеми ее радостями и горестями, добродетелями и грехами, и эту нашу в вечности отграниченную краткую жизнь, – если он – сердце русской поэзии, то Лермонтов, певец иных миров, где
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо движутся в тумане
Хоры стройные светил…
– это душа русской поэзии.
Ill. «Вечные роковые недоразумения в истории русского духа»: В. Г. Белинский
Р. Словцов
«Неистовый Виссарион»
«Белинский был небольшого роста, очень невзрачен с виду, сутуловат и страшно застенчив и неловок. Наружность его доказывала, что его воспитание и жизнь прошли вдали от светских кружков.
Значительна была его голова, и в ней особенно глаза.
Несмотря на весьма некрасивые плоские волосы, прекрасно сформированный, интеллигентный лоб бросался в глаза. Глаза большие, серые, страшно проницательные загорались и блестели при малейшем оживлении.
В них страстная натура Белинского выражалась с особенной яркостью. Характеристично было в его лице, что конец носа был приподнят с одной стороны и имел впадину с другой.
Спокойным он почти никогда не бывал. Очень некрасивы были выдававшиеся скулы. Ходил он большими шагами, слегка опускаясь, как бы приседая при каждом шаге. Вечно бывал он нервно возбужден или в полной нервной апатии и расслаблении».
Так описывает внешность Белинского Кавелин1.
«В этом застенчивом человеке, – писал о нем Герцен, – в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская натура. Да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать. Ему надобен был спор.
Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерывался, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким, с необычайной поэзией развивал свою мысль.
Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла. Бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!»2
Мы взяли эти цитаты из сборника «Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников», только что выпущенного издательством «Академия»3.
Мемуары, здесь данные, отлично подобраны и комментированы. О Белинском писали Тургенев, Достоевский, Гончаров, Герцен, Панаевы, Кавелин, Анненков, Лажечников. И что очень редко бывает в воспоминаниях – нарисованные разными людьми портреты легко накладываются один на другой, и из них вырисовывается несомненно схожий с живым лицом образ одного из самых чистых и идеалистических людей, каких знала русская литература.
«Он имел на меня и на всех нас чарующее действие – вспоминает Кавелин о своем общении с Белинским в студенческие годы. – Это было нечто гораздо больше оценки ума, обаяния, таланта, – нет, это было действие человека, который не только шел далеко впереди нас ясным пониманием стремлений и потребностей того мыслящего меньшинства, к которому мы принадлежали, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех идей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполнял ими свою жизнь.
Прибавьте к этому гражданскую, политическую и всякую безупречность, беспощадность к самому себе, при большом самолюбии – и вы поймете, почему этот человек царил в кружке самодержавно… Белинского в нашем кружке не только нежно любили и уважали, но и побаивались. Каждый прятал гниль, которую носил в душе, как можно подальше»4.
Тургенев верно отметил еще один источник огромного влияния Белинского. «Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать центральной натурой, т. е. он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру самой сути своего народа, и потому самые его недостатки, как например, его малый запас познаний, его неусидчивость и неохота к медленным трудам, получила характер как бы необходимости, имела значение историческое.
Человек ученый не мог бы быть истинным представителем нашего общества 20 лет тому назад, он не мог бы быть им даже теперь. Но это не мешало Белинскому сделаться одним из руководителей общественного сознания своего времени».
В этой же тургеневской статье есть очень тонкое определение свойства характера Белинского, на которое указывали все, знавшие его.
«В его натуре лежала склонность к преувеличению или, говоря точнее, беззаветному и полному высказыванию всего того, что ему казалось справедливым: осторожность, предусмотрительность были ему чужды; стоило только взглянуть на полулисты, которые он посылал в типографию, на эти прямые как стрелы, строки его быстрого, крупного, своеобразного почерка, почти без помарок, чтобы понять, что писал человек, который не взвешивал и не рассчитывал своих выражений»5.
Известно, что Белинский мог работать только запоем и, по его собственному выражению, «бывал доволен тогда только, когда во время писания его била лихорадка»6.
Ненависть и любовь его одинаково выражались страстно, подчас ребячески с чудовищными преувеличениями, в которых всегда, однако, лежала глубокая, искренняя мысль.
Таков Белинский был в особенности в своих спорах. Известен рассказ, как в одной из петербургских бюрократических гостиных, куда он попал по приглашению любившего литературу хозяина, выслушав негодующие речи о казни Людовика XVI, Белинский, задыхаясь от страсти, торжественно воскликнул: «Я бы на месте их (вождей революции) трижды казнил Людовика!»7. Эта сцена, если даже ее и не было на самом деле, очень в духе Белинского.
В другой раз, во время спора о славянах, он серьезно доказывал, что «черногорцев надо вырезать всех до одного»8. Эти кровавые речи произносил добрейшей души человек, не преувеличивавший, конечно, когда говорил, что «чтение “Антона Горемыки” произвело на него такое действие, как будто его самого отодрали хлыстом»9.
Это «примирение с разумной действительностью» в первый период увлечения Гегелем, сменилось у Белинского «новой крайностью, – как он сам писал Боткину. – Это идея социализма, которая стала для меня идеей идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания».
«Всматриваясь и вслушиваясь, – вспоминает об этом времени Гончаров, – в неясный еще тогда, новый у нас слух и говор о “коммунизме”, он наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнес однажды: “Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать, но будь у меня миллионы, я отдал бы их”».
«Кому, куда отдал бы? В коммуну? Для коммуны? На коммуну? Любопытно было бы спросить, в какую кружку положил бы он эти миллионы, когда только одно какое-то смутное понятие носилось в воздухе, кое-как перескочившее к нам через границу и когда самое название коммуны было еще для многих ново.
А он готов был класть в кружку миллионы – и положил бы, если бы они были у него, и если бы была кружка»10.
Тургенев вспоминает Белинского в Париже, куда он приехал в единственную свою заграничную поездку, уже безнадежно больной.
«Он изнывал за границей от скуки. Его так и тянуло назад, в Россию. Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба в воздухе. Помню, в Париже, он в первый раз увидал Площадь Согласия и тотчас спросил у меня: “Не правда ли, ведь это одна из красивейших площадей в мире?”».
На мой утвердительный ответ воскликнул: «Ну и отлично! Так уж я и буду знать, – и в сторону, и баста!» И заговорил о Гоголе11».
За границей не было ни спешной лихорадочной работы, ни кружка пяти-шести близких людей, где он изливал свою душу горячими, лихорадочными, иногда почти горячечными импровизациями и, как о «пленении Вавилонском» говорил он Гончарову о своем пребывании за границей.
Достоевский считает Белинского «самым счастливейшим из людей, благодаря его вере в свою идею». «О, напрасно писали потом, – говорит он в посвященной Белинскому главе “Дневник писателя”, – что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству.
Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь [это было писано в 1873 году] маленьким и восторженным старичком с прежней теплой верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии или Швейцарии».
Достоевский называет Белинского «самым торопившимся человеком в целой России». «Раз, – вспоминает он, – я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.
– Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка вокзала Николаевской железной дороги (тогда еще строившейся). Хоть тем отведу душу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчала мне иногда сердце.
Это было горячо и хорошо сказано: Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал дорогой:
– Авось, как зароют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли»12.
В рассматриваемом сборнике ряд мемуаров о Белинском извлечен из старых журналов и давно забытых изданий. В этой части книги ценны, например, рассказы о детских годах Белинского, опровергающие ходячие представления о крайней нужде, в которой рос Белинский.
В действительности, семья его (отец В. Г. был уездным лекарем) пользовалась средним провинциальным достатком того времени.
Любопытны воспоминания Н. Аргиландера и Н. Прозорова, учившихся в московском университете с Белинским. Они дают интересные подробности увольнения из университета будущего знаменитого критика.
Белинский написал трагедию «Владимир и Ольга» и представил ее на рассмотрение в цензурный комитет, куда входили и профессора университета. Через несколько дней его вызвали в заседание комитета.
«Спустя не более получаса времени, – вспоминает Н. Аргиландер, живший с Белинским, – он вернулся бледный, как полотно, бросился на кровать и от него можно было добиться лишь одного слова “пропал, пропал!”»13.
Оказалось, что пьеса, в которой крепостной слуга, случайно получивший университетское образование, убивает своего помещика, была признана чрезвычайно безнравственной. В комитете Белинского распекли и грозили даже ссылкой в Сибирь.
Угроза выполнена не была, но через некоторое время Белинского исключили из университета «за неспособностью к учению».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!