Текст книги "Леонардо да Винчи. Избранные произведения"
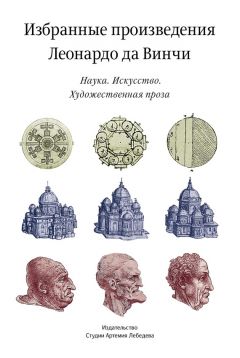
Автор книги: Сборник
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Не случаен тот приподнятый тон, с которым Леонардо всегда говорит о невозможности вечного движения. Это не просто пренебрежение к распространенному шарлатанству или к погоне за техническими химерами (ср. 34, 126, 127). Леонардо чувствует философскую универсальность этой невозможности. Нет вечного движения, хотя может быть вечный покой. Характерно: он выписывает отрывок из Альберта Саксонского о возможном конце земли (390) и кончает на словах: «и все будет покрыто водою, и подземные жилы пребудут без движения». Между тем у Альберта Саксонского указывается дальше, что такого конца пришедшей в равновесие земли никогда не будет, по причине ее дисимметрии и проистекающего отсюда вечного перемещения земных частиц из одного полушария на другое: «и дисимметрия эта установлена богом во век, на благо животных и растений».
Природа – противоречие, природа – война, но «снятие» противоречия – в нуле, в параличе, обессиливающем обе стороны.
Известный отрывок о бабочке и свете (83) иногда истолковывался без всяких оснований в духе платонического стремления к небесной родине. Тут, однако, нет ни тени мечтательного платонизма, смысл отрывка – все в том же стремлении к уничтожению-покою, которое – квинтэссенция мира. Параллель к нему – блестящий фрагмент о силе, исступленно ищущей собственной смерти (118). В глубоко пессимистической механике Леонардо покой – не частный случай движения. Наоборот, вещи движутся только тогда, когда «потревожены» в своем спокойствии. Вечного движения быть не может. Жизнь и движение оказываются результатом выхода из единственно естественного состояния покоя. Стихия не имеет тяжести, находясь внутри той же стихии. Но достаточно перенести ее в иную, чуждую стихию, и рождается тяжесть, рождается стремление – стремление вернуться на родину (ripatriarsi), т. е. стремление к уничтожению стремления (ср. 131). Вода, например, не имеет «тяжести», окруженная водой же, но перенесите ее в чуждую стихию – в воздух, и в ней родится тяжесть – тяга вернуться «домой», в лоно своей же стихии. Все выведенное из равновесия стремится вернуться к равновесию, и пока есть нарушение равновесия, есть жизнь и стремление, которое есть, в сущности, тяга к собственному упразднению, обратная тяга к нулю взаимно уравновесившихся сил.
Так становление и его форма – время – оказывается всеразрушающей, изничтожающей силой (ср. 77 и 75). В сущности, ни эволюции, ни истории у Леонардо нет. Те морфологические и функциональные сопоставления, в которых зачатки сравнительной анатомии (ср. 403—408), не содержат и намека на генетические связи. Когда Леонардо говорит о человеке, «первом звере среди животных» (402), то в этих словах рушится средневековая иерархия космоса, но нет ни роста, ни эволюции, ни прогресса. Есть вновь и вновь повторяющиеся процессы, смена равновесия и выхода из равновесия. И даже «история» земли, отцом которой, казалось бы, является Леонардо, по существу сводится к постоянной смене все тех же процессов, к постоянному перемещению суши и моря, пока не настанет последнее равновесие и все не будет покрыто водами. Знаменательно, что именно у Леонардо, в основе натурфилософии которого лежит пессимистическое понятие уничтожения, появляется новая теория фоссилий. Окаменелости для него – не игра творящей природы или творческое произведение звезд, какими были они еще для многих представителей эпохи барокко, и не остатки человеческой кухни или объедки, какими они были для Бернара Палисси, а следы естественного, закономерно-неумолимого уничтожения жизни. Эти окаменелые «трупы» моллюсков – не результат раз бывшего, катастрофически-насильственного, случайного потопа: природа «производит» этих мертвецов по вечному, непререкаемому закону.
В такой механической природе нет роста в «снятии» противоречий, есть только или выталкивание, одоление одной силы другой, или покоящееся равновесие противоборствующих сил. Легко видеть в этой картине сталкивающихся враждующих сил отражение раздора и истребления, свирепствовавших в итальянской действительности XV века, для которой война была состоянием нормальным, делалась самоцелью.
Натурфилософия Леонардо растет из итальянских войн, как наука его – из практики военного дела. И если «наука – капитан, а практика – солдаты», то следует сознаться, что капитан часто прислушивался к солдатам. Именно XV век был в Италии веком сдвигов как в применении огнестрельного оружия, так и в военном искусстве вообще. По утверждению новейшего исследователя, «всякий архитектор, всякий ingegnario должен был от постройки торжественных и величественных храмов перейти к сооружению крепостей и каналов; от дел мира и благочестия к делам войны». Еще Вентури отметил, что обширнейший Codex Atlanticus есть наиболее полный свод знаний по фортификации, обороне и наступлению из имевшихся к концу XV века. Леонардо усваивает военные знания как древние, так и новые. Значительная часть манускрипта В основана на произведении Вальтурио, весьма подробно исследующем военное искусство древних. Но все усвоенные знания восполняет Леонардо своей неистощимой изобретательностью. Военная практика служит ему поводом для виртуозного разрешения технических и научных проблем, для бесконечных технических проектов. Уничтожение как цель становится началом творчества, бьющего неиссякаемым ключом. Леонардо проектирует подобие современных пулеметов (272), предвосхищает применение удушливых газов (78 и 452) и если не хочет обнародовать своего способа оставаться под водою «из-за злой природы людей» (451), то все же, не следует забывать, хотел он именно его предложить венецианцам для потопления турецкого флота. В совершенно очевидной связи с преданием об Архимеде, сжегшем неприятельский флот, он упорно интересуется вогнутыми зеркалами и все записи о них особенно заботливо засекречивает (ср. 38). Если Лодовико Моро он так старательно подчеркивает свои военно-технические знания (49), то это не только для того, чтобы зарекомендовать себя с наиболее выигрышной, полезной стороны. Задачи войны и военной техники питают всю науку Леонардо. Научное освоение военной техники – вот что прежде всего стояло перед ним. И презираемые им некромантия и магия рисуются ему также прежде всего со стороны стратегической: будь они действительно способны делать то, что сулят, война стала бы невозможной (48). Но, продолжим за Леонардо, война – закон природы, и, следовательно, магия, которая сделала бы войну невозможной, – ложь.
Динамика Леонардо столь же непонятна вне связи с проблемами военного дела. Он изучает соотношение между силой, пройденным расстоянием и временем. Соотношения эти можно было бы уложить в лаконичные формулы. Между тем у него ряд случаев, кажущихся тавтологиями и повторениями (91). Фон их – ядро, выбрасываемое бомбардой, и, читая их на этом конкретном фоне, начинаешь понимать, что для практики полезны они все и полезно именно такое изложение. Сведения, черпаемые у Аристотеля и Альберта Саксонского, применяются к тому, как заряжать пушки. Случаи механики берутся не абстрактно, в идеальной своей форме, а в связи с конкретными условиями. То, что Леонардо изучает тела падающие и летящие в воздухе, а не в пустоте, в этом, конечно, можно видеть продолжение аристотелевской традиции, для которой нет пустоты, почему и падение тел в пустоте есть физический nonsens, но в этом же – спаянность с проблемами практики. И траектория брошенного тела (ср. 151), и форма тела, влияющая на скорость падения (143), – все это взято из конкретной обстановки; это – баллистика, а не теоретическая механика. Стоит ли подчеркивать, что теория impetus’a бесспорно привлекала внимание Леонардо именно по своей связи с проблемами полета ядра. Схоластика была поставлена на службу военной инженерии.

Кровеносные сосуды руки (W. An., B. 10)
Нельзя, конечно, думать, что многое из проектировавшегося и намечавшегося Леонардо было действительно осуществлено им. Будь так, миланские герцоги оказались бы непобедимыми в боях со своими противниками. Леонардо забегал вперед, в будущее, и многое, что было сокрыто в его манускриптах, позднее появилось независимо в других странах и в других условиях: «смертоносные органы» (272), приспособление для потопления кораблей (449), зажигательные плоты (450).
Окружающая действительность, война питала творчество Леонардо, но она же парализовала реальное его воплощение: в разгар войны не время было заниматься военно-техническими экспериментами. Неисчерпаемая сила изобретательности, бьющей ключом, безотносительно к реальным возможностям, – вот что отличало Леонардо в военной инженерии, и не только в военной инженерии. И трудно иногда решить, имеет ли в виду запись уже зрелый, продуманный проект или только задание, без знания реальных путей осуществления. «Сделай стекла для глаз, чтобы видеть луну большой» (314) – что это? указание на действительное знание зрительной трубы или только тема для продумывания? Уже у предшественников Леонардо некоторые отрывки давали повод для гаданий: так, слова Роджера Бэкона о том, что далекие вещи смогут казаться близкими, оставляют в неизвестности, смутное ли то пророчество о зрительной трубе, или же сообщение о действительно ведомом автору секрете. И чем глубже в Возрождение, тем случаи такие чаще. Порта, Кардано – трудно различить у них, где кончается знание и на знании основанное предсказание и где начинается магическое фантазирование, вдохновенное пророчествование, прожектерство и мистификация. Средневековье окружало ученых легендами (вспомним говорящую голову Альберта Великого), люди позднего Ренессанса сами творили легенды и сами окружали себя легендами. Леонардо не принадлежит к числу ни тех, ни других: он не всегда замечал пределы реальных возможностей, подчас творил легенды против воли. Пришлось ждать XVII и XVIII веков, чтобы многие проекты Леонардо получили плоть и кровь. Показательно это и в другой области, близкой к военной инженерии, – в области гидротехники. В XV веке появляются камерные шлюзы. В «Архитектуре» Альберти (середина XV века) встречаем первое их описание. По подсчетам Ломбардини, за период 1438–1475 гг. в Милане уже было построено до 90 километров судоходных каналов с 25 шлюзами. С достоверностью устанавливается, что в 1494–1498 гг. Леонардо руководил постройкой канала Мартезана, доведя его до внутреннего рва Милана. Достоверно также, что Леонардо усовершенствовал систему шлюзов. Но самое значительное, ряд поистине грандиозных проектов остался неосуществленным. Неосуществленными остались: поздний проект соединения Соны и Луары (от Макопа до Тура или Блуа), проект каналов в Вальтелинской долине (для доставки товаров водным путем в Германию) и проекты каналов в долине реки Арно, в частности проект канала от Флоренции до Пизы и Ливорно (через Прато – Пистойю, Серравалле и озеро Сесто). Проекты Арно не сбылись – ил и тина остались там, где воображению Леонардо рисовались ровные, в точности размеренные каналы, которые внесли бы переворот в сельское хозяйство, промышленность и торговлю страны.
Но занятия его гидравликой и гидродинамикой опять привлекли внимание позднее. Когда доминиканец Арконати в 1643 г. для кардинала Барберини из многих рукописей составил «Трактат о движении и измерении воды», то этот труд оказался не простым памятником пиетета к имени Леонардо: проблемы были и тогда волнующими не теоретически только, но и практически.
Повторяем, век был немилостив к Леонардо: в разгар непрекращающихся войн не время было заниматься лабораторными испытаниями военных изобретений и осуществлением больших гидротехнических проектов. Но немилостивы были и покровители Леонардо. Техническое изобретательство не было еще высоко ценимой функцией, изобретатели и инженеры не смели еще занять ранг, занимаемый полководцами, князьями церкви, учеными и литераторами. Об этом лучше всего свидетельствуют сборники биографий замечательных людей (ср. примеч. к 3). Когда Леонардо защищал живопись как науку, то это было борьбой за социальное признание живописца, спор о превосходстве живописи и поэзии был спором о социальных рангах. Точно так же в области техники приходилось считаться с принижением ее до уровня ремесленничества, с воззрением на нее как на профессию, менее полноценную социально, чем литература, например, – как на ремесло, не науку. Не отсюда ли выпады Леонардо против гуманистов, чванных и напыщенных, умение коих сводится к умению хорошо цитировать авторов (2, 3, 13 и др.)? По адресу гуманистов он находит слова более едкие, чем но адресу схоластов даже, и трудно сказать, кого он ненавидит более, – «отцов народных, которые наитием ведают тайны», или тех, кто щеголяет чужими трудами, изощряя свою память.
Особенно рельефно проступает эта покинутость на самого себя в той сфере, которая живо влекла внимание Леонардо – в сфере авиации. На эти работы он не получал никакой субсидии меценатов, и характерно, что Вазари сохранил нам лишь сообщение об увеселительных фокусах с летающими фигурками, наполненными нагретым воздухом. Именно об этих фигурках ничего нет в опубликованных манускриптах, хотя птицы и авиация все вновь и вновь возвращаются в записях Леонардо. Леонардо был здесь предоставлен самому себе и в другом отношении: кроме полулегендарных сказаний, тянущихся с древности (искусственный голубь Архита), скупых и темных указаний отдельных авторов (Аристотель, Гален), лишь в одной связи вопросы полета птиц всплывали определенно и настойчиво. Имею в виду соколиную охоту и посвященные ей трактаты. Трактаты эти носят ясные следы внимательного изучения полета птиц и особенностей их анатомического строения. Император-спортсмен Фридрих II посвящает соколиной охоте большой трактат De arte venandi cum avibus (1244–1250), обильный практическими наблюдениями и начинающийся с обширного теоретического вступления с целой массой орнитологических сведений. Живо интересовались соколиной охотой и в Милане, чему свидетельством многочисленные трактаты.
Трудно решить, в какой мере Леонардо использовал подобные трактаты, но в основном, по-видимому, записи его зиждутся на собственных наблюдениях – как над полетом птиц, так и над специально сконструированными моделями (ср. 225 и 226). В размышлениях своих Леонардо руководствовался также в значительной мере аналогией воды и воздуха, плавания и летания (210, 213), и так более разработанная часть науки служила путеводной нитью в области новой. Как известно, камнем преткновения Леонардо явилось отсутствие достаточно мощного мотора. Рисовавшийся ему в воображении полет с Монте Чечери не осуществился, как не осуществились каналы в долине Арно, истребительные повозки и многое другое, погребенное в манускриптах.
Но во всех этих исканиях, пусть не нашедших своего приложения в окружающей действительности, красной нитью проходит одно: стремление поднять до науки то, что почитается ремеслом, построить практику на фундаменте точного знания. Техник и живописец, Леонардо требует себе места среди ученых именно как техник и живописец, как «изобретатель» в противовес «пересказчикам чужих мыслей».
Его могли упрекать – и он сам предвидел это – в отсутствии систематически пройденной школы. Но в школах он и не мог найти в готовом виде того, чего искал. Школой его было общение с практиками, как он, и с книгами старых авторов, по-новому прочитанными. Он учился у Верроккьо, ваятеля, живописца, музыканта и ювелира, изучавшего математику и перспективу; он общался с Браманте, архитектором и живописцем, занимавшимся математикой; с математиком Пачоли; с математиком и космографом Тосканелли. Вокруг него атмосфера была насыщена математическими и космографическими интересами. Живописцы упорно устремляли свое внимание в область перспективы и анатомии. Годы учения Леонардо у Верроккьо (1466–1476) совпадают с годами особенно оживленных исканий в области перспективы. Как и другие представители новой итальянской интеллигенции, Леонардо пытался внести теоретические обобщения в область практики – и свою технику, и в свою живопись. Но такой выход в новую практику был смертелен для систематической стройности старой науки. Ошибочно было бы считать тот «опыт», на который Леонардо указывал как на единственного истинного учителя (17), чувственным сырьем сенсуализма. «Опыт» Леонардо – это воспринимаемая глазом живописца вселенная. Подчеркивание конкретного многообразия природы (72) свидетельствует о том, что анализ Леонардо упирался не в аморфную массу чувственных дат. Аналитический взор практика-художника усматривает в опытно-данной действительности все новые несходства и все большее богатство индивидуального своеобразия. Мало знать анатомию человека – надобно вникнуть в анатомические особенности ребенка, юноши, мужа, старика, женщины и т. д. и т. д. Он ищет все новых случаев освещения листвы, все новых несходств в природных явлениях. Дым, башни в тумане, синеющий лес, отблески огня в ночи – все эти явления, ярко описанные в «Трактате о живописи», – вот тот «опыт», который есть истинный учитель. Он ищет научного объяснения и уразумения именно этих конкретных явлений. И в оптических заметках так же просвечивают интересы живописца, как в механике – интересы техника и военного инженера, как в гидростатике и гидродинамике – интересы строителя и проектировщика итальянских каналов.

Анатомический рисунок женщины (W. An. I, 12)
Но если живопись – от науки, то и наука – от живописи. Не говоря уже о тех картинных, зрительно-живописных аналогиях, которые вплетаются в научное рассуждение, пример анатомических занятий Леонардо показывает особенно наглядно, как технические проблемы живописи перерастают в чисто научные, собственно анатомические проблемы. Леонардо не ограничивает себя кругом вопросов пластической анатомии, он смотрит вглубь человеческого организма, с тонкой наблюдательностью художника улавливает строение тех частей, которые абсолютно не нужны художнику, и воспроизводит их в своих рисунках. Неудивительно поэтому, что анатомические рисунки Леонардо неизмеримо выше его анатомических текстов, где ему приходится выдерживать борьбу с вековым наследием предрассудков и пробиваться сквозь толщу греческой, арабской и схоластической терминологии. Неудивительно также, что Леонардо с гордостью говорит о своих рисунках, суммировавших целые ряды наблюдений, и указывает на преимущества их по сравнению с неумелым анатомированием – он, превозносивший в других случаях непосредственное наблюдение над авторитетом и традицией (см. 411). Из этого особенно ясно видно, что «опыт» Леонардо отнюдь не предполагает tabulam rasam, что за этим словом скрывается тоже своего рода школа – школа практической эмпирии.
Гений Леонардо знал, что практика, хотя бы самая гениальная, требует обобщения, чтобы стать наукой. Отсюда пристальное изучение научного наследия предшественников. Круг чтения Леонардо был достаточно своеобразен, как явствует хотя бы из труда Сольми, посвященного источникам его рукописей. Книги, им читанные, в большинстве случаев отнюдь не входили в состав библиотеки рядового гуманиста, да и не всякого ученого его времени. Останавливаясь только на более крупных именах, мы видим здесь из древних – Аристотеля, Клеомеда, Птолемея, Страбона, Плутарха, Архимеда, Герона, Евклида, Галена, Витрувия, Плиния; из арабов – Авиценну, аль-Кинди, Табита ибн Курра; из средневековых европейских ученых – Альберта Великого, Альберта Саксонского, Витело, Пекама, Иордана Неморария, Винсента из Бовэ; упомянем, наконец, отдельно итальянцев – Пьетро д’Абано, Брунетто Латини, Биаджо Пелакани, Альберти, не говоря уже о современниках – Тосканелли, Фацио Кардано, Пачоли и др., с которыми Леонардо общался лично.
Вполне прав Сольми, указывая, что заметки Леонардо – не только плод самостоятельных изысканий художника и ученого, но и след разнообразных его чтений. Леонардо усердно посещал флорентийские библиотеки (Сан-Марко, Сан-Спирито), лавки книготорговцев. В записях его встречаются перечни подлежащих разысканию книг и указания, у кого из знакомых есть та или иная книга.
Все эти искания, наблюдения, чтения отражены в бесформенной массе заметок. Наука средневековых университетов и монастырских библиотек перешла в жизнь, влилась в новый мир новой практики. Ее атектоничность в новых условиях была совершенно неизбежна. Если и не идти так далеко, как Ольшки, и не утверждать, что каждый фрагмент Леонардо есть законченное целое, который заведомо не может быть координирован с другими и включен в какую бы то ни было систему, потому, что такой системы нет будто бы даже в форме смутного плана, – стройная компоновка фрагментов уничтожила бы одну из характернейших черт научного стиля Леонардо.
И потому в избранном расположении нам хотелось остаться верными фрагментарности и пестроте его записей, так же как и в самом переводе – их рапсодичности. Характерно, что Леонардо мыслит во время самого писания, пишет не оглядываясь, предложение лепится к предложению, он часто забывает о согласовании, повторяет уже написанное слово (ср. 361) или обрывает нить аргументов пометкой falso. Больше того: в текст вплетается чертеж или рисунок, и подчас текст лишь пояснение к рисунку, растворяется в рисунке, а доказательство сводится к внимательному разглядыванию чертежа, причем Леонардо ничуть и не заботится о строгости словесной формулировки. Его заметки – не чеканные законченные афоризмы и не безупречно формулированные теоремы. Пусть судят другие, насколько удалось нам соблюсти эти особенности в переводе. Во всяком случае мы старались быть верными циклопическим нагромождениям союзов и местоимений, постоянному колебанию между научно-терминированной и живой разговорной речью, незаконченности и своего рода «открытости» записей.
В выборе отрывков мы считались не только с их научной значительностью: нас не только интересовала наука Леонардо, но и Леонардо-ученый, его стиль, его язык, его приемы изложения. Но в этом-то особенная трудность. Как только что сказано, в записях Леонардо часто не самодовлеющий текст, а текст плюс рисунок, текст плюс чертеж. В разных областях это проявляется с различной резкостью. И как раз две области, весьма значительные по своему объему и удельному весу, – анатомия и техника – почти все в чертежах и рисунках, при которых текст сведен до минимума, во всяком случае не играет первостеценной роли. Сила анатомических изыскании Леонардо – в его рисунках, не в текстах, и если соблюдать пропорциональность между различными отраслями знания, то следовало бы еще в несравненно большей мере увеличить число анатомических и технических извлечений. Этому препятствует характер издания – книга должна была бы превратиться в альбом.
Думается, ошибка Ольшки в том, что он берет Леонардо только в разрезе истории научной литературы. При всей важности для науки строгого языкового выражения нельзя свести историю научного познания к истории научной письменности. Анатомические знания Леонардо суть именно знания и знаменуют прогресс в научном знании, хотя Леонардо не всегда располагает терминами строгими и четкими, хотя все достижения Леонардо – подчас в одном чертеже с скупым, слишком скупым текстом.
Одной руки опытного художника здесь было бы мало. Недостаточно зарисовать то, что видишь, нужно уметь видеть, хотя можно и не уметь выразить словесно. «В одном теле, – говорит Леонардо (411), – ты со всем своим умом не увидишь ничего и ни о чем не составишь представления». Рисунки Леонардо синтетичны, суммируют десятки трупорассечений. И это видение без словесного выражения – научное видение.
Тот же Ольшки высказал мнение, будто Леонардо в своих заметках дал все, что мог дать, что систематическая разработка проблем позднее – нечто совсем иное, чем распыленные заметки, и что сетования на равнодушие современников к «непонятому гению» бессмысленны. Если с последним и можно согласиться, то все же из этого отнюдь не следует еще, будто Леонардо не принадлежала честь первой настойчивой постановки новых проблем, лишь позднее разработанных и введенных в систему. Леонардо бросал намеки и намечал темы, – в том, что они в его время не облеклись в плоть и кровь, не виноват ни он сам, ни окружавшие его: не Леонардо и не они не «доросли» до полнокровной реализации замыслов, а сама наука не «доросла» до осуществления необъятной программы, зафиксированной в бессильно-хаотических записях.
Нелишне бросить в заключение общий взгляд на многообразие и богатство заметок. Мы не будем повторять уже сказанного (19) о характере математического мышления Леонардо – о его связанности с практикой и его «эмпирическом инструментализме». Достаточно будет указать, что рука об руку с практическим геометризмом идет «арифметизм» его математического подхода к явлениям природы. Алгебра чужда Леонардо. Его математический метод – искание числовых пропорций в природе, измерение и счет того, что не умели или не хотели измерить и сосчитать другие. Отсюда и зачатки фотометрии (61), и анемометр (64), и интерес к механическим счетчикам пройденных расстояний (66—68), и многое другое (см. отрывки 61—70 и примечания к ним).
Но такой же характер носит и механика Леонардо. Леонардо имел перед собою наследие и античной, и средневековой механики. Равновесие рычагов (ср. 172 и сл.), статический момент (175—178), сложение и разложение сил (141, 178, 179), движепие по наклонной плоскости (134—140) – все это темы, которых касались или к которым подходили его предшественники. Но Леонардо из практики подошел к тем же проблемам, чтобы двинуться дальше. Не забудем, что и честь первого определения центра тяжести пирамиды принадлежит ему (191). Объяснение подвижных блоков (190), изучение сопротивления материалов (192—198), определение коэффициента трения (168—170) особенно наглядно иллюстрируют теснейшее переплетение теоретических и практических интересов. Изучение законов летания точно так же идет рука об руку с проектированием парашюта (256), геликоптера (255), аэроплана (257 и сл.). Не случайно в центре текстильной промышленности, во Флоренции, мысль Леонардо обращается к текстильным машинам. Известна его модель прялки и машины для стрижки сукна. Строитель каналов, инженер-гидравлик, Леонардо столь часто возвращался к вопросам движения и равновесия жидкостей, что из его записей в XVII веке мог быть скомпонован объемистый «Трактат о движении и измерении воды», дающий представление об углубленности его интересов. Гидростатический парадокс (203—205), сообщающиеся сосуды (201—202), скорость воды в различных сечениях (205—206), первые элементы теории волн (345 и сл.) восполняются практическими изобретениями: шлюзовые каналы, водяные колеса, прототипы турбин, приспособления для осушки прудов (156), не говоря о землечерпалках, машинах для изготовления деревянных труб (270), способе очистки гаваней (362) и т. п.
Мы уже говорили о военных изобретениях Леонардо – о способе топить суда (449), о ядовитом порошке для бросания на корабли (78). Можно было бы привести еще разрывные снаряды, разнообразнейшие типы артиллерийских орудий (ср. 272), проекты военных мостов, приспособление для опрокидывания осадных лестниц (453) и еще раз подчеркнуть здесь связь механических теорий с живой практикой. «Наука – капитан, а практика – солдаты», – заканчивает сам Леонардо один из отрывков, посвященных баллистике (ср. 31 и 92).
Сплетение геометрической оптики с проблемами перспективы и интересами живописи не требует комментариев. Отметим лишь и другие практические корни ее же: изучение параболических зеркал, законов отражения в сферических и плоских зеркалах тесно связано со старинной легендой об Архимеде, сжегшем флот врага вогнутыми зеркалами.
Из оптики, «матери астрономии» (ср. 275), вырастают попытки объяснения света Луны, первое правильное объяснение пепельного света луны (303), тесно связанное с представлением, что Земля – «звезда, подобная Луне» (296), т. е. с представлением об однородности Вселенной и ее законов.
Нельзя не указать, что и ко многим геологическим наблюдениям, послужившим основой его размышлений о прошлом и будущем земли, Леонардо не мог прийти иначе, как в процессе своих работ в качестве практика-гидротехника. Во всяком случае, окружающая обстановка – рельеф Северной Италии – наложила на его теории свой отпечаток. Иначе нельзя объяснить его преуменьшения роли вулканических факторов и преувеличения роли воды в образовании земного рельефа (ср. примеч. к 369). Только в контексте этого непосредственного наблюдения получили обновленный смысл и отдельные высказывания древних.
Старую науку нужно было прочитать по-новому, и Леонардо не мог сделать этого иначе, чем сделал. И только пройдя через эту стадию «инобытия», расплавленного и текучего, оплодотворенная новой практикой, смогла наука достичь систематических вершин XVI–XVII веков, когда самостоятельно или при отраженном Леонардовом свете было вновь открыто или впервые осуществлено уже открытое и уже изобретенное.
В. П. Зубов
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































