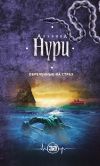Текст книги "Рак. Опыт борющихся. Методики лечащих"

Автор книги: Сборник
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Вернулась в Москву. После итальянского медленного времени срываюсь в галоп. Eле успеваю поворачиваться. Все пытаюсь пойти на проверку. Звонила раз десять в поликлинику Министерства обороны, в пешеходном расстоянии от дома, никак не могла записаться – врач симпатичная, она то в отпуске, то в другой смене. Уже несколько лет я хожу к ней на проверки. Место, конечно, непрофильное, но уж больно неохота ехать в институт рентгенологии – и далеко, и память недобрая! Наконец добралась до этой врачихи. Она посмотрела сначала на грудь, потом УЗИ, маммографию – и мордой сильно покривела: давно?
– Давно, – говорю.
Я ведь знаю: втянутый сосок – зловещий признак. Но ведь и в прошлый раз, месяцев восемь тому назад, когда я у нее же была, то же самое было. Она тогда промолчала – и я промолчала. Анализы ничего не показали. Да неохота было всю эту бодягу затевать… Зато теперь анализы показали. Врачиха взвыла – срочно к онкологу. Cito-cito!
Март на дворе. Что значит «срочно»? Ведь я в начале мая все равно еду в Израиль на книжную ярмарку, там пусть меня и посмотрят. И лечат пусть там. В институт радиологии и рентгенологии не хочу – там мама работала двадцать лет, умирала там, от ретикулосаркомы. И в онкоцентр на Каширке не хочу. Две подруги там умерли, и место это особое: там все сделано так, чтобы человеку было еще хуже, чем оно есть. Ходят слухи: взятки, вымогательство. Я готова деньги платить, но не кривым способом. Хочу в кассу.
Звоню подруге Лике в Иерусалим, она находит в Хадассе, самом большом госпитале Иерусалима, хирурга. Говорит, очень хороший. Прекрасно. Я еду. Не завтра, через месяц. Все равно надо ехать на книжную ярмарку. Вроде бы заодно! Я еще живу в прежней жизни, когда планы подчиняются целесообразности, чтоб все сопрягалось и удобно совпадало одно с другим. Я еще не поняла, что это за стук, кто стоит за дверью…
Тут на меня наседает подруга Ляля: там, на Каширке, есть какой-то родственник, он там иммунитетом заведует – он меня покажет тамошним онкологам. К этому времени уже март кончается. Я не хочу. Категорически не хочу в институт Блохина. Но я покладиста и сговорчива. Еду. Приезжаю – родственник симпатичный, усатый, усы пышные, как у какого-то животного, не вспомню какого. Двоюродный иммунолог ведет меня к своему знакомому хирургу – тот хваткий, холодный, тискает мою грудь, говорит, что сделает мне сейчас биопсию. Немедленно. Достает иглу толщиной чуть не в палец и колет. Больно. Но дело не в этом. Через два часа посмотрели стекла, лаборантка дает мне мятую бумажку размером в трамвайный билет, на которой написано РАК. Надо отдать должное, это была чистая правда. Потом израильтяне подтвердили. Единственная отечественная деталь – после слова «рак» стоят цифры. Что, я спрашиваю, эти цифры означают? Это, – говорит лаборантка, сделавшая свое заключение за более чем скромные две тысячи рублей, – шифр клетки. Так какая же клетка – я спрашиваю. Она жмурит свои глупые глаза и сообщает: а это секрет. Это только врачу могу сказать…
Мудацкая сила! Поеду в Израиль. Через полтора месяца. Я не психопатка – вот так срываться, нестись по врачам! Мне до того надо съездить в Петербург. Там выступление. И еду. Две ночи в поезде туда и обратно. Удивительно хорош новый поезд. Ортопедический матрас, раковина, еще и ужин чуть не в койку приносят!
Я всему удивляюсь, как будто заново живу и ничего промежуточного не было: вспоминаю поездку в Пушкинские Горы, в студенческой компании, в тамбуре. И гостиницу в Михайловском с невиданной канализацией в виде широкой черной прикрытой стульчаком обосранной трубы. Ах, как жизнь стремительно двигается, и все в лучшую сторону!
И вообще – вокруг меня просто чудо. Все наперебой готовы со мной возиться и за мной ухаживать: муж, дети, друзья-подруги! Все готовы меня везти, пасти, охранять. Какой чудный дружеский круг – я счастлива. И вообще счастлива. Как много людей меня любит! И как их всех люблю я! Но я никогда не видела в своей жизни такой демонстрации любви – все это мне! И еще – я знаю – молятся! Те, кто умеет.
Марина Ливанова меня провожала в Домодедово на своем студенте Саше. Что она мне принесла на дорожку: плеер с дисками, наушники удобные, жидкость от загара, конвертик с бумагой флорентийской (на такой бумаге только любовные письма писать!), большое яблоко. И что-то еще, уже не помню. Как она умеет все красиво делать. Театр жизни! При этом – мне благодарна, что я доставила ей такое удовольствие. О Боже!
Тем временем Вера Миллионщикова в реанимации, приходит в себя после передозировки химии. Врачебная ошибка. У нас страна бесплатная – лечение бесплатное, и ответственность бесплатная. Никто ни за что…
Из записной книжкиПрилетела в Израиль. Лика повела меня к врачу в Хадассу. Доктор Замир – не то жаворонок, не то соловей на иврите – крупная птица. По виду скорее канадский гусь. Пощупал: я не уверен, что здесь есть рак. У этих одаренных врачей пальцы – чувствилища. Иной орган, чем у обычных (но тем тоже слава, лишь бы не убивали). Послал на обследования. Маммографию сестричка делала трижды. Молодая, неопытная. Потом к доктору, не помню, как его, – из Южной Африки, в кипе, белая щетина – бородка, пахнет как от прадедушки (вспомнила через 65 лет!) – старостью, ветхостью, опрятностью. Еще старыми книгами немного. Опять пощупал, но биопсию делать не стал. Говорит – ничего не вижу (руками! руками!), кроме гематомы – это привет от доктора на Каширке! Опять: не уверен, что рак. Но послал московские стекла своему приятелю в Хайфу, к специалисту, который не разучился стекла смотреть. Больше в Израиле не осталось врачей, которые владеют этой допотопной методикой. На стеклах препараты никто теперь не делает. Это именно то, что я освоила в Институте педиатрии сорок лет тому назад, – гистологические срезы…
На слово «РАК» – удивление: у них такого диагноза нет. Есть клетки определенные, по имени и фамилии. Те самые секретные цифры, конечно. Ощущение довольно странное: все это происходит, вне всякого сомнения, со мной. Сообщение я приняла как должное, как будто я давно знала, что именно так и про изойдет. Но одновременно вижу все извне, наблюдаю за собой – что говорит, как себя ведет эта пожилая женщина, которая совершенно не принимает возраст в расчет, хорошо себя чувствует, удачлива, окружена толпой близких и любимых родственников, друзей, поклонников. Это даже не самообладание: рак мне показывает, как прекрасна жизнь вокруг меня. Во! Усилитель вкуса, как в кулинарии!
Я со стороны наблюдаю эту изумительную картинку – красота буйной весны, города, врачей, моих потрясающих друзей. Какая там Стена Плача! Вокруг меня Великая китайская стена! И я посреди всего этого – совершенно счастливая. Диагноз не снят, но отодвинулся. Рак не болит! Умирать все равно скоро, но не завтра. И видна, как никогда, «прекрасность жизни». Это Евгений Попов! Вот автор единственного слова, но какого! Назавтра поездка в Хайфу. Еще один незаслуженно прекрасный день. Повез меня Саша Окунь. Рассказ о поездке в Мюнхен. Он смотрел там выставку Рубенса, от скуки делавшего в Испании копии в Эскуриале. Многое в дороге переговорили – одно наслаждение… Мне интересно, потому как я человек слабо начитанный, а Саша про искусство лучше всех знает. Изнутри предмета. Сердечнейшее общение. И художник он очень крупный, но совсем не в духе Андрея, другого происхождения, от других корней. Имеет ка кое-то отношение к Люциану Фройду, только с великим чувством юмора и жизненной силой. Там философия, литература, большая глубина.
Потом госпиталь Рамбам в Хайфе. Доктор – рыже-седой русскоговорящий парень лет сорока пяти. Профи. Одно удовольствие смотреть, как он микроскоп крутит. Рак на московских стеклах подтвердил – карцинома. Это оно! Сделал две пункции, довольно больно, на новых стеклах ничего не обнаружил, гематома еще не рассосалась.
Вернулись в Иерусалим, и завертелась подготовка: компьютерная томография, неприятная вещь – два литра противной жидкости, а потом еще в вену влили краску. Теперь главное – чтобы не нашли никаких метастазов. Между тем начинается книжная ярмарка, интервью, встречи, беготня. Устала – с ног валюсь.
Все разворачивается очень быстро: новая биопсия показала карциному такой разновидности, которая на химию вяло реагирует и, кажется, более агрессивна, чем аденокарцинома. Рак молочной железы. Лабиальный, то есть протоковый – почему и диагностика сложная.
Томография не готова, а там я ожидаю новых неприятностей. Как-то серьезней стало. Хирург послал к онкологу в Эйн-Карем. Все свободное время работаю.
Кажется, Господь услышал мои слова, что долголетия я боюсь. Но книжку закончить все равно надо.
Последние дни апреля. Сны идут с большой силой. То – чашечки грязные с мутными стеклами. Нашла, отмыла: оказались драгоценности – подвески, серьги бриллиантовые и цветные – красные, зеленые, синие. Тут подходит пожилая дама, говорит: это мои! Пожалуйста, – говорю ей и легко отдаю.
Еще странная округлая железка, деталь или конструкция неизвестного назначения, в пол-ладони. Приятная на ощупь. Держу в руке, показываю.
Сегодня опять сон – но забыла. Сны очень сильные, каждый день, осмысленные. Но главный был все-таки тот куличик на фарфоровом блюде!
2 мая открыли фестиваль. После врача-онколога. Все успела, никуда не опоздала. Назавтра консультация предоперационная. Беседа: снимаем левую грудь. Далее – по обстоятельствам: найдут в экспресс-анализе в лимфатических узлах клетку, значит, все лимфоузлы удалят; нет – обходимся без химии.
Поскольку клетка гормонозависимая, если будет химия, то какая-то «новая», ориентированная на рецепторы – блокируют их. Больного надо просвещать, мне нравится знать.
План такой: операция, далее перерыв. После двух-трех недель заживления – химиотерапия, в зависимости от того, что там найдут. Будет, видимо, надо.
Замир сказал, что он обеспокоен моим спокойствием: впервые такое видит, обычно в этом кресле плачут. Далее – поехала на такси в «Мишкенот Шаананим». (Приют беззаботных – это точно для меня!) Выучила слово. Не забыть бы! Это возле мельницы Монтефиори. Там всех ярмарочных писателей заселили. Цруя Шалев и жена Пола Остера выступали. Дамский разговор, изящный и слегка тошнотворный. Цруя очень хороша – и лицом, и телом, и душой, и одеждой.
Потом появился Курков. Милый, доброжелательный, с англичанкой-женой; у них трое сыновей.
В 9 легла в постель уже в номере гостиницы. Встану рано и буду смотреть с галереи на Старый город… может, даже и погуляю. К двум в госпиталь – ядерно-магнитный резонанс. В 7.30 – встреча с Меиром Шалевом. Очень плотно получается – ярмарка пополам с обследованием.
А 6 мая вечер – «Юмор и смерть». Не прелесть ли в моем положении? За круглым столом три автора: Андрей Курков, Михаил Гробман и я. Гробман край не непоследовательный. Представлен был как деятель и теоретик второго авангарда. Сначала плел околесицу, что новое убивает старое. Наивный старомодный бред. Потом прочитал свое стихотворение – чудовищно расистское, антиарабское. Было стыдно. Еще: всякий, кто сегодня заявляет, что любит Булгакова и не помню кого еще, тот идиот. Мы тонко сшиблись. Он настаивает на примате идеологии в литературе… На новом, так сказать, витке! Уже было.
Зато все свободное время я провожу в «Зеленом шатре». Первый раз в жизни название возникло раньше самого романа. Там всякие дела происходят: Лиза появляется снова. Она в расцвете карьеры. У нее дуэт с Рихтером. Гастроли. Конкурсы. Брежневская тоска. Мы попали в такое место, куда и музыка не достигает. Смерть Михи – глубокая депрессия. Лиза выходит замуж за дирижера. За немца, баварца, кажется. Пьер присылает за Саней гонца – невесту-американку. Рыдала на плече: не нужна мне шуба, не нужны мне деньги. Отчасти история Геннадия Шмакова.
Да, вот что забыла – поездку с Окунем в монастырь «Иоанна в пустыне», там трогательная детская икона Елизаветы. Кирпичная, очень старая и бедная церковка. Греческая. Они и впрямь бедны. Монахов не видели, но видели пещеру Иоанна и источники; место такое, что в нем что-то без сомнения происходило. Не пустое.
На обратном пути поели в индийской забегаловке – там было закрыто, но нам достались остатки от туристической группы, которую они кормили. Две мамаши с грудными детьми. Пока нам кофе варили, я дитенка держала, очень восхитительный.
Окунь тоже сейчас дрейфует по больницам, у него легкие, у жены – мочевой пузырь, матери Сашиной 96 лет, это тоже вроде смертельного диагноза. Все болеют, не я одна. Зато Вере Миллионщиковой лучше.
Ночью почти не просыпалась. Приливы отливают. Скоро снимут левую грудь. Боюсь, что под мышкой что-то происходит неприятное… меня беспокоит – некоторые ощущения в левой груди и в левой под мышке. Ощущение, что оно растет. Надеюсь, за оставшиеся дни далеко не вырастет. До операции три дня. Дальше буду жить без левой груди. Как минимум. И неизвестно сколько. Забота – закончить книжку.
Продолжают щупать подмышки. ЭКГ, анализ крови. Теперь все решит экспресс-диагноз. Настроение очень хорошее. Завтра ставят в груди метку – для хирурга. Сражаюсь с «Шатром».
Сделали снимок – это не диагностика, а локализация желез для удобства хирурга. Делал арабский врач или медбрат, очень хорошо. Лике все продолжает очень нравиться. И с Ликой очень хорошо. Сижу в университетском парке, в зелени и цветах, на укромной лавочке в тени и прохладе, жду Лику. За бор том +38 °С. Здесь не чувствуется. Сегодня день города – в этот день освободили Иерусалим в 1967 году. Арабы не очень празднуют, понятное дело.
13 мая. Сегодня отняли левую грудь. Технически – потрясающе. Вообще не было больно. Сегодня вечер, лежу, читаю, слушаю музыку. Анестезия гениальная плюс два укола в спину, в корешки нервов, иннервирующих грудь: их заблокировали! Боли нет. Слева висит пузырек с вакуумным дренажем. 75 мл крови. Справа – штучка-канюля для переливания. Ввели антибиотик на всякий случай.
Весь день Лика. В 7 утра приехала и до 8 вечера си дела. Ангел. И Любочка подскочила. Немыслимый, невероятный комфорт в данных обстоятельствах. И главное – в лимфоузлах при экспресс-анализе кар циному не нашли. Подмышку не трогали!
Через неделю будет подтверждение гистологическое, и тогда решат, как будут вести лечение.
Соседка по палате – воспитательница детского сада с севера, пенсионерка. Она должна была оперироваться не здесь, а в Хайфе. Но ей хотелось к Замиру, и она теоретически должна заплатить 18 тыс. шекелей за операцию (15 из них заплатила страховка, она – 3, то есть меньше 1000$). Вообще все – бесплатное. Это социальная медицина. Соседка получила тот же новейший укол. Ей не больно.
Я – коммерческая, но особая. Доктор Леша Кандель – мой знакомый, Володя Бродский, главный анестезиолог, – его друг. Все русские врачи ходят книги подписывать! Я – VIP! Всем прочим – ровно то же, но бесплатно.
Бедная Россия, 145 млн человек, которых режут без наркоза, валяют в грязи, заражают в больницах черт-те чем. Бедная Алла Белякова – у нее нашли рак кишечника, на Каширке отказали – слишком поздно! Взяли в Троицк, она счастлива. Рак этот ужасный, а сын, несчастный аутист, бедный Андрюша, что с ним-то будет? Надо узнать, что можно здесь сделать. Опять на Лику наваливать?
Груди нет абсолютно, даже выемка. Грудь мою по хоронили в специальном могильнике на кладбище Гиват Шауль. Леша Кандель туда захоранивает удаленные еврейские суставы из своего ортопедического отделения. Почему-то мусульман и христиан совершенно не интересует, где лежат их удаленные органы и части тела – вот что он сказал.
Итак, левая грудь – в земле Израиля. Начало положено!
Я у Лики дома. В квартире сильнейший ветер, что-то в кухне шуршит, падает. Я вхожу, закрываю окно и вижу на полу картинку, которая была прикреплена к холодильнику, – художница израильская Мирьям Гамбурд, выставка 2001 года в Париже. Сисястые жирные тетки дразнят Амазонку. Она стоит в центре композиции, с одной грудью, которую придерживает рукой, а вторая – отрезана. Левая. Мы обомлели. Картинка давно уже висит, до сегодняшнего дня не замечали!
Всех событий, очень содержательных, но из мистического ряда, не перечесть. Меня защищает мой мир: мои друзья, друзья друзей, родственники их, врачи – все идет мне навстречу. И первая из них всех – Лика.
…Да все равно прекрасно все сходится. Много радости на этом месте. Надо сделать экс-вото, маленькую серебряную грудь, и повесить в церкви на икону Пантелеймона или кого другого. Хотя грудь и не спас ли. Господи, так ведь сделано уже: Андреева «Половина» – и есть экс-вото!
Бедная моя грудь, я с ней долго прощалась. Она, конечно, не бог весть как себя повела, но я-то больше перед ней виновата – 17 лет гормонов.
Да, зачем я все это пишу? Дело в том, что мне надо установить новые отношения с моим телом, в первую очередь с грудью. К исходу седьмого десятка я, испытывавшая чувство вины по самым разным поводам, остро ощутила себя виноватой перед своим телом. Странно, что, всю жизнь относясь к невинному моему телу с равнодушием, даже с жестокостью, я так поздно это поняла!
Вся эта история – совершенно невероятная. Кажется, выскочу. Но если и нет – столько на этом месте прекрасного.
Вчера сообщили, что у Гали Чаликовой 4-я стадия рака яичников, с метастазами и 10 литров жидкости в животе. Я Гале позвонила и просила подумать о Хадассе. За последние месяцы – третья катастрофа: Алла Белякова, Вера Миллионщикова и вот Галя. Про себя не говорю – просто комариный укус. Душа разрывается от всего этого. Читаю «Беседы со Шнитке». Гениальные. И есть потрясающие места: «После инсульта я много не понимаю, но стал больше знать». Это – об интуитивном знании. Пожалуй, могу себе позволить немного поплакать на этом месте. Здесь город такой, что есть куда пойти поплакать, а можно и не ходить.
Через десять дней сообщили, что нужна вторая операция, так как нашли клетку в одной из пяти желез, там, где экспресс-анализ ничего не показал. На 3 июня назначена вторая операция, под мышкой. По времени она длится чуть меньше, но в принципе все то же: наркоз, тот же дренаж, то же заживление. Может, более болезненное. А потом – варианты: обязательно будет 5 лет гормона, может быть облучение локально, и худший вариант – 8 серий химиотерапии с интервалом в 2 недели, аккурат 4 месяца. Не умею не строить планы, но сейчас худшим кажется закончить лечение в октябре. Хотя есть еще много совсем плохих вариантов. Моя стадия – третья по-нашему. Метастазы под мышкой.
Сегодня Троица. Завтра день Святого Духа! Сейчас 4 часа утра, муэдзин кричит что-то невнятное радио голосом, призывая на молитву. Охотно присоединяюсь к нему.
Жду утра – надеюсь сегодня попасть к Замиру. Уже могла бы сделать перерыв на Москву, до начала химиотерапии.
Книгу все пишу-пишу, а она не кончается. Измучена и устала. Мне трудно и очень хорошо. Наполнена до предела. Открыла в YouTube Гидона Кремера (и еще два музыканта) – комические упражнения на тему классической музыки. Как Набоков о Чернышевском – мальчик играет с кадилом отца, естественная игра поповского сына. Так и эти – забавляются священными вещами. Они им свои.
Неделя в Москве. Очень тяжело. Многолюдно, много дельно, не обязательно.
Посещение Веры Миллионщиковой. У нее ремиссия. С нее сходит кожа, растут новые ногти, волосы пробиваются. Она у себя в хосписе! По праву умирающего!
Иерусалим. Прилетела накануне. Эмоций – ноль. Завтра, 3 июня – вторая операция.
Операция уже вчера. Легко. Рука не болит, если не двигать. Болит, когда делаю резкие и отводящие движения. Завтра выписывают. Жара. Сильный свет. Ясность необыкновенная. А что ясно – не могу выразить.
Эйн-КаремЧетвертый месяц живу в одном из самых волшебных мест на свете – в деревне Эйн-Карем, которая до 1948 года была арабской, а потом, в один день, после того как арабы ушли в Иорданию в день объявления независимости Израиля, стала еврейской, как две тысячи лет тому назад. Здесь родился Иоанн Креститель. Здесь встретились две самые знаменитые еврейки, мать Иисуса Мариам и мать Иоханаана Элишева. Мария и Елизавета. Здесь есть источник, у которого они встретились, есть колодец, возле которого они тоже встретились. Показывают пещеру, где вроде был дом, в котором родился Иоанн Креститель. Здесь все двоится: и мест, где встретились родственницы, несколько, и монастырь не один – Святого Иоанна на горах, Сестер Сиона, Сестер Розария и Горненский, православный. От моего любимого, Сестер Сиона – лучший вид в сторону Иерусалима. Последний раз была здесь вчера – в день Преображения Господня. Службы не было, календарь не сов падает с католиками. Но в Горненский идти было тяжело, в горку. И день вчера был какой-то рекордный по жаре – 43 градуса.
Я пришла в пустую капеллу. Потом вышла в сад – плоды здесь не освящали. Деревья плодовые стояли прекрасные, вовсе в этом не нуждаясь, – лимоны почти все зеленые, грушевое дерево, все засыпанное грушевыми лампами, и много гранатовых деревьев. Они самые красивые – почти все уже набрали свой багрово-лиловый цвет, но были и зеленые. Потрясающе – некоторые еще не перестали быть зелеными, но и не стали багровыми. Золотом отливают на солнце.
Крещеный еврей Альфонс Ратисбон из Франции основал этот монастырь сто пятьдесят лет тому назад.
Деревня Эйн-Карем – в долине. Наверху стоит огромный госпиталь Хадасса. Я там лечусь. Моя левая грудь похоронена в специальном могильнике на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме, вместе с ампутированными частями тел других пациентов больницы Хадасса. Вся остальная часть меня еще жива, отлично себя чувствует и рассчитывает еще некоторое время погулять по миру, порадоваться и подумать, как волшебно интересно устроена жизнь.
У меня еще есть время подумать о происшедшем со мной. Теперь делают химиотерапию. Потом еще будет облучение. Врачи дают хороший прогноз. Посчитали, что у меня много шансов выскочить из этой истории живой. Но я-то знаю, что никому из этой истории живым не выбраться. В голову пришла замечательно простая и ясная мысль: болезнь – дело жизни, а не смерти. И дело только в том, какой походкой мы выйдем из того последнего дома, в котором окажемся.
Здесь еще возникает большая тема – страдания. Я об этом все время думаю, еще до конца не додумала. Но направление мысли таково, что ни один православный священник не одобрит: страдание то, чего не должно быть. А то, что из страдания может родиться доблесть терпения и мужества, – побочный продукт. Потом к этому вернусь.
Я снимаю сейчас маленький арабский дом в одну комнату. Он построен на крыше другого арабского дома, большого и невероятно красивого. Это один из самых красивых домов, который я в жизни видела. Как, должно быть, горюют о нем те арабы, которые покинули его в одночасье.
Израиль склоняет к размышлениям. Сюжет этой страны – неразрешимость. Минное поле людей и идей. Минное поле истории. Десятки истребленных народов, сотни ушедших языков и племен. Колыбель любви, место добровольной смерти.
Это земля Откровения. Я это знаю. Но откровения случаются и в других местах. Где угодно. История начинается в любой точке…
Книга моя все не кончается. Я не помню, чтобы я ее писала. Я ее все время заканчиваю. Но после третьей химии работать я уже не могла. Не могла читать. Не могла спать. Стояла сильная жара. Но в Москве, да и по всей России жара была еще тяжелее. Сын Петя с семьей оставался в городе. Уехать не смогли: то не было билетов, то сил, то места, куда ехать. В доме двое маленьких детей. Из квартиры почти не высовывались. Поставили кондиционер. Стоял такой смог, что соседнего дома видно не было. Меня это сильно удручало – я бы хотела, чтобы они приехали в Израиль, но паспортов иностранных у них тоже не было. Перерывы между вливаниями химии трехнедельные, я было собралась лететь домой, налаживать детскую жизнь, но все меня отговаривали. Так я и провела еще полтора месяца в Эйн Кареме. Самые тяжелые недели я со своей крыши почти не спускалась. Навещали друзья, привозили еду, на которую даже и смотреть не могла. Все потеряло вкус: ощущение, что жуешь вату. Тут произошло чудо. Последние месяцы я очень много слушала музыку – отчасти по профессиональной необходимости. Герой моей книги – музыкант, и мне важно было прожить эту часть его внутренней жизни, и я много прочитала всяких книг, имеющих отношение к музыке. Но теперь химия меня придавила так, что только лежала как дохлая рыба. Ничего не могла. Только слушать музыку. И стала слушать практически круглосуточно.
Я всегда знала границу своих возможностей: заброшенная лет в десять музыкальная школа и радость освобождения от нотного насилия на много лет определили мои взаимоотношения с инструментом: пианино обходила стороной – как орудие детской пытки. Лучшее, что осталось от тех лет, – чудесная музыкальная разноголосица, когда идешь по коридору школы, и из каждой двери своя музыкальная фраза, и вместе они сливаются в дивный шум, в котором все сразу, и каждый раз новое. И еще мне нравилось сочинять – такие маленькие пьески задавала учительница, и это было самое интересное. Словом, прошло лет десять, прежде чем я заново услышала музыку. Не Бетховена и не Шуберта я расслышала тогда – Скрябина и Стравинского, Прокофьева и Шостаковича. Ходила на концерты в Скрябинский музей, Малера там слушала: это было здорово и страшно модно. Словом, музыка была некоторой культурной составляющей жизни в ряду многого другого. Но я всегда знала за собой, что хожу только по опушке прекрасного леса, а в глубину его не попадаю.
Здесь, в Эйн Кареме, что-то произошло со мной: открылись новые возможности восприятия. Может, химический яд, которым я вся была пропитана, растворил попутно пленку, которая не пропускала ко мне музыку. Словом, произошел прорыв. В ночной жаре, на раскаленной крыше я слушала и слушала. Саша Окунь снабжал меня прекрасными дисками, а лучшего проводника в этом лесу найти невозможно. Лика привезла проигрыватель, там, в Израиле, у него был отличный звук, но при переезде в Москву потом оказалось – неважный… Или это снова закрылись мои уши? Кажется, нет. «Искусство фуги» в исполнении Фейнберга – лучше рихтеровского, на мой вкус, прослушала не знаю сколько раз, и столь ко же раз сонаты Бетховена, и Шуберта, и Гайдна, и много-много… Отрава вымывалась из меня музыкой. А когда я пришла в себя, поехала в Москву. А потом вернулась, чтобы получить еще и облучение. В эти недели, лысая, слабая и веселая, я снова взялась за книжку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?