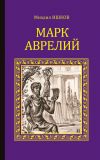Автор книги: Сергей Цветков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)

Едва Роланд в сознание пришел,
Оправился и сил набрался вновь,
Как он увидел, что проигран бой:
Все войско христиан костьми легло…
«Песнь о Роланде»
Это погребение происходило незадолго до того дня, который похоронил все надежды крестоносцев на успешное завершение похода. Иерусалим оказался недосягаем для воинства Ричарда. Причина неудачи крылась даже не в недостатке военных средств для захвата города, а в своеобразной психологии крестоносцев, о которой Амбруаз замечает: «Если бы даже город был взят, – это было бы гибельным делом: он не мог бы быть тотчас заселен людьми, которые в нем бы остались. Потому что крестоносцы, сколько их ни было, как только осуществили бы свое паломничество, вернулись бы в свою страну, всякий к себе домой. А раз войско рассеялось, земля потеряна». Таким образом, Ричард оказался в странном лабиринте, все ходы которого в равной степени удаляли его от цели. Бароны один за другим покидали его, солдаты жаловались на усталость; из Европы приходили вести о том, что Филипп вторгся во французские владения Ричарда, а брат Иоанн готовит ниспровержение его власти в Англии. Наконец предательства и новые приступы болезни сломили волю короля.
«Король был в Яффе, беспокойный и больной, – пишет Амбруаз. – Он все думал, что ему следовало бы уйти из нее ввиду беззащитности города, который не мог представить противодействия (Саладину). Он позвал к себе графа Анри, сына своей сестры, тамплиеров и госпитальеров, рассказал им о страданиях, которые испытывал в сердце и в голове, и убеждал их, чтобы одни отправились охранять Аскалон, другие остались стеречь Яффу и дали бы ему возможность уехать в Аккру полечиться. Он не мог, говорил он, действовать иначе. Но что мне сказать вам? Все отказали ему и ответили кратко и ясно, что они ни в каком случае не станут охранять крепостей без него. И затем ушли, не говоря ни слова… И вот король в великом гневе. Когда он увидел, что весь свет, все люди, нечестные и неверные, его покидают, он был смущен, сбит с толку и потерян. Сеньоры! Не удивляйтесь же, что он сделал лучшее, что мог в ту минуту. Кто ищет чести и избегает стыда, выбирает меньшее из зол. Он предпочел просить о перемирии, нежели покинуть землю в великой опасности, ибо другие уже покидали ее и открыто садились на корабли. И поручил он Сафадину, брату Саладинову, который очень любил его за его доблесть, устроить ему поскорее возможно лучшее перемирие… И было написано перемирие и принесено королю, который был один, без помощи в двух милях от врагов. Он принял его, ибо не мог поступить иначе… А кто иначе расскажет историю, тот солжет…»

Сеньор и государь,
Владения мои, и весь мой край,
И Сарагосу я вручаю вам.
Я и себя и рать сгубил вчера.
«Песнь о Роланде»

Герб Ричарда Львиное Сердце
Условия перемирия отражали тот глубокий упадок духа, в котором пребывал брошенный своими союзниками король. Иерусалим остался в руках сарацин, христиане сохранили за собой только узкую полоску земли между Тиром и Яффой; Саладин удержал у себя пленных крестоносцев. Но в конце переговоров, сообщает Амбруаз, «король не смог смолчать о том, что было у него на сердце. И велел он сказать Саладину (это слышали многие сарацины), что перемирие заключается им на три года: один ему нужен, чтобы вернуться к себе, другой – чтобы собрать людей, третий – чтобы вновь явиться в Святую землю и завоевать ее». Саладин без тени иронии ответил ему, что высоко ценит его мужество, великое его сердце и доблесть и что, если суждено его земле быть завоеванной при его жизни, он охотнее всего увидит ее в руках Ричарда.

Когда король уезжал, многие провожали его со слезами нежности, молились за него, вспоминая его мужество, его доблесть и великодушие.
Они говорили: «Сирия остается беспомощной». Король, все еще очень больной, простился с ними, вошел в море и открыл паруса ветру. Он плыл всю ночь при звездах. Утром, когда занялась заря, он обернулся лицом к Сирии и сказал: «О, Сирия! Вручаю тебя Богу. Если бы дал Он мне силы и время, чтобы тебе помочь!»
Ричард покинул Яффу 9 октября. Через два с половиной месяца его корабль потерпел крушение у берегов Адриатики. Король решил ехать дальше инкогнито через владения австрийского герцога, которому некогда нанес тяжелое оскорбление в Аккре. Отпустив густую бороду и длинные волосы, в сопровождении только одного спутника, Ричард добрался до Вены.
Здесь его спутник, пытавшийся разменять деньги, был узнан слугой герцога, схвачен и отведен к Леопольду. Под пыткой он указал место, где остановился Ричард. Короля арестовали спящим; он, однако, настоял на том, что отдаст свой меч только в руки самого герцога.

Да не послужит сталь твоя неверным.
Пусть лишь христианин тобой владеет,
Пусть трус тебя вовеки не наденет!
«Песнь о Роланде»

Ричарда заточили в замок Дюренштейн на Дунае. Рассказывают, что его друзья и слуги долго безуспешно искали его. Темницу его будто бы открыл трувер Блондель, случайно запевший под его окном песню, сложенную им когда-то вместе с Ричардом. Допев первый куплет, он услышал, как кто-то с вершины башни подхватил второй. Изумленный Блондель поднял голову и узнал короля, стоявшего у окна.
Германский император отобрал пленника у герцога и поместил его в эльзасский замок Трифель, о котором молва утверждала, что из него никто не вышел живым. Последовали долгие переговоры о выкупе. Когда соглашение о сумме выкупа было достигнуто, Филипп, Иоанн и другие враги Ричарда попытались перекупить пленника, и лишь вмешательство Церкви помешало императору нарушить договор. Но громче всех об освобождении Ричарда взывали поэты Англии и Франции. Их гневные голоса клеймили его тюремщиков и вызывали сочувствие к плененному герою. Провансальский трубадур Пьер Видаль писал:
Домой без опасенья Ричард ехал,
Как император, думая нажиться
На выкупе, им овладел коварно.
Проклятье, Цезарь, памяти твоей!
Ричард ответил славным певцам собственной песней:
Напрасно помощи ищу, темницей скрытый.
Друзьями я богат, но их рука закрыта,
И без ответа жалобу свою
Пою…
Как сон, проходят дни. Уходят в вечность годы…
Но разве некогда, во дни былой свободы,
Повсюду, где к войне лишь кликнуть клич могу,
В Анжу, Нормандии, на готском берегу,
Могли ли вы найти смиренного вассала,
Кому б моя рука в защите отказала?
А я покинут!.. В мрачной тесноте тюрьмы
Я видел, как прошли две грустные зимы,
Моля о помощи друзей, темницей скрытый…
Друзьями я богат, но их рука закрыта,
И без ответа жалобу свою
Пою!..
Конечно, жалобы на равнодушие мира были только элегическим преувеличением. Ричард знал, что его друзья действовали за него повсюду. Наконец настал день, когда Филипп в ужасе написал Иоанну: «Берегитесь! Дьявол выпущен на свободу!» Действительно, Ричард вырвался из тюрьмы, как стремительный поток, прорвавший плотину, увлекая за собой всех недовольных властной политикой Капетинга. Вместе с ним против Филиппа поднялись Нормандия и Анжу, Аквитания и Фландрия, Бретань, новый германский император Отто Брауншвейгский и Иоанн, внезапно вспомнивший о братских узах, связывавших его с Ричардом… Их войска опустошали все на своем пути, «не оставляя собаки, которая лаяла бы им вслед». В битве при Фретевале Филипп потерял свои архивы и свою казну. В сражении между Курселем и Жизором он бежал, преследуемый Ричардом, «точно голодным львом, почуявшим добычу»; у ворот Жизора он едва не попал в плен, упав с моста в волны Эпты и «напившись ее воды». В конце 1198 года «Ричард так его прижал, что он не знал, куда повернуться; он вечно находил его перед собою».
Ураган утих так же внезапно, как и начался. Папский легат, приехавший к Ричарду от имени Филиппа вести переговоры о мире, вначале услышал от него гневные слова: «Не будет он владеть моими землями, пока я держусь на коне. Можете ему это сказать!» Легат осторожно возразил: «Вспомните, какой грех совершаете вы этой войной. В ней гибель Святой земли… Ей грозит уже конечный захват и опустошение, а христианству конец». Напоминание о Иерусалиме тотчас смирило грозу в сердце Ричарда. Он склонил голову и с горечью произнес: «Если бы оставили в покое мою державу, мне не нужно было бы возвращаться сюда. Вся земля Сирии была бы очищена от язычников…». Переговоры закончились согласием Ричарда на пятилетнее перемирие.
С этой минуты Святая земля вновь всецело завладевает мыслями Ричарда. И если три месяца спустя мы все еще видим его в Аквитании, под стенами замка Шалю, то лишь потому, что он явился сюда усмирить непокорного лиможского виконта Адемара V, которого подозревал в утайке половины сокровищ покойного Анри II. Мы уже знаем, с какой обстоятельностью готовился Ричард к походу в Святую землю. Лиможское золото должно было стать финансовой базой его новых приготовлений.

Но именно здесь, в наследственной, «материнской» земле, на вершине его успехов, в чаянии небывалых замыслов и свершений, непредвиденная случайность оборвала нить его жизни. Или это была не случайность, а непреложная закономерность в судьбе того, кто, по словам Геральда Камбрезийского, властно пробивая пути в грядущее, «вступает только на пути, политые кровью»?
Роджер Ховденский так рассказывает о смерти Ричарда:
«Пришел король Англии с многочисленным войском и осадил замок Шалю, в котором, так он думал, было скрыто сокровище… Когда он вместе с Меркадье[31]31
Меркадье – один из военачальников Ричарда.
[Закрыть] обходил стены, отыскивая, откуда удобнее произвести нападение, простой арбалетчик, по имени Бертран де Гудрун, пустил из замка стрелу и, пронзив королю руку, ранил его неизлечимой раной[32]32
Стрела, очевидно, была отравлена.
[Закрыть]. Король, не медля ни минуты, вскочил на коня и, поскакав в свое жилище, велел Меркадье и всему войску атаковать замок, пока им не овладеют…»
«А когда замок был взят, велел король повесить всех защитников, кроме того, кто его ранил. Ему, очевидно, он готовил позорнейшую смерть, если бы выздоровел. Ричард вверил себя рукам врача, служившего у Меркадье, но при первой попытке извлечь железо тот вытащил только деревянную стрелу, а острие осталось в теле; оно вышло только при случайном ударе по руке короля. Однако король плохо верил в выздоровление, а потому счел нужным объявить свое завещание». В последние минуты им овладел столь характерный для него порыв великодушия. «Он велел привести к себе Бертрана, который его ранил, и сказал ему: „Какое зло сделал я тебе, что ты меня убил?”

Ты смерть несытая! Еще не видел свет
Столь славной жертвы от твоей руки…
Бертран де Борн
Тот ответил: „Ты умертвил своею рукою моего отца и двух братьев, а теперь хотел убить меня. Мсти мне как хочешь. Я охотно перенесу все мучения, какие только ты придумаешь, раз умираешь ты, принесший миру столько зла“. Тогда король велел отпустить его, говоря: „Смерть мою тебе прощаю…“
И, развязав оковы, пустил его, и король велел дать ему сто солидов английской монеты… Но Меркадье без его ведома снова схватил Бертрана, задержал и по смерти Ричарда повесил, содрав с него кожу…

Многие трубадуры, вдохновленные отвагой Ричарда, воспели его великие деяния
А умирающий король распорядился, чтобы мозг, кровь и внутренности его были похоронены в Шарру, сердце – в Руане, тело же – в Фонтевро, у ног отца…
Так умер он в восьмой день апрельских ид, во вторник, перед вербным воскресеньем. И похоронили его останки там, где он завещал».
Добросовестность биографа заставила Роджера Ховденского собрать в своей хронике около дюжины эпитафий, похвальных и злобных, появившихся после смерти Ричарда. Одна из них звучит так:
«Муравей загубил льва. О горе! Мир умирает в его погребении».
Другая – так:
«Жадность, преступление, безмерное распутство, гнусная алчность, неукротимая надменность, слепая похотливость дважды пять лет процарствовали. Их низверг ловкий арбалетчик искусством, рукою, стрелой».
Первая из них принадлежит, наверное, кому-то из сподвижников Ричарда; вторая – смиренной монахине, быть может, изнасилованной каким-нибудь воином Ричарда или самим королем во время одного из его походов. «Сказать правду, – пишет трубадур Госельм Феди, – во всем мире одни его боялись, другие любили».
Меня трудно уверить в том, что эти слова сказаны не о каждом из нас.

Наш век исполнен горя и тоски,
Не сосчитать утрат и грозных бед.
Но все они ничтожны и легки…
Бертран де Борн
Одиночество королей
Умираю, оттого что не умираю.
Святая Тереза
I
Карлос II, последний отпрыск габсбургского дома в Испании, родился от брака Филиппа IV с Марией-Анной Австрийской, его племянницей. Появление на свет хилого младенца, зачатого исключительно ради интересов престолонаследия, не вызвало радости ни у одного из супругов, чуждых друг другу. Когда его красновато-лиловое тельце, тщательно вымытое и вытертое, поднесли королеве, она, захлебнувшись злобными, истеричными рыданиями, оттолкнула того, кто доставил ей столько страданий; а Филипп, подведенный к люльке инфанта, не выразил на своем одеревеневшем, похожем на маску лице никаких чувств и только оглядел ребенка неподвижно-сонным взглядом, неопределенность которого столь изумляла современников (Филипп родился в страстную пятницу и, по народному суеверию, обладал способностью видеть на месте, где когда-то произошло убийство, тело убитого; странную рассеянность его взгляда, не сосредоточенного ни на чем и в то же время объемлющего все, объясняли желанием избежать постоянного созерцания трупов). В эту минуту веки младенца приоткрылись, и король встретил взгляд еще более сонный, еще более оцепенелый. Филипп медленно отвел глаза и с тех пор ни разу не посмотрел в лицо инфанту.
И кажется, что все приметы,

Какие бедствием грозят,
Свершились при его рожденьи…
Педро Кальдерон де ла Барка,
«Жизнь есть сон»
Половина мира – королевство Неаполитанское, герцогство Миланское, Сардиния, Сицилия, Фландрия, огромный берег Африки, царство в Азии со всем побережьем Индийского океана, Мексика, Перу, Бразилия, Парагвай, Юкатан, бесчисленные острова во всех океанах отпраздновали вместе с Испанией рождение наследника огромной империи, в которой по-прежнему, как и сто пятьдесят лет назад, никогда не садилось солнце. На балах и карнавалах, шествиях и маскарадах, в церквах и капищах белые, красные, черные, желтые люди славили далекого божественного младенца, чье будущее величие и могущество должны были бросить хоть слабый отсвет счастья на их покорно-веселые лица. Но уродец с сонными глазами так и не узнал об этих надеждах неведомых ему людей. В течение всей своей жизни Карлос II ни разу не поинтересовался, сколько у него подданных, в каких частях света они живут и чего они желают. Позднее, когда Франция, Англия, Голландия отнимали их у него, он думал, что потерянные земли принадлежат какому-то другому государству.

Здоровье инфанта было настолько слабым, его рахитичное тельце так истощено, что до пяти лет он ходил, опираясь на нянек. Золотуха и лихорадка поочередно завладевали им и отпускали только для того, чтобы передать его друг другу из рук в руки.
Лучшие врачи медицинских кафедр Саламанки и Болоньи сменялись у постели инфанта, прописывая ему лечение по испытанным рецептам Галена, Авиценны и Парацельса[33]33
Гален (ок. 130 – ок. 200) – древнеримский врач. Его взгляды оказывали большое воздействие на европейскую медицину до XVI-XVII вв.; Авиценна (Ибн Сина; ок. 980-1037) – среднеазиатский ученый, философ, врач, чьи философские и медицинские трактаты были чрезвычайно популярны как на Востоке, так и на Западе; Парацельс (1493-1541) – врач и естествоиспытатель. Способствовал пересмотру идей древней медицины. Внедрял в медицину химические препараты.
[Закрыть]. Потный, задыхающийся мальчик послушно глотал с золотых ложек горькие снадобья, далеко оттопыривая унаследованную от отца толстую нижнюю губу, и без того безобразно отвисавшую на сильно выпяченной челюсти. Врачи заглядывали ему в лицо, стараясь угадать по его выражению течение болезни, но встречали всегда один и тот же сонно-мертвенный взгляд, бессильный выразить даже страдание.
С еще большим усердием врачевала душу и тело мальчика Церковь. При первых признаках недомогания трое монахов-доминиканцев окружали постель инфанта и вступали в бессонную борьбу с одолевавшими его бесами, день и ночь читая псалмы и молитвы и кропя простыни святой водой. Суровая решимость их лиц, непонятные слова, загадочные жесты – все это одновременно манило и ужасало мальчика своей торжественной таинственностью. Он не понимал, зачем они находятся подле него и чего ему следует ждать от них. Эти три неизменных спутника его лихорадок не причиняли мучений, как доктора, не доводили до слез, как воспитательницы-дуэньи; Карлос не испытывал облегчения от молитв монахов, но и стыдился плакать в их присутствии. Он видел, с каким почтением относятся к ним взрослые, в том числе отец с матерью, и догадывался, что над ним совершается нечто очень важное, чему он обязан беспрекословно подчиниться, и это чувство осталось в нем на всю жизнь. Часто, проснувшись ночью от жажды, он закрывался с головой одеялом и лежал так до самого утра, не смея прервать псалмопения и попросить воды.

Ведь самый величайший грех
Для человека есть родиться.
Педро Кальдерон де ла Барка,
«Жизнь есть сон»

Филипп IV. Портрет работы Диего Веласкеса. 1644 г.
Родителей Карлос видел редко, они мало интересовались им. Филипп IV с годами впал в почти неправдоподобную меланхолию (старики придворные уверяли, что он смеялся не больше трех раз в жизни), к которой примешивалось острое чувство отвращения ко всему, что так или иначе связано с людьми, – чувство, ставшее наследственным у испанских Габсбургов. Король избегал встреч с кем бы то ни было, надолго уединялся в своем кабинете или неделями не возвращался с охоты. К жизни и воспитанию инфанта он был совершенно равнодушен, иногда месяцами не видел его, а если случайно сталкивался с сыном, гулявшим по коридорам дворца в сопровождении двух-трех дуэний, то молча выслушивал их торопливый рассказ об успехах наследника в благочестии, все время глядя куда-то поверх головы сына, и, дрогнув оттопыренной нижней губой, шел дальше. Дуэньи застывали в почтительном реверансе и затем возобновляли обмен сплетнями, не упуская из виду воспитанника и поминутно одергивая его замечаниями.

Карлос проводил целые дни, выдумывая, каким образом подластиться к отцу при следующем свидании, но, когда им снова случалось встретиться, беспомощно терялся от страха перед ним и прятал свое отчаяние под броней тупой одеревенелости.
Что касается королевы, то Мария-Анна принадлежала к той породе австрийских принцесс, ханжей и интриганок, чьи властолюбивые вожделения столько раз разоряли Европу. Будучи вынужденной подчиниться матримониальной политике своей семьи, оказавшись в расцвете молодости на окраине Европы, королевой самого угрюмого двора, она сочла себя жертвой и затаила ненависть ко всем и вся. Она завидовала сестрам, сделавшим более удачный выбор, и поэтому натравливала Испанию и другие государства против тех стран, в которых они стали королевами; она ненавидела своего супруга за то, что он не мог доставить ей радости ни в придворных развлечениях, которых не было, ни в постели, которой он избегал (ночным ложем ему часто служил специально для этого заказанный гроб); она ненавидела уродца ребенка, с отвращением зачатого и со стыдом рожденного; она презирала саму Испанию – ее нищету, ее славу, ее гордость. Мария-Анна чувствовала, что корона испанской королевы, словно тяжелый камень, увлекает ее в бездну злобы, тоски и отчаяния.

А кто в несчастия такие
Отчизну ввергнет, государем
Великодушным быть не может.
Педро Кальдерон де ла Барка,
«Жизнь есть сон»
С первого дня своего замужества она готовилась стать вдовой и регентшей, пустив в ход самые беспринципные средства, чтобы обеспечить себе поддержку дворянства и духовенства. Пытаясь привлечь на свою сторону Церковь, королева поддерживала притязания инквизиции на расширение ее прав в светском судопроизводстве. На исповеди и в духовных беседах со своим духовником-иезуитом отцом Нитардом она жаловалась на упадок рвения к делам веры в стране, сокрушенно вздыхала о том, что ее августейший супруг идет на недостойные христианина компромиссы с морисками и маранами[34]34
Мориски, мараны – испанское название крещеных мусульман и иудеев.
[Закрыть], нисколько не сомневаясь в том, что ее жалобы и сокрушения дойдут до тех ушей, для которых они предназначались. Ее домашний шпион и платонический любовник Валенцула питал дворянскую среду слухами о благосклонном отношении Марии-Анны к введению новых привилегий для дворянства в ущерб кортесам (сословно-представительному собранию) и городам и вербовал сторонников среди самых знатных фамилий, не скупясь на обещания. Маленькому Карлосу в честолюбивых замыслах его матери отводилась роль послушного заложника, постоянные недомогания которого могли служить удобным доводом в пользу продления регентства. Карлос инстинктивно чуждался Марии-Анны и всегда начинал плакать, если ей приходило в голову приласкать его.

Маленький Карлос рос болезненным ребенком и был лишен заботы родителей. Картина Себастьяна де Эррера Барнуэво. Ок. 1670 г.

Болезненное детство Карлоса прошло на женской половине дворца, под придирчивым надзором дуэний. Эти церберы этикета и благочестия не ведали ни снисходительности к летам воспитанника, ни сострадания к его одиночеству; слова ласки и одобрения были у них не в ходу.
Им была предоставлена безраздельная власть над Карлосом, и они пользовались ею в полной мере. Их суждения были непререкаемы, наказания неотвратимы. Рано обнаружившаяся умственная отсталость инфанта нисколько не смягчала их требований к нему, напротив, это обстоятельство только усиливало строгость надзора. Общество этих чопорных, облаченных в глухие черные платья старух было порой невыносимо, но Карлос ни разу не взбунтовался против него. Подчиняться им было для него так же естественно, как пить, есть и спать. Не будучи в силах понять и усвоить преподносимые ему наставления и запреты, внутренне содрогаясь от ожидания возмездия за свою непонятливость, он не допускал и мысли о том, чтобы обратиться к ним за разъяснениями, и бессознательно искал спасения и самооправдания в своем тупоумии. Он защищался им от жестокости взрослых, выставляя его напоказ, как молчаливый призыв к милосердию и справедливости.

…и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц – истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного.
Мигель Сервантес де Сааведра,
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

Мария3Анна Австрийская хотела поскорей избавиться от мужа и стать регентшей, и ее мечты сбылись
Между тем мечты Марии-Анны сбылись: Филипп IV скончался в 1665 году, оставив ее регентшей при малолетнем Карлосе. Мария-Анна сумела остаться благодарной, и Филипп занял свое место в фамильном склепе Эскориала с подобающей случаю пышностью. Когда Карлоса подвели проститься с отцом, он вел себя на удивление спокойно – не испугался ни торжественной обстановки, ни ставшего незнакомым отцовского лица, ни ледяных, бескровных губ покойника, которые поцеловал не поморщившись. Вместо страха и растерянности Карлосом в эти минуты владело необыкновенное умиротворение, пронизывавшее сладостной истомой все тело. Ослепленный пламенем сотен свечей, стократно отраженном в золоте церковного убранства, вознесенный куда-то ввысь дивной мелодией хора, он чувствовал, что мучительная, притягательно-страшная загадка, обозначаемая словом «смерть», каким-то непостижимым, но легким и радостным образом разрешена здесь, в этом храме, с помощью этих свечей, икон, распятий, этого напева, строгих и величественных движений руки епископа; что и его собственная душа, отрешившаяся от всего земного и именно в этом своем отрешении объемлющая весь мир, готова ринуться в манящую, освобождающую пустоту…
Когда мы в самом деле спим

И жизнью нашей только грезим.
(…),
В чудесном мире пребывая,
Где наша жизнь есть только сон.
Педро Кальдерон де ла Барка
«Жизнь есть сон»
Карлос не забыл этого ощущения своей всепричастности миру перед лицом небытия. При первом же посещении Эскориала после смерти отца он сразу попросил отвести себя в королевскую усыпальницу, ставшую с тех пор его излюбленным местом уединения. Здесь, в прохладном сумраке огромного зала, возле гробниц почивших предков бремя одиночества переставало давить на него, оно представлялось ему понятным и спасительным избранничеством, утешительным даром вечности. Чарующее величие смерти обнажало ничтожество земных страданий и наполняло его душу смирением и любовью. Несколько месяцев, последовавших после смерти Филиппа IV, стали одними из счастливейших в его жизни. Карлос на время почувствовал почву под ногами, его здоровье пошло на поправку, разум начал проясняться.
Новые происшествия при дворе прервали наметившееся улучшение.

Медлительность Марии-Анны в выполнении своих обещаний, засилье никчемных фаворитов, проавстрийская политика, обернувшаяся военными неудачами, – все это вызвало открытое недовольство грандов и сплотило их вокруг незаконнорожденного принца. Вначале борьба велась истинно испанскими методами: Нитард обвинил дона Хуана в сочувствии лютеранству и начал против него процесс по подозрению в ереси. Однако бойкий иезуит перестарался. Его благочестивое рвение вызвало ревность у святейшей инквизиции, недолюбливавшей приверженцев ордена Святого Игнатия[36]36
Игнатий Лойола (1491?-1556) – испанский дворянин, основатель ордена иезуитов.
[Закрыть]. Уступая давлению Великого инквизитора и епископата, заподозривших в ереси самого Нитарда, Мария-Анна лишила своего духовника августейшего доверия – Нитард пал.
Враги королевы осмелели. Паутина интриг, которой она опутала двор, лопалась то здесь, то там, переход бывших союзников во вражеский стан сделался повсеместным. Почувствовав шаткость своего положения, Мария-Анна отказалась от открытого столкновения и перенесла борьбу туда, где ее права не могли быть оспорены – в область материнской заботы о юном короле. В ее голове родился план, дьявольская сущность которого и составляла основу его привлекательности. Неуязвимость оппозиции заключалась в том, что она прикрывалась, как щитом, именем того, чьи интересы якобы защищала, – и этим щитом был ее сын Карлос, придурковатый ребенок, немощный, болезненный и зависимый пока что только от нее. Следовало превратить эту временную зависимость в постоянную, пожизненную.

Болезненная мнительность сына была ее главным козырем в этой игре: Карлос должен был почувствовать себя одержимым, и тогда вопрос о продлении ее опеки над ним стал бы решенным делом. И мать сделала все для того, чтобы вызвать у сына душевное расстройство.
Строгость его содержания была многократно усилена, Карлос был отдан в руки монахов, наиболее сведущих в искусстве исцеления одержимых; они были заранее предупреждены о том, что король страдает этим самым распространенным евангельским недугом. Монахи приступили к осаде беса со знанием дела, по всем правилам, установленным в подобных случаях отцами Церкви. Целыми днями целители внушали Карлосу, что его тело стало жилищем нечестивого; они растолковали мальчику его вину, заставили его почувствовать свой грех, запугали вечными карами. Они распространили враждебность и отчуждение, которые Карлос чувствовал вокруг себя, – в лицах, словах, жестах, вещах, – на единственный островок, до сих пор остававшийся недоступным этим чувствам – на него самого.

И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии.
Мигель Сервантес де Сааведра,
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
Карлос потерял доверие к самому себе и ужаснулся этой потере. Двери светского рая захлопнулись за ним, он ощутил вину своего существования. Всякая радость, даже самого невинного свойства, была изгнана из его покоев и осуждена, как ведущая к погибели души; посты, казуистика исповеди и упражнения в истязании плоти сделались немногими разрешенными ему развлечениями. Его организм снова пришел в расстройство, слабый разум окончательно рухнул под гнетом чертовщины испанского благочестия. Иногда по ночам, прислушиваясь к потрескиванию свечи перед распятием и невнятному бормотанию монаха над раскрытым требником, Карлос вдруг начинал слышать голоса, поначалу также глухие и неразличимые, но постепенно усиливавшиеся и оглушавшие его режущим визгом и хохотом. Он натягивал на голову одеяло, зарывался в подушки, но ад разрастался вокруг него, завывая, визжа и скрежеща на тысячи ладов, потом все обрывалось… Карлос дрожащими ногами искал под постелью туфли; найдя, подходил к монаху, становился рядом с ним на колени и проводил так остаток ночи…

Лечение возымело действие – Карлос действительно почувствовал себя одержимым. Когда он впервые до жуткости ясно представил и ощутил в себе присутствие враждебного существа, с ним случился припадок. Карлос вновь ощутил дыхание смерти, но теперь ее близость не приносила ему умиротворения.
Получив известие о припадке у сына, Мария-Анна быстро отвернулась к окну, боясь обнаружить свою радость в обществе придворных дам. В комнате Карлоса она встретила дона Хуана. Королева и принц встали по обе стороны постели, на которой распласталось неподвижное тело Карлоса, с ненавистью глядя друг на друга. Казалось, только ширина кровати мешает каждому из них вцепиться в глотку своего врага. А Карлос, закрыв глаза, умолял беса оставить его и перейти жить в тело какого-нибудь другого человека, все равно какого, все равно…
Однако расчеты Марии-Анны не оправдались. Карлос ускользал из-под ее влияния. Припадки больше не повторялись, а вступление короля в отроческий возраст позволило дону Хуану предъявить мужские права на его воспитание: Карлос начал присутствовать на придворных собраниях, в государственном совете, пристрастился к охоте. Мало-помалу дону Хуану удалось вырвать его из ненавистного гинекея[37]37
Гинекей – название женской половины дома у древних греков.
[Закрыть] и показать прелести мужской свободы. Это решило исход борьбы. Едва дождавшись совершеннолетия, Карлос подписал давно заготовленные доном Хуаном указы. Регентство было прекращено, владычество фаворитов свергнуто, Мария-Анна изгнана в Толедо. Карлос II начал свое призрачное царствование.
К этому времени расслабленность овладела им совершенно. Его мучили головные боли, желудочные и дыхательные катары, нервные расстройства с периодами светобоязни. Все наследственные признаки вырождения испанской ветви Габсбургов нашли в нем свое последнее выражение. Обвинение, предъявленное им природой, читалось во всей внешности Карлоса. Безобразность его невысокой рахитичной фигуры с выпирающим брюшком и сухопарыми кривыми ножками бросалась в глаза при любом костюме. Постоянный темный цвет его платья неприятно оттенял нечистую кожу лица и рук. Испорченное строение челюсти выносило далеко вперед острый подбородок и оттопыренную толстую губу, делая их продолжением хищной линии носа. Длинные белокурые волосы, оставлявшие лоб открытым, и отсутствие бровей придавало сонному взгляду голубых глаз особую мертвенность. Казалось, что Карлос заснул еще в утробе матери и никак не может пробудиться к жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.