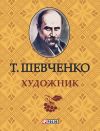Текст книги "Потерянный взвод"

Автор книги: Сергей Дышев
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Он фыркнул – дождевая вода попала в рот. А Шевченко поднялся, аккуратно прислонил автомат к камню.
– Козлов, знаешь, что такое благородство? – Ротный повернулся к сержанту.
– Какое может быть благородство, – Козлов хмыкнул, – здесь, в Афгане?
– Я не удивлюсь, если у тебя вырастут клыки. Ты уже не человек, – спокойно и тихо сказал Шевченко.
– Ну, да, конечно…
– Ты кровавый щенок, Козлов… На войне тоже надо быть человеком…
Шевченко ухватил сержанта за рукав повыше локтя, он бросал слова, тяжелые, будто ошметки лавы, лицо его кривилось, Козлов оторопело внимал ему. Худая мыслишка пришла и тут же ушла: «Нехорошо стоит ротный, перехватить его руку – бросок через бедро…»
– Разве здесь жизнь чего-то стоит? – Козлов пристально посмотрел на ротного. С носа у сержанта капала вода. – Ваша? Или прапорщика, в которого вы стреляли?
– Ты видел? – безразлично спросил Шевченко.
– Я стрелял вторым…
– Скажи, Козлов, только честно… Почему разбился Трушин? Теперь я уверен, что было все не так.
Козлов наклонился, поднял каску, отпил из нее собравшиеся дождевые капли.
– Мы пошли в пещеру, – глухим голосом заговорил Козлов. – И по пути сцепились. Трушин сказал, что я – ваш холуй. Мы сцепились и стали бороться. А рядом, совсем вот-вот – обрыв. И я понял: или он, или я.
– А потом сбросил вниз его автомат?
– Да…
– Он упал слишком далеко от тела.
– Я не хотел, чтобы его ударило автоматом. Я не хотел его убивать, хотя страшно ненавидел за Татарникова.
– Прокуроры сюда не ходят. А Господь Бог, может, и простит…
Сверху зашуршал щебень, хромая, спустился Шарипов.
– Товарищ капитан, а правда, что вы от нас уходите?
Шевченко провел рукой по мокрому лицу, вытер капли с усов.
– Ты скажи, Шарипов, почему вы вовремя не развернулись?
Шарипов переменился в лице, пожал плечами. Потом сосредоточенно стал рыться в карманах, достал пачку, завернутую в целлофан, вытащил полувыпотрошенную сигарету, целлофан спрятал, а пачку выбросил.
– Последняя? – спросил Шевченко.
– Последняя… Спичка нет у вас?
Шевченко щелкнул зажигалкой. Солдат затянулся, пряча сигарету от дождя в кулаке.
– Он не любил, когда ему советоваль, – сказал Шарипов. – Всегда: «я приказываю», «я знаю»…
– И вы решили отомстить! – Шевченко от бессилия заскрежетал зубами.
– Нет. Никто ничего не мог делать. Он нас не слушаль. А солдат тоже человек, – продолжал медленно и печально Шарипов. – Его тоже уважать надо…
– Я что ли вас не уважаю, говори прямо! – перебил Шевченко.
– Разве так сказаль, товарищ капитан? Нет. Я скажу, чтоб вы знали. Как Эрешев и Атаев погибли. То не мина была. Они сами гранату взорвали.
– Ты что говоришь такое? – рассерженно отреагировал Шевченко.
– Эрешев говориль, в нашем народе мужчина не может быть трус. Мне теперь нельзя жить. Так сказаль. Я говорю ему: «Кокун дурак, что из-за него хочешь делать?» Он рукой махнул и ушел. Я думал, ничего, просто он очень сейчас злей. А тут взрыв.
Он замолчал, спохватился, глянул на окурок и виновато протянул Шевченко. Ротный молча взял, затянулся, обжигая пальцы, но не чувствуя боли. «Они пришли ко мне, а я погубил их». И Шевченко обнаженно осознал истину: солдат лишен всего. Это состояние отверженности в Афганистане доведено до абсолюта. Дом далеко, имущество – казенное, да и самим собой не распоряжаешься. Единственное, что остается, что возвышается и приобретает единую и главную ценность, – это честь. Больше солдату ничего не оставили.
«Кровь смывают не кровью, а водой», – вспомнил он.
– Товарищ капитан, – попросил Шарипов. – Не уходите от нас.
Шевченко вздохнул и покачал головой.
Он внимательно посмотрел на своих промокших до последней нитки ребят: у Козлова на скулах топорщилась щетина, заострился приплюснутый нос, Шарипов тоже в черной щетине, почти до самых глаз, ввалившихся, покрасневших. Оба сникшие, будто враз на десяток лет постаревшие.
…Страшно было подумать, что в этот день, первого июня, государственные мужи с пафосом и державным величием вещали о детях. О детях, для которых социализм сделал все для их счастья. Дяди в удобных свежих костюмах сидели в просторных кабинетах, торжественно витийствовали от имени страны и недрогнувшей рукой вымарывали из нашей жизни и из нашей истории правду о судьбе ребят целого поколения – живых и мертвых, раненых и искалеченных… Ведь счастливое детство не должно омрачаться. Как и вся наша жизнь. Дяди в удобных костюмах любили детей и порой украдкой смахивали слезу умиления от проделки проказника-внучонка… Те же, кто учились пока в школе, не общались с добрыми дядями, заканчивали обыкновенно девятый или десятый класс, не знали, что через год или два своими испепеленными жизнями пополнят самый длинный и самый кровавый список жертв – жертв Афгана трех последующих лет: 1983-го, 1984-го, 1985-го…
А июньский дождь продолжал посыпать капелью людей, горы, скудную, жесткую, как проволока, растительность, которая и жила только за счет этих редких подарков природы.
Это был тот самый дождь, в конце операции, который спас немало жизней и с той, и с другой стороны, который остудил камни, напоил раненых, страждущих и – на короткое время – пригасил бои в Ущелье.
– Товарищ капитан! – появился рыжий Ряшин. – Лейтенант Лапкин, кажется, умирает. Вас зовет.
Последние слова утонули в звуках грома. Шевченко вскочил и побежал за Ряшиным.
Замполита обложили со всех сторон камнями. Получилась высокая, в полметра, кладка, а сверху накрыли плащ-палаткой. Шевченко вздрогнул: до того сооружение было похоже на гробницу. Он свалил полстены в сторону, сел рядом с Борисом. Тот часто дышал, в лице – мука боли. Шевченко повернулся к Ряшину, который молча ждал указаний.
– На, отнеси раненым мою воду. – Шевченко протянул каску, которую носил уже за ремешок, наподобие котелка.
Ряшин слил воду в свою каску и ушел.
– Как ты, Борис?
– Попить бы…
– Нельзя тебе. Терпи… Зашьют брюхо. Все будет. Все…
Шевченко сдвинул брезентовую крышу, чтобы капли дождя падали на лицо раненого. Замполит прикрыл глаза, а губами тянулся к падающим дождинкам. По небу покатился гром. Пахнуло свежестью.
– Терпи… Духи уходят… Слышь, Борька, уходят. Духи – они боятся дождя.
Он встал, чтобы идти к раненым. Но не сделал и десяти шагов, как услышал за спиной негромкий металлический стук – будто уронили молоток. Он обернулся и в оставшееся мгновение увидел все: ребристый овал гранаты, прятавшегося за камень афганца с птичьими глазками на болезненном сизом лице. Кажется, мелькнуло еще лицо Ольги, взгляд ее был укоризненным и вопрошающим.
Шевченко не видел уже, как вырастали из дождя сгорбившиеся тени; впереди, со страхом оглядываясь, ступал человек с окровавленной левой рукой, в истертом мышином френче. Он пошатывался, и тонкие его губы шептали проклятия…
Послесловие
Капитан Сергей Шевченко и еще несколько солдат его роты чудом выжили в том жестоком бою в 1982 году в Панджшерском ущелье. После излечения ранений Шевченко действительно получил назначение на должность начальника штаба, в другую часть, в афганском городе Кандагаре. Он попрощался с бойцами и попросил прощения. За полтора года это были первые потери в его роте.
Потом Шевченко закончил Военную академию имени М. Фрунзе. Получил назначение в Западную группу войск, стал командиром полка. Ветры перестройки и «новое мышление» руководителей страны Горбачева, затем и Ельцина нанесли армии урон, сопоставимый с самыми тяжелыми годами Великой Отечественной войны. Уход российских войск из Европы напоминал поспешное бегство. Полк Сергея Шевченко тоже был выведен – в Уральский военный округ. Место дислокации – чистое поле. Даже в Афганистан входили более организованно, о моральном духе и говорить не стоило.
Афган вспомнить пришлось в конце 1994 года. Шевченко получил приказ вместе с полком убыть в Чечню. Он пытался доказать, остановить бездушную военно-государственную машину, умолял не посылать на убой молодых, необстрелянных пацанов, потому что слишком хорошо знал, что такое война. Он просил его самого отправить в Чечню на самый сложный участок, на любую должность… Но – командира полка поставили перед выбором: или выполняешь приказ, или увольняем по дискредитирующим обстоятельствам. У Шевченко были свои понятия офицерской чести. И он принял самое трудное решение в своей жизни: написал рапорт на увольнение, отказавшись вести своих бойцов на верную гибель.
А его полк все равно отправили в Чечню. Новогодняя, 1995 года ночь стала кровавой бойней для сотен мальчишек, одетых в солдатскую форму.
К сорока годам ветеран афганской войны, орденоносец Сергей Шевченко и его семья остались без квартиры. И тогда он решает записаться на прием к своему бывшему, еще по Афганистану, командиру полка. Тот к тому времени сделал блестящую карьеру, стал генерал-лейтенантом, начальником Главного управления кадров Министерства обороны.
Опальный офицер долго ждал в приемной, пока не появился помощник, сухо сообщивший, что прав на квартиру он не имеет по причине невыполнения приказа в боевой обстановке и проявленной трусости.
Шевченко выжил в Панджшере, уцелел в Кандагаре, когда сам лично вытаскивал раненых и убитых с поля боя. Он знал цену солдатской жизни, и ее сохранение для него было главным мерилом командирского труда, его совести и чести.
Шевченко выжил в Афгане. Но спустя двенадцать лет эта война вновь вернулась к нему и забрала его, вслед за ребятами его роты, погибшими на скалах Панджшера.
Сергей умер неожиданно. У него просто остановилось сердце. Как останавливается, когда в него стреляют в упор.
Капитан Горелый
Страна чудес: часового выставили у дверей женского модуля! Я стараюсь сдержать эмоции, но голос меня выдает. После подрыва на «итальянке» мой голос стал нервным и лающим. Горелый поднимает глаза, устало цедит:
– У вертолетчиков позаимствовал…
– Что? – не понимаю я.
– Опыт, говорю, замполит у вертолетчиков позаимствовал. – Он зевает. – Все эти жалкие попытки решить вопрос силовым методом…
Горелый устал. Комплекция у него внушительная, и оттого ему на этой подлой жаре тяжелее, чем мне.
– Какой вопрос?
– Взаимоотношения полов.
Заскорузлое полотенце порхает у моего носа. Горелый обтирается. У него мохнатая спина и грудь. Черные волоски блестят и топорщатся.
– А-а…
Я хочу заметить, что в американской армии эта проблема решается рациональней, но передумываю. Эту тему мы обсуждали. В наших приватных беседах мы давно все на свете пережевали. У Горелого безразличный тон, а свое личное мнение он высказывает так, будто припечатывает: все ему ясно. И почему-то получается, что я всегда несу абсолютную чепуху, как юный отличник, которому разрешили высказаться. Меня бесит, что ему все и всегда ясно.
Горелый любит откалывать всякие шуточки. Однажды он ухитрился незаметно записать на магнитофон выступление замполита батальона. Месяц назад тот посетил наше комсомольское собрание и разразился речью. А на днях Горелый выходит из комнаты с чугунным выражением лица и сообщает: «Ты пока не входи. Там замполит и начальник инженерной службы. Меня вот попросили выйти». – «А чего им у нас надо?» – спрашиваю. «Замполит на нас капает… Ты постой пока здесь, а я сейчас приду». Слушаю, как за дверью замполит меня по косточкам разбирает, вспоминает всякую ерунду месячной давности. Жду, когда вызовет. Надоело… И вдруг вижу: идет прямо по коридору, навстречу мне, кто бы вы думали, именно так – замполит батальона.
Вот так Горелый развлекается с подчиненными.
В свободное время он сидит на койке и спичкой вычищает грязь из-под ногтей. Он боится афганских глистов. Горелый уверяет, что на такой иссушающей жаре они становятся чрезвычайно агрессивными и, как только попадают в кишечник, сжирают человека вместе с костями.
С Егором мы уже полтора года «пашем» афганскую землю. И все то время мужественно боремся с пылью, хотя она вездесуща и неистребима.
Впрочем, надо представиться: я – Лысов. Это не кличка и не прозвище, а настоящая моя фамилия. И с шевелюрой у меня все в порядке. Правда, говорят, что на жаре волосы быстрей вылазят, вроде как выталкиваются вместе с потом. Но это все вранье. Если не подхватишь стригущий лишай, прическа не пострадает. Вообще говоря, болезни здесь кишат прямо в воздухе: сделаешь вдох – и тут же проносит. Тиф, паратиф, дизентерия, а также болезнь Боткина. А стригущий лишай, к слову, не встречался. Чего не было, того не было. По званию я – старший лейтенант, а по должности – командир взвода разминирования; кроме того, еще секретарь парторганизации роты. Нас называют «кротами». А я, значит, «крот с партийным уклоном». Капитан Горелый – мой начальник. Это тоже не кличка. Нигде, слава Аллаху, он не горел, а подрываться – это было: три раза на бэтээре. Для сапера это непростительно. Ну а если подорвешься лично, не на машине, то ругать тебя никто не будет. Даже если жив останешься. Такая жизнь. А в остальном у нас все нормально. Коллектив в батальоне дружный. Так я пишу в письмах домой – маме и папе. И чем больше я вру им, тем больше они волнуются. Целых полгода их обманывал: писал, что служу в Монголии. А потом увидели мой портрет в «Красной звезде», там все подробненько про меня расписано: кто я и где проживаю. Соседи им газету принесли, показали…
Мы сидим с Горелым и ждем, когда вскипит чайник. Нагревается чайник медленно. Сначала внутри его начинает что-то стучать, затем тихо, как исподтишка, посвистывает, гудит и уже потом злобно клокочет паром. Чайник душманский. Духи его заминировали, пришпилили к ручке проводок: схватишь сгоряча и взлетишь на воздух. Но Горелого на такие детские штучки не купишь. «Это для „Мурзилки“!» Однажды чайник забыли на плитке. Вода выкипела, он посинел и открыл настоящую пальбу: со страшным треском отваливалась накипь. Соседи-пехотинцы переполошились, чуть тревогу не сыграли.
Мы дуреем от жары. Разговаривать не хочется. Горелый насвистывает какую-то мелодию, щупает отросшую щетину. Я все собираюсь сесть за письмо – отправить домой очередную фантазию о прелестях своей жизни. Мне это дается с трудом.
Скрипит дверь. Из-за нее выглядывает кудрявая Танюшина головка. Танюша без памяти влюблена в Горелого. Чувство ее небезосновательно: Горелый – товарищ разведенный. Общество Татьяны он переносит с пониманием и терпением.
Я радостно вскрикиваю и бросаюсь к ней навстречу.
– Тише! – Она морщится и подносит пальчик к губам. – Замначпо тут бродит.
Она пристально смотрит на Горелого.
– У Вики сегодня день рождения. А тут солдата дурацкого у входа поставили…
– Солдат не дурацкий. Он выполняет приказ, – поучительно замечает Горелый. Он всегда ласково поучает Татьяну.
– Ну, ладно, не дурацкий, – соглашается она. – Но ведь надо что-то делать. Мы же договорились! День рождения…. Девчонку отвлечь… А то она, бедняга, совсем уже. Вам нельзя не прийти.
– Нельзя, – подтверждает Горелый.
– А что будем делать? К нам тоже нельзя – замполит по модулям ходит. В окно? – замечаю я.
– В окна гвардейцы не лазят, – веско произносит Горелый.
Молчим. Егор усмехается, оценивает Татьяну взглядом: с головы до ног. И причмокивает. Таньке такой взгляд нравится, она откидывает голову и кокетливо изгибает бедро.
– Ты чего джинсы напялила? – грубовато спрашивает он.
Ему можно. Ему все можно. Танька все, что хочешь, ему простит.
– А чего – снять? Запросто!
– Сними, – разрешает Горелый. – Только не здесь и не джинсы… А напяль-ка ты мини-юбку… И футболочку потоньше, чтоб у тебя все там выпирало. Секешь?
– Не-а.
– Ладно. Слушайте все сюда. План такой. Вику поздравим по всей форме. Ты, Татьяна, снимаешь часового. Подходишь, облаченная в то, что я сказал, заговариваешь, строишь глазки. Если он молчит и не реагирует, поправляешь чулок или что там еще, сама знаешь. Отвлекаешь, значит. Мы в это время стремительно проникаем в женский модуль. Ясно?
– А если он того, опять не реагирует?
– Танюша! – радостно вскипаю я. – Да чтоб на твои прелести…
– Спокойно, Олежек! – строго обрывает она и смотрит подозрительно на мою шевелюру.
– Ты что, покрасился?
– Нет, с чего ты взяла?
– Показалось…
Она уходит, и через минуту мы устраиваемся у двери. Ждем. Наконец Танюша появляется. Она держит в руках большой кулек. Юбчонка на ней узенькая, как подворотничок, футболка вот-вот треснет. Я застываю.
– Молодец, девочка, – бормочет Горелый. – Теперь вперед!
Она будто слышит его, неторопливо осматривается и напрямик идет к часовому. Мы тоже выходим и осторожно перемещаемся к своей цели. Танюша вдруг делает неуловимое движение, и из кулька что-то сыплется. Это грецкие орехи. Она громко охает, поворачивается к часовому спиной и начинает собирать орехи. Солдат недоверчиво косится на свалившееся с неба зрелище.
– Ну, чего стоишь? Взял бы да помог! – бросает из-за спины Танюша.
Часовой машинально дергается, но чувство долга пересиливает:
– Мне не положено…
– Тоже мне вояка, стоишь тут как пень. Никакого проку.
Мы с напряженными лицами семеним к модулю. Татьяна продолжает нагибаться, я выворачиваю голову, замедляю шаг. Горелый подталкивает меня в бок. И мы тихо исчезаем в дверях.
Часовой собирает орехи, придерживая сползающий с плеча автомат.
Вика сидит одна, нахохлившись, будто воробей на холоде. Она виновато глядит припухшими глазами, печально улыбается.
– Егор Петрович?
– Он самый, со свитой.
Горелый аккуратно касается седыми усами ее щечки, а я церемонно целую ручку.
– Ну, кто это грустит в день рождения? – рокочет он. – Сейчас будем праздновать.
Горелый выуживает из-за пазухи маленькую игрушечную обезьянку и нажимает ей на голову. Обезьянка показывает язык. Вика хохочет. А я дарю ей китайскую авторучку и понимаю, что ни черта не смыслю в таком деле, как подарки. Горелый деловито вытаскивает из пакета консервы, колбасу, конфеты и в заключение бутылку водки.
Тут врывается бесстыдница Танька, радостно трещит. Вика округляет глаза:
– Как – и часовой не заметил?
– Татьяна его заворожила, – ввертываю я. – Он стоял как соляной столб.
– И не стоял, а помогал мне собирать орешки. Свидетели есть. И еще он мне свидание назначил!
Мы пьем за здоровье Вики. Татьяна пьет на равных, а именинница чуть пригубляет. Потом, как обычно, Горелый встает и произносит третий тост. Пьем молча.
Мысленно вспоминаем погибших, ушедших внезапно и навсегда. Вика выпивает до дна и говорит быстро-быстро:
– Чтоб вы вернулись, мальчики, чтобы смерть обошла всех вас стороной и чтобы от рук ваших не пострадал ни один человек.
– Так не бывает, Вика. На войне приходится стрелять.
– Я знаю, Егор Петрович. Но пусть никогда и никому вы не принесете смерти.
Горелый качает головой и вдруг громко объявляет:
– Танцы! Включай свой «Шарп».
– Сам, что ли, не можешь? – ворчит Татьяна.
– Еще сломаю. Потом ведь убьешь.
– Не надо ля-ля…
Однако она встает и аккуратно щелкает тумблером.
Мы танцуем, а вернее, раскачиваемся в обнимку между двумя кроватями и столом. Егор с Викой на почтительном расстоянии, будто папа с взрослеющей дочерью. Ну а я – с Таней. Можно, конечно, прижать ее посильней, но мне не хочется, чтобы она ляпнула что-нибудь вроде: «Не прижимайтесь так сильно. Если очень хочется, лучше прибавьте звук». К Вике она не ревнует. Потому что Вике исполнилось всего восемнадцать.
– Танцы похожи на секс, – умничаю я, вспомнив услышанную где-то фразу. – Неважно, как ты двигаешься, главное, что ты при этом чувствуешь.
Горелый кивает своей большой лысеющей головой:
– А еще танцы похожи на надувание шарика. Неважно, как ты тужишься, главное, что ты выделываешь при этом ногами.
Татьяна звонко хохочет, у меня даже свербит в ухе. Вика чуть улыбается. Я хорошо вижу ее настороженную улыбку. Она не любит разговоров о сексе и всегда теряется, когда об этом заходит речь.
Ко мне Татьяна равнодушна. Но все равно я горд, что со мной сейчас танцует красивая женщина. Татьяна любит разведенного мужчину. Год назад жена Горелого послала ему свое «последнее прости». Пока он усердно рыл афганскую землю, обезвреживая мины, она не менее усердно наставляла ему рога. Горелый обозлился на весь женский род. Правда, Вика – исключение. Глубоко несчастная, с треснувшей любовью, сбежавшая в Афган Вика… Горелый дарит ей безделушки из дукана. А она величает его Егор Петровичем, хотя всех других мужчин – только по имени и на «ты», по традиции всех здешних «вольняшек». Получается это трогательно и смешно. Смешно, конечно, для дураков. А кто понимает – вздыхает с неясным томлением и, наверное, вспоминает своих покинутых детей… Есть категория мужиков: ненавидят здешних женщин. Просто в упор их не замечают. Но я почти уверен, что все из-за того, что их так мало.
Мы допиваем водку, я стараюсь не смотреть на смуглые Татьянины лодыжки и колени, покрытые светлым пушком. А Танька все хочет танцевать с Егором Петровичем. Но Горелый уверяет, что уже поздний час; мы пьем чай, Татьяна вслух мечтает, как мы всей компанией встретимся когда-нибудь в Союзе.
– Трудно, – вздыхаю я. – Обзаведемся семьями…
Танька злится, но не подает виду.
– Ничего, как-нибудь соберемся. Встреча ветеранов мотострелковой Афганской Краснознаменной дивизии. А?
Хорошая у нас компания… Танька, успевающая, несмотря на безнадежную любовь, жить весело и не скучать. Вика, романтичная девчонка, которая постоянно упрашивает Горелого взять ее с ним на операцию… Ничего у нас не получится. Все это случайное, временное, как и вся наша здешняя странная жизнь.
Мы собираемся. Татьяна выключает свет и раскрывает настежь окно.
– Не надо! – рокочет Горелый. – Саперы выходят в окно лишь в двух случаях. Первый – когда сами заминировали двери и потому уходить можно лишь в окно.
– А второй? – смеется Татьяна.
– Второй, когда в доме нет дверей.
Он направляется к выходу. Мы следуем за ним. Часовой, все тот же несчастный и затурканный бабами воин, при виде офицеров неуверенно вскрикивает:
– Стой, кто идет?
– Капитан Горелый со свитой!
– Ну-ну, дальше! Забыл: «Стой, стрелять буду!»
– Я обязан задержать вас, товарищ капитан. Вы проникли в женское общежитие.
– Вы не правы, воин. Ваша обязанность – не пропускать внутрь общежития. А выпускать или нет – вам в обязанность не вменено.
– Все равно…
– Ну, давай, давай, вызывай караул, стреляй вверх. А потом расскажешь, как орешки собирал. – Он поворачивается назад: – Верно, Татьяна?
– Ага! И еще свидание назначил…
– Будьте бдительны, молодой человек. На первый раз никуда докладывать не буду.
Горелый проходит мимо поскучневшего часового, я – за ним. За его спиной всегда спокойно. Мне жаль обманутого солдата.
– Комендантский взвод, – бормочет Горелый. – Велосипедисты, а не бойцы. Торчит тут, как… Нашего поставь у модуля – комар не пролетит. Хотя не для наших это: женщин от мужиков охранять. Чепуха какая-то…
Город просыпается рано: люди стараются использовать светлые и прохладные часы. Потом все цепенеет под зноем, в беспощадном ярком свете город кажется вымершим. Это если наблюдать со стороны, с дороги. Сейчас наша колонна втягивается в пригород, где теснятся лишь серые кишлачные постройки. Затем они сменяются двухэтажными каменными домами. Ближе к центру жизнь заметней. Призрачными тенями проскальзывают женщины в паранджах – будто приговоренные с мешком на голове. Шествуют мудрые, степенные старцы, чопорные и горделивые, но у большинства из них – дырявые карманы. Дуканщики, словно пауки, выжидают покупателей в сверкающей роскоши своих дуканов, набитых заграничным товаром. Пацанва, замызганная и нахальная, по которой только и можно судить о подлинном темпераменте афганцев.
Все это привычно хочется послать к чертям, потому как давно пора домой, где нет этого изнуряющего зноя; зноя, от которого не спрячешься нигде и оттого свирепеешь, как запертый в клетку зверь.
Но мы здесь нужны – до тех пор, пока духи минируют дороги. А минируют они потому, что мы, русские, у них в Афгане, а наши интернациональные побуждения им не понятны. Подрывается же не только наша техника, но и «бурбухайки», гибнут люди. Поэтому мы упорно продолжаем разминировать, и получается замкнутый круг: они минируют – мы разминируем. Конца этому пока не видно.
Мы едем на БТРе, впереди нас – матушка бэмээрка[7]7
Бэмээрка – БМР, боевая машина разграждения.
[Закрыть], здоровенное, израненное осколками чудище. Машина многое вытерпела на своем афганском веку, безропотно принимала на себя слепую ярость взрывов, вздрагивала всем своим железным нутром, вздыбливалась, но ползла дальше и вот до сих пор еще ползет.
Горелый сонно поглядывает из-под панамы, щурится, бросает равнодушные взгляды на дуканщиков, «зеленщиков», велосипедистов, которые тоже не обращают никакого внимания на грохочущую колонну. К нам привыкли.
– Калита! – наклоняется он и кричит в люк: – Достань флягу.
Выныривает чумазый человек, вечно хмурый сержант Калита, сует командиру фляжку. Странный он: злой не злой, но будто чем-то обиженный. Заговоришь о чем-нибудь отвлеченном – пожмет плечами и промолчит, а то и фыркнет недовольно, вроде недосуг ему лясы точить. Мне это не очень приятно, а все из-за того, что Калита с командира глаз не сводит. А если Горелый какую едкую реплику отпустит, так тот, бедняга, не смеется, а расцветает, будто три афгани ему подарили. Калита – круглый сирота, из детдома прямым ходом попал в Афганистан. Горелый для него как папа.
Провожал нас в путь полковник из Москвы. Перед этим он долго и обстоятельно меня инструктировал, требовал, чтобы мое идеологическое воздействие на местное население было непрерывным, активным, наступательным, отчитал между делом за то, что я не имел походного комплекта наглядной агитации, а под конец вдруг подозрительно спросил: «Вы что – покрасились?» На что я мрачно ответил, что волос у меня естественный. «Тогда почему не стрижены?» – не унимался полковник. Вдобавок мне досталось за кроссовки. А Горелый стоял рядом и ухмылялся. Нет, чтобы объяснить полковнику, что это самая удобная и безопасная обувь: наступишь на мину сапогом – ногу оторвет, будешь в ботинках – ступню, ну а если в кроссовках – есть шанс только пальцы потерять… Почувствовал ли этот полковник вкус нашей афганской жизни? Или только и остались в памяти вечно озабоченные и куда-то спешащие люди? И еще неприятная подсознательная мысль о том, что никому ты здесь не нужен, а только мешаешь… А Афган – это вкус вечной тревоги, ожидания, это вкус пыли и беспощадного солнца, это неожиданный запах брызнувшей крови, это жестокая истина: приезжает сюда людей больше, чем уезжает…
Полковник приложил руку к козырьку – и больше мы его не видели.
Мы выезжаем за город. Позади остаются душные улочки, сонно пульсирующая жизнь провинциального центра. Мне не хочется оглядываться, я знаю, что сейчас последние дома исчезнут в мареве зноя и мы словно пересечем невидимую границу. И все же оглядываюсь. Город уже не виден. Проглядывают только макушки тополей. Странно, но кажется, что именно здесь, среди холмов и пустынного плоскогорья, затаилась, выжидает, следит за тобой настоящая жизнь.
Я давно привык к смерти, но всегда завидовал тем, у кого это привыкание прошло быстрее и естественнее. Насильственная смерть – это, конечно, ненормально. Но на войне от нее никуда не денешься, и потом ты постоянно вынужден изживать в себе страх, выдавливать его из себя, как гной из чирья. У меня к концу первого года трясучка началась: панически боялся подрыва. Ночами орал. И снились мне черно-белые сны: черная земля, горы, черные взрывы – и выстуженно-белое небо. Только кровь в этих снах оставалась красной. А Горелому, мы с ним в Афган приехали одновременно, хоть бы хны. Потом понял, что вовсе он и не железный. Просто после финта своей любимой супруги уже ничего хорошего не ждал от жизни. И может, даже искал опасности: кто знает, ведь не спросишь об этом.
Мы сопровождаем афганскую колонну. Вместе с нами БАПО – боевой агитационно-пропагандистский отряд. Наш путь в «коммунистический» кишлак Карами. Это мы так его называем. Народ там боевой – не сеет, не пашет, только воюет. Бьют душманов по всему уезду, а когда начинают лупить их самих – укрываются в крепости. Кишлак у них что крепость: высокие стены, башни по углам. А им время от времени подвозят хлеб, боеприпасы и медикаменты. И «коммунизм» продолжается.
Колонна послушно тянется за нами, и, когда мы останавливаемся и прощупываем дорогу, колонна тоже стоит, терпеливо ждет, пыхтит моторами. Мы – отряд обеспечения движения. Мы словно нос огромной змеи, которая вынюхивает перед собой путь.
Впереди – затор. Покореженный грузовик, афганцы в серой униформе, они снуют, галдят, рядом дымится оторванное колесо.
– Пошли. – Егор спрыгивает с машины.
Я хватаю щуп, бегу вслед за ним.
За грузовиком что-то происходит. Горелый расталкивает толпящихся, я двигаюсь в его фарватере, стараюсь не отстать.
В центре сидит боец на корточках, энергично разгребает землю, а в лунке перед ним – итальянская мина. Я хорошо вижу ее ребристые, будто у турбины, края. В нескольких шагах – еще одна, уже вытащенная из земли. Я холодею, крик застревает в горле.
– Эй, стой! – Горелый кого-то отталкивает в сторону, хватает афганца за шиворот. – Тебе что, жить надоело?!
Афганец не понимает, смотрит снизу недружелюбно, раздраженно бурчит. Дать бы ему под зад за такую «инициативу», но боюсь, что он рухнет лбом прямо на взрыватель.
Для убедительности Горелый крутит пальцем у виска.
– Все назад! – рычит и показывает направление.
Появляется Калита с саперной «кошкой». У него просто нюх на мины.
– Туда, туда давай! – повторяет Горелый нетерпеливо. – И вы тоже.
Мы с сержантом отходим, подталкиваем оглядывающегося «специалиста» по разминированию. Горелый опускается на корточки. Мы в стороне. Ждем. Сейчас он углубит лунку, приладит «кошку» – и все станет ясно. Вот он направляется к нам, тихонько насвистывает и разматывает по пути шнур. Он всегда насвистывает, как управится с очередной миной.
– Ложись!
Мы выбираем место и опускаемся прямо в пыль.
– Рванет или нет?
– Нет, – говорю я.
– Рванет, – уверенно изрекает Горелый и тянет за трос.
Взрыв бьет по барабанным перепонкам, летят комья земли, гадко пахнет сгоревшей взрывчаткой. Наползает седое облако, мы покрываемся серым налетом, щуримся, плюемся, в морщинках глаз скапливаются коричневые слезы.
Горелый почему-то все время угадывает и, как всегда, отвешивает мне десять щелбанов по лбу. Такое вот у нас постоянное пари. Я выиграл всего лишь один раз.
– Вот спросят тебя, – ротный встает, поворачивается к Калите, – какая самая большая беда в Афганистане?
– Мины? – роняет сержант.
– Нет, не мины… Это все потом. Самое худшее – это творящийся здесь абсурд. Все – полный абсурд.
– Самое хреновое, что люди гибнут, – бросаю я.
– Это тоже все потом… Ладно… Калита, бери бойцов, надо проверять дорогу. – Мы возвращаемся к бэмээрке. Возле нее толпятся афганцы. Один из них бросается к нам, хватает Горелого за руку. Я с трудом узнаю «специалиста по разминированию». У него ошалевшие глаза, на сером лице – растерянность. Наверное, ему хочется сказать, что сегодня ему очень повезло.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?