Текст книги "Закулисье пушкинских сказок"
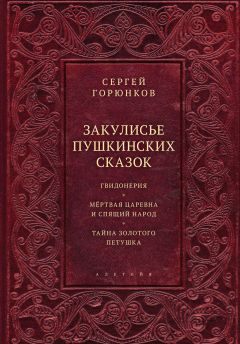
Автор книги: Сергей Горюнков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Речь идёт о знаменитом тезисе Иосифа Волоцкого: «О прехищрении и коварстве Божием», согласно которому коварству и хитрости злых сил («злохитрству») должны быть противопоставлены мудрое «преухищрение и проницательное коварство» Божественной силы («доброхитростность»). Самое оригинальное в этом тезисе – что «коварство Божественной силы», как разновидность «зла», органично включается здесь в само существо Божественной природы.
Логику данного тезиса можно понять только лишь в свете антибуквалистского метода преподобного. Согласно данной логике, противопоставление «добра» «злу» как олицетворённого «Бога» олицетворённому «дьяволу» – это не более чем наивное противопоставление друг другу слов, принимаемых за нечто плотское (противопоставление, характерное для стадиально ранних форм религиозности вроде зороастризма, для народного полуязыческого-полуфольклорного христианства и для манихейской ереси). На самом деле «добро» и «зло» должны были, по Иосифу Волоцкому, пониматься в духе идей Дионисия Ареопагита: «….Зло не представляет собой сущее зло, но есть лишь недостаток, отсутствие полноты свойственных нам благ»; «…зло представляет собой слабость и убывание Добра»172. А концепция «Божественного коварства» представляла собой творческое развитие этих идей.
Практическое значение концепции состояло в том, что применительно к повседневной жизни уразумение «добра» как «полноты знания», а «зла» – как «его неполноты» делало в принципе невозможным управление сознанием по методу «разделяй и властвуй» (по методу, особенно эффективному именно тогда, когда разделяются идеи, а не их носители). Ведь если, по Иосифу Волоцкому, истинное содержание понятий «добра» и «зла» познаётся не на «плотском», отягчённом страстями и эмоциями, уровне (где «добро» способно казаться «злом», а «зло» – «добром»), а лишь на умопостигаемом уровне духовной, или Божественной мудрости, то, значит, и сами эти понятия в их обычном, разговорном смысле – не более чем индикаторы эмоций: с их помощью окрашиваются в положительные или отрицательные тона все другие понятия. А эмоциональная окраска понятий и создаёт возможность манипулирования сознанием, потому что существеннейшей (и печальнейшей) особенностью сознания является его свойство удовлетворяться не столько пониманием говоримого, сколько своим эмоциональным отношением к нему.
Поясню сказанное образным примером, взятым уже из современной русской истории. Представим себе хрестоматийную «собаку Павлова», в мозг которой вживлены два электрода: один в «центр удовольствия», а другой – в «центр агрессии». От электродов проводки тянутся на испытательный стенд, где с помощью клемм подсоединены к кнопкам управления. Проводок, идущий от «центра удовольствия», подсоединён, скажем, к кнопке с ярлыком «социализм», а проводок, идущий от «центра агрессии» – к кнопке с ярлыком «капитализм». Нажимается первая кнопка – и собака распускает слюни от удовольствия; нажимается вторая кнопка – и собака заходится в бешеном лае. Это – моделирование ситуации, наблюдавшейся в России в начале XX в. Затем клеммы от проводков перебрасываются с одной кнопки на другую – меняются местами, в результате чего операция раздражения «центра удовольствия» проводится уже под кодовым названием «капитализм», а операция раздражения «центра агрессии» – под кодовым названием «социализм». Это – моделирование ситуации, наблюдаемой сегодня.
«Ярлыки на кнопках» – это владеющие массовым сознанием понятийные штампы. «Центр удовольствия» и «центр агрессии» – сфера эмоций массового сознания. Проводки, соединяющие электроды с кнопками, – это штат профессиональных манипуляторов массовым сознанием, специалистов по эмоциональной окраске понятийных штампов (СМИ, идеологи, артисты и т. д.). Оператор, перебрасывающий проводки с одной кнопки на другую, – это власть, содержащая штат манипуляторов и направляющая его. А суть власти «оператора» над «собакой Павлова» – это свойство сознания принимать свое эмоциональное отношение к словам за их понимание (свойство, блестяще описанное А. П. Чеховым в рассказе «Сильные ощущения»).
Ярлыки на кнопках могут быть самыми разными; единственное предъявляемое к ним требование – это то, что они должны образовывать собой пары противоположных по смыслу понятий. Только лишь при выполнении данного требования оператор сумеет разыграть на испытательном стенде спектакль для посвященных под кодовым названием «борьба нанайских мальчиков». А от «собак Павлова» требуется лишь «вера в бирки» – вера в соответствие отвлеченных понятий реальностям жизни. То есть от них требуется быть «рабами слов»173.
Данный пример наглядно объясняет, что такое «жертва» с чисто технической точки зрения: чтобы стать ею, нужно, в частности, «забыть», что элементы государственного планирования, регулирования, контроля, протекционизма и сильной социальной политики присущи как «социализму», так и «капитализму» (см. игру словами: «шведский социализм», русский «государственный капитализм» 1920-х гг. и т. д.) и что иллюзия глобального отличия «социализма» от «капитализма» создается за счет идеологического «раздувания» других, второстепенных, несистемообразующих факторов, за счет национальной и культурной специфики стран и народов, наконец – за счет особенностей их исторической биографии. И точно так же обстоит дело с любыми другими понятийными противопоставлениями: там тоже всегда надо «забыть» нечто главное, чтобы «научиться» принимать текучее полисемантическое понятие за нечто конкретно однозначное.
Вот эту-то техническую сторону модели «хищник – жертва» и понял Иосиф Волоцкий, почему и настаивал всегда, с одной стороны, на вредности буквального понимания многих терминов, понятий и выражений Священного Писания, а с другой – на безусловной предпочтительности парадигмы «и – и» перед парадигмой «или – или» (то есть не: или вера, или знание, а: и то, и другое; не: или брак, или воздержание, а: оба образа жизни угодны Господу; не: или богатство, или отречение от него, а: «Церковь и отшествие от мирских вещей со смиренномудрием любит, и богатство с правдою и с благотворением не порицает»; не: или Новый, или Ветхий Завет, а: нужны и первый, и второй, «чтобы, обучившись в Ветхом, мы легче перешли к Новому». Кстати, именно при Иосифе Волоцком его единомышленником и соратником новгородским архиепископом Геннадием была издана Библия (так называемая Геннадиевская), явившаяся первым на Руси полным переводом Ветхого Завета.
Отказ Иосифа Волоцкого от «плотского» взгляда на понятия «добра» и «зла» как на самодостаточные и самообъясняющие себя понятия – лучшее свидетельство того, что на рубеже XVXVI вв. он представлял собой наиболее яркое «промежуточное звено» в общекультурной «цепи времён»: от «софийного» христианства (представленного в первую очередь Дионисием Ареопагитом) к современным научным представлениям о необходимости различения значений слов и их смыслов. А неусвоенность религиозной мыслью урока преподобного неизбежно должна была обернуться приписыванием полноты «добра» и «зла» противнику Бога, дьяволу, что и обнаружилось двести с лишним лет спустя в созданном В. Гёте образе Мефистофеля – духа, который «всегда стремится к злу, но вечно совершает благо». В XX же веке читающую публику покорил аналогичный образ Воланда из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», и одновременно громко прозвучали упреки некоторых служителей церкви в адрес автора в связи с созданием им этого образа. Но на самом деле пенять здесь не на кого: выкинутое духовное оружие всегда работает против того, кто его выкинул.
Можно, конечно, возразить, что то правильное владение духовным оружием, которое вытекало как следствие из идей Иосифа Волоцкого, грозило церкви потрясениями не меньшими, чем сами ереси, с которыми преподобный боролся. Что ж, попытаемся сравнить, какие потрясения предпочтительнее. Те возбудители еретической мысли, против которых выступала в конце XV и в XVI вв. православная церковь (Ф. Курицын, М. Башкин, Ф. Косой и др.), свидетельствовали, что русская общественная мысль уже не удовлетворялась «зарытым в землю талантом», что она искала, куда себя приложить. Куда же? По справедливому мнению специалистов, русские ереси являлись предвестием на русской почве реформационных движений мысли. Но на самом Западе Реформация сообщила мощный импульс католической Контрреформации, выразившейся, в частности, в создании по всей Западной Европе учебных заведений нового типа (с них, собственно, и начинается то опережающее развитие Запада, причина которого ставится обычно в заслугу протестантской Реформации). Но разве о необходимости такого рода учебных заведений не говорили Иосиф Волоцкий с архиепископом Новгородским Геннадием? И разве не оказались эти учебные заведения (на Западе) полезными для церкви в том смысле, что не без их помощи были выведены из сферы компетенции церкви многие вопросы, к ней, по сути, не относящиеся (например – вопрос о форме Земли или о положении Земли и других планет относительно Солнца, а Солнца – относительно звезд)?
Вообще упадок церкви в новой (послереформационной) истории связан, как показывают исследования, не столько с «безбожными атаками на неё» (гонения, наоборот, во все времена только укрепляли церковь), сколько с кардинальным изменением самой структуры человеческого сознания174. Но разве опережающие свое время идеи Иосифа Волоцкого не позволяли направить «кардинальное изменение самой структуры человеческого сознания» в нужное русло?
Время Иосифа Волоцкого, выпавшее на конец XV – начало XVI в., – это пик развития православной церкви и православной мысли. Да и весь XVI в. отмечен культурной деятельностью учеников преподобного, так называемых «иосифлян», и в первую очередь – деятельностью митрополита Макария. А в 1591 г. волоцкий игумен был даже канонизирован. Конец же непосредственного влияния его школы на политическую жизнь страны наступил в послесмутное время, в условиях иных уже культурных тенденций и направлений религиозной мысли, в условиях скатывания церковной жизни в обрядоверие и начетничество, в бездумное цепляние за «букву веры» (вспомним хотя бы Раскол, которого могло и не быть, если бы отношение к проблемам «двуперстия – трехперстия» и других аналогичных формальностей оставалось в XVII веке таким же взвешенным, как и во времена Макария).
Либеральная историография развивает, впрочем, иную концепцию истории русской православной церкви, согласно которой пик «Святой Руси» приходится на XIV–XV вв., а затем наступает крах православной традиции, ознаменованный деятельностью Иосифа Волоцкого. Но суть этой концепции слишком уж очевидна – она сводится к той нехитрой мысли, что, мол, пока сидела православная удельная Русь по своим лесам, да помалкивала – была «святая», а как пришла в разум да встала на ноги – так сразу стала «неведомой зверюшкой». В подтверждение этой концепции и пускаются в ход подтасовки фактов, объявляющие Иосифа Волоцкого идейным противником «нестяжателей» – от Сергия Радонежского до Нила Сорского. На самом же деле в своей борьбе за торжество общежительного монастырского устава Иосиф Волоцкий и Сергий Радонежский являются прямыми единомышленниками. А Нил Сорский, как установлено современными исследователями, не только собственноручно переписывал произведения Иосифа Волоцкого, в том числе и «Просветитель», но даже, возможно, был его соавтором175.
И все же нельзя не заметить, что действительные идейные противники тех взглядов на взаимоотношения церкви и государства, живым воплощением которых стал Иосиф Волоцкий, чаще всего выступали под прикрытием именно исихастских идей. Вопреки обычной для исихастов установке на безмолвное «познание Бога неведением», такие политиканы всегда почему-то обнаруживали склонность или к полемической публицистике, или к политическим интригам, или к переписыванию, в целях исправления, духовной литературы (культивируя тем самым в сознании верующих ориентацию на «букву» написанного). Это, во-первых, митрополит Киприан, прославившийся как «исправлением» старых книг, так и интригами против митрополита Алексия и Дмитрия Донского. Это и «князь-инок» Вассиан Патрикеев, создавший себе репутацию «нестяжателя» и «ученика Нила Сорского» не без помощи придворных интриг и литературных подтасовок. Это – в какой-то мере – и заезжий эрудит-публицист Максим Грек, взявшийся переписывать русские служебные книги, не владея в совершенстве русским языком. Наконец, это и те деятели русской православной церкви, которые во второй уже половине XVI в. называли иосифлян «жидовлянами». За исключением Киприана, жившего задолго до Иосифа Волоцкого, все эти, как и многие другие идейно примыкавшие к ним видные представители русской школы «созерцательного мистицизма», действительно, составляли идейную оппозицию иосифлянству.
Дело, конечно, не в исихазме как таковом. Сам по себе он не хорош и не плох, – это просто техника религиозного самоуглубления, техника переживания Бога внутри себя. «Плохим» исихазм всегда становился лишь тогда, когда принимал на себя несвойственную ему функцию государственной идеологии, – тут он становился даже не просто «плохим», но, в прямом смысле слова, разрушительным. Это показала, в частности, история Византийской империи, падение которой в середине XV в. напрямую было связано с политической активизацией исихастов (активизацией, исходящей с Афона – международной «кузницы» религиозно-политических доктрин и их идеологов в XIV–XVI вв.). А ведь противники Иосифа Волоцкого тоже характеризовались как раз своей ярко выраженной политической активностью.
Но всё это значит, что объективно иосифлянство противостояло не только еретическому радикализму рационалистов, выразителей западного духа Реформации, но и вполне ортодоксальному консерватизму значительной части православного духовенства, то есть византийскому духу «созерцательного мистицизма» в его политически-активной форме. А почему дело обстояло таким образом, объясняют современные исследователи вопроса, указывающие на «индивидуализм» как на одно и то же «предметное поле», освоенное с разных сторон и еретическим рационализмом, и созерцательным мистицизмом176. При этом, правда, считается, что постсредневековый «индивидуализм» выражает становление «личностного начала» в человеке. Но это, разумеется, чисто идеологический ход мысли. На самом деле «личностное начало» вовсе не равнозначно «индивидуализму», который хотя и противопоставляет себя толпе, но выражает при этом лишь эгоистический настрой составляющих толпу индивидов. Личностное же начало, в отличие от индивидуалистического, может быть глубоко проникнуто чувством своей неотделимости от общества и нравственной ответственности за него, чем исключается его противопоставление обществу.
В сравнении с индивидуалистическими идеологиями иосифлянство выглядело, несомненно, полнокровнее любых враждебных ему течений мысли, потому что носило, во-первых, ярко выраженный социальный характер, а во-вторых, требовало для своего усвоения развитого личностного начала. То есть оно противостояло и индивидуализму еретиков, и индивидуализму созерцательных мистиков, как противостоит полнота знания, парадигма «и – и», двум противоположным разновидностям его неполноты, двум половинам парадигмы «или – или». И в этом смысле иосифлянство являло собой, конечно же, ту самую «другую мысль, другую формулу», без поправки на которую настоящее понимание смысла русской истории А. С. Пушкин считал невозможным.
Но почему же тогда эта «мысль и формула» не подчинила себе весь дальнейший ход русской общественной жизни? Почему она проиграла в конечном счете борьбу за власть над умами в стране?
Вопрос труден и почти не затронут исторической мыслью, – по причине изначально предубежденного отношения к самому иосифлянству. Можно лишь высказать несколько соображений предварительного характера. Да, иосифлянство, возглавленное лучшим меньшинством православного духовенства, представляло собой вершинное проявление не только русских, но и общечеловеческих духовных исканий, и как таковое обречено было, скорее всего, на постепенное «размывание снизу» пассивной, конформистской частью духовенства. А поскольку в этой пассивной части предпочиталось не обсуждать и тем более не развивать судьбоносные тонкости богословских разногласий между иосифлянами и их идейными противниками, то и сам проигрыш первых остался, по большому счету, общественно неосознанным и незамеченным.
Этому могла способствовать и крайне неблагоприятная политическая обстановка в стране середины XVI в.; достаточно вспомнить опричнину Ивана Грозного, которая хотя и не противоречила духу иосифлянства, но на практике обернулась уничтожением виднейших иосифлян (и в первую очередь – митрополита Филиппа). Дело, конечно, не в разности целей иосифлян и Грозного, а скорее в том, что в русской истории этого периода до сих пор слишком много непонятного. Неслучайно же на оболганность фигуры Иосифа Волоцкого наложилась оболганность и самого Ивана Грозного, и проводимой им опричной политики (сводившейся к ликвидации независимого от центральной власти боярского олигархата и, соответственно, к укреплению русской государственности). То есть всё дело – в трагической сложности этого периода русской истории, не благоприятствовшего развитию на русской почве «института гонцов к Салтану».
Ударом по иосифлянству (в кадровом аспекте) могло явиться и установление на Руси при Борисе Годунове патриаршества, потому что, судя по обстоятельствам этого нововведения, оно имело своей целью не столько интересы страны, сколько легитимацию будущей династии Годуновых. И разумеется, ударом по иосифлянству должны были явиться события Смуты начала XVII в., потому что в ходе этих событий высшие церковные посты оказались заняты ставленниками Самозванцев.
Последнее обстоятельство является, видимо, решающим, потому что уже при самых первых Романовых (при царе Михаиле и его отце патриархе Филарете) от идейного наследия иосифлян остался лишь его предельный минимум – принцип неограниченной самодержавной власти. Общая же духовная атмосфера страны целиком свелась к неустойчивому равновесию между «созерцательным мистицизмом» церкви и «умеренным западничеством» светской власти (точь-в-точь как в Византии периода между гражданской войной 1341–1347 гг. и окончательным падением империи в 1453 году). А единственным «всплеском духа» на этом удручающем фоне допетровской русской жизни явилась разрушительная «реформа» патриарха Никона – деятеля откровенно антииосифлянского.
В этой атмосфере, принципиально враждебной антибуквалистскому духу иосифлянства, просто не могло не произойти то, что ясно выразил Ф. И. Тютчев: «Человек, старея, делается своей собственной карикатурой. То же происходит с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми: когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя» как «омертвевшие формы»177.
И все же проигрыш иосифлян нельзя назвать окончательным. Проиграв как братство единомышленников, объединенных высокой образованностью, строжайшей самодисциплиной и здоровым практицизмом, иосифлянство выиграло как посланное вперед «Русское письмо к Салтану», потому что, встав в решающий момент на сторону Единоличной Верховной Власти, гарантировало тем самым продолжение существования страны и народа. А ведь только лишь при таком первичном условии и возможно дальнейшее сознательное существование народа.
Тем не менее проигрыш не мог не наложить своего отпечатка на всю последующую историю страны. Поскольку в послесмутной России иосифлянства уже не было, то и присущий ему дух «творческого традиционализма» обречен был на вырождение в обыкновенную «застойную традиционность, неспособную даже противостоять закрепощению крестьянства. Соответственно, и общая интеллектуальная атмосфера победившей «застойной традиционности» уже не могла составить конкуренции интеллектуальной атмосфере постреформационного западноевропейского общества, чей «рационалистический индивидуализм» уже по определению был сильнее, активнее, действеннее «православного (созерцательно-мистического) индивидуализма». И хотя с задачей воспитания в русском православном человеке душевных качеств терпения и добронравия «застойная традиционность» худо-бедно ещё справлялась, но завещанной евангельской полноты духовного облика («Будьте кротки как голуби и мудры как змии») она уже обеспечить не могла.
С этого момента Россия и начинает осознавать превосходство Запада над собой, а значит, начинает проявлять готовность жить по чужим, не ею самой определённым, правилам. А это и есть состояние «жертвы» – состояние «собаки Павлова», обреченной на протяжении всей своей последующей истории метаться между выраженными в словах фантомными соблазнами то «почвенничества» и «западничества», то «социализма» и «капитализма», то «национализма» и «интернационализма», то «демократии» и «тоталитаризма».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































