Текст книги "Закулисье пушкинских сказок"
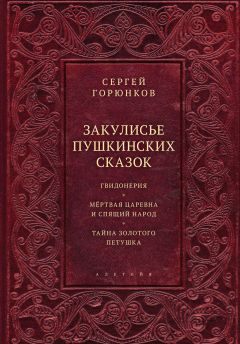
Автор книги: Сергей Горюнков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 24
Апостолы полузнания
Для полноты освещения вопроса нелишне сослаться на уже цитировавшегося ранее (в главе «Письмо к Салтану») бывшего народовольца, а впоследствии выдающегося русского мыслителя Л. А. Тихомирова, давшего необычайно выразительную характеристику интеллектуального штаба «корабельщиков» – их «мозговой службы», ответственной за внешнюю привлекательность и соблазнительность «иллюзорной реальности» во всех её многообразных формах воплощения.
Ссылка на Л. А. Тихомирова уместна в данном случае по целому ряду причин: как и Пушкин, он испытал в молодости искушение «либеральным бредом»; как и Пушкин, исключительно высоко оценивал роль принципа Единоличной Верховной Власти в русской истории; как и Пушкин, являлся по своему мироощущению типичным представителем «творческого традиционализма». Итак, слово Льву Александровичу:
«В новейшее время общество залила потоком “внесословная”, “бессословная” интеллигенция, которая потому и бессословна, что в себе самой составила особый класс. Её настоящий пророк и представитель – это Кондорсэ, объявивший наступление новой эры – эры “Разума”.
Прежде общество жило органическою жизнью, люди устраивались на основах собственного опыта и наблюдения, опыта прошлых поколений, на опоре групповых и классовых авторитетов непосредственного знания. Наконец, люди доверяли не одному “разуму”, но прислушивались к своему чувству, к реальным впечатлениям.
По учению Кондорсэ, в XVIII в. в мире произошел переворот: “Разум” созрел, и отныне должно наступить царство Разума, которым будет управляться человечество.
Это учение – настоящий день рождения нового класса, представителя и хранителя, “Разума”, класса, впоследствии принявшего название “интеллигенции”.
Его типичным образчиком были якобинцы “великой революции”. Они все отреклись от своих сословий: среди них сидели рядом аббат, дворянин, буржуа, пролетарий. Все они объединялись, по их мнению, только “Разумом”, “принципом”, который, однако, был не действительным голосом разума, не принципом самой жизни, а просто теоретическим мнением этого нового сословия. Между тем новый класс никакого другого разума не признавал, кроме своего, и говорил: “Пусть погибнет Франция, но живёт принцип”. Этот дух остался за народившимся классом навсегда, то есть до сих пор.
Последующие поколения интеллигенции много раз принуждены были признавать, что “Разум” их предшественников совсем не был “Разумом”, а выражал ошибку и фикцию. Но вместо этой фикции интеллигенция создавала новое “последнее слово”, в которое верила так же слепо, как и прежде, так же презирая голос разума всех остальных людей, так же вбирая в себя изо всех сословий всех людей, идущих учиться, переделывая их по-своему, устанавливая учебные заведения так, чтобы вырабатывать из детей всех сословий именно себе подобную “интеллигенцию”, устанавливая конституции, при которых вся власть должна была очутиться в руках интеллигентов-политиканов, интеллигентов-бюрократов и т. д., и т. д.
Никогда нации, в лице своих органических слоёв, не были до такой степени “обезглавлены”, очищены от всякого самостоятельного обладания разумом, который весь монополизирован в особом сословии всем властвующей, за всех думающей “интеллигенции”!
Это выделение функции знания и понимания в ведение особого класса создало из него силу страшную, которая, приспособляясь ко всем политическим условиям, захватывает власть над народом и в республиках, и в монархиях.
А между тем, отчленяясь ото всех сословий, создаваемых органической жизнью, эта новая аристократия в то же время неизбежно получила не жизненный, а теоретический, книжный ум. Она сама исказила этим свое развитие, и именно поэтому стала вечно революционной, так как её мышление созревает не на самой жизни (в которой она прямо не участвует), а на той или иной теории жизни.
В этом и состоит источник революционности интеллигентного класса, ибо он постоянно стремится переделать жизнь на основании теории. Ложность такого способа управления народной жизнью изобличалась уже много раз фактами. Интеллигенция много раз могла видеть это по опытам своих предшественников. Но, по складу своего ума, она готова лишь отвергать прежние теории, но никак не отказаться от царства теории, и на место прежних “последних слов” только выдвигает новые, еще более “последние, упорствуя в своей роли “хранительницы разума” и, в качестве этого, властительницы судеб наций.
В полуторавековой жизни этого нового социального слоя много трагического. Ему постоянно приходится разочаровываться в себе. Он упорно ищет настоящего закона, которому бы можно было подчинить нации уже окончательно “по Разуму”, и – каждый раз убеждается, что преследовал только химеру.
В марксовской теории он было нашел “настоящий закон”, своего рода бога, первичную силу, – в материальном процессе производства.
И вот социал-демократия объявила “пролетариат” “сословием будущего”, господином всего, – конечно, всё-таки сама управляя этим господином и обязывая его верить в открытую ею истину и действовать сообразно этому “последнему слову” Разума. Когда же пролетариат, вместо революции, стал улучшать свой быт, та же социал-демократия начинает бранить и его, то есть то сословие, которому она, в теории, только что обязалась подчиниться.
И не подлежит сомнению, что если и “условия производства” не поведут народы к революции и “новой эре”, то интеллигенция отбросит марксизм, как отбросила прежние свои теории, и придумает ещё какое-нибудь новое “последнее слово”, которое опять будет так же упорно навязывать народам, как навязывала марксизм.
Но эта ненормальная, узурпаторская роль отзывается уже тяжело на самой интеллигенции. Она становится все более тревожна, нервна. Какая разница с прежнею, сословною интеллигенцией! Та была важна, спокойна, без фанатизма уверена в своей правде, в несомненности того закона жизни, которому служила. Теперь являются нервность, беспокойность, постоянная перемена последних слов истины, и каждый раз преследование, с ненавистью, всякого сомнения в последнем издании «истины» <…>.
Удивительно, как эта новая интеллигенция, ища “настоящего закона” жизни, не догадывается, что он не может быть новым! Разве же может быть закон природы, который бы не действовал вечно, хотя бы мы его и не знали? Разве можно отменить закон природы?»201.
Единственно, в чём здесь, на мой взгляд, ошибся Л. А. Тихомиров, так это в том, что обрисованный им класс якобы «ищет некие настоящие законы жизни». На самом деле идеологически ориентированные умы заведомо настроены не на поиск чего-то такого, чего они не знают, а на обоснование того, чего им хочется. И конечно же, читая Л. А. Тихомирова, нужно помнить, что сам термин «интеллигенция» в конце XIX – начале XX в. служил обозначением не образованного, а, говоря современным языком, «образованческого» слоя людей, то есть той, претендующей на образованность, части населения, которая на самом деле являлась всего лишь носительницей духа политического радикализма антигосударственной, антирелигиозной и антинациональной направленности (см., например, сб. «Вехи», где обсуждается именно такой смысл термина202).
Но во всем остальном остается только поражаться, как свежо звучат высказанные Л. А. Тихомировым более ста с лишним лет назад мысли. Особенно такие: «Продолжающееся столь долго господство этого класса, чуждого действительной социальной жизни, во всех странах тяжко отзывается и на состоянии умов, и на всем строе наций. У нас это заметно еще сильнее, нежели в Европе»; «Политиканствующая интеллигенция держит в руках могущественные средства воздействия на умы – тенденциозную печать, поддельную науку, школу. Она шаг за шагом вытравляет из сознания массы народа всякое воспоминание об единственном спасительном защитнике; она оклевещет прошлое, разрисует радужные фантазии будущих благ, проведет и выведет народные массы, постоянно указывая им лишь такие пути, на которых народ может лишь изменять формы господства властвующих над ним классов <…> Зато будет “парламентаризм”, будут на всех перекрестках звучать пустые слова псевдо-“свободы”, которыми политиканы обморачивают народы по всему “просвещенному” миру»203.
Иначе как «подменной грамотой в действии» всё это не назовёшь. И остаётся вспомнить, что самому А. С. Пушкину тоже приходилось иметь дело с такого рода «элитой». Ведь не секрет, что во второй, наиболее зрелой половине своей творческой жизни он уже не пользовался у читающей публики тем же безоговорочным авторитетом, что в юности; считалось даже, что он «исписался», то есть что его произведения перестали отвечать «духу времени». Истинными представителями этого «духа» стали считаться уже при его жизни деятели, перенацелившие задачи литературы с вечных вопросов на так называемые прогрессистские, то есть на «иллюзорную реальность», с неизбежным для данной тенденции понижением интеллектуальной планки общественного сознания. Вот почему круг людей, с которыми зрелый Пушкин мог разговаривать «на равных», был крайне узок. И не здесь ли следует усматривать одну из причин ухода Пушкина в иносказательность?
Глава 25
Далеко лежащий путь
Но если феномен «иллюзорной реальности» был хорошо известен (под названием «полупросвещения», «полупознания», «полуистины») ещё А. С. Пушкину, то и устойчивые выражения, которыми оснащена в «Сказке о царе Салтане» речь корабельщиков, должны, видимо, пониматься нами как некие содержательные формулы, отражающие корневую суть «иллюзорной реальности». Вспомним эти формулы, они повторяются, с небольшими вариациями, на протяжении всех четырех явлений корабельщиков:
«А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана»;
«А теперь нам вышел срок —
И лежит наш путь далёк:
Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана»;
«И теперь нам вышел срок,
А лежит наш путь далёк,
Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана»;
«А лежит наш путь далёк,
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана».
Как легко заметить, самой устойчивой частью этих формул является их две заключительные строчки: «Мимо острова Буяна В царство славного Салтана». Действительно, здесь вариантов и быть не может: на том пути «в царство славного Салтана», который подразумевается корабельщиками, острову Буяну изначально отведена роль не конечной цели, а всего лишь одной из многих «подконтрольных территорий» в процессе расширения мирового рыночного пространства. В этом смысле царю Салтану и вправду нечего особенно делать на острове Буяне, кроме как лечь «спать вполпьяна» после завершения очередного этапа своей культуртрегерской миссии.
В начальных же двух строках самой устойчивой частью формул является связка фраз «А теперь нам вышел срок, И лежит нам путь далёк» (с вариантами). В полном своем виде эта связка представлена во втором и третьем случаях и в частичном виде – в первом. Интересно, что смысл содержащихся в этой связке фраз взаимно исключает друг друга: «теперь нам вышел срок» – «лежит нам путь далёк». Но ведь точно так же взаимно исключают друг друга и два основных контекста «иллюзорной реальности», что видно из деклараций упомянутого выше представителя французского Просвещения XVIII в. Ж. А. Кондорсэ. Согласно его концепции, «вышедший срок» означает, напоминаю, что если прежде общество жило бессознательной жизнью на основах традиций прошлых поколений, доверяя в своей практической деятельности не столько отвлечённому разуму, сколько памяти и опыту, то начиная с XVIII в. с этим «безобразием» покончено: Разум созрел, и отныне должно наступить его монопольное царство, которым будет управляться человечество. А «далеко лежащий путь» означает, согласно этой же концепции, что перед наступившим царством Разума открывается долгая и трудная стезя «исторического прогресса».
А вот в последнем случае слова о «вышедшем сроке» отсутствуют, – вместо них обозначена одна лишь перспектива развития: «А лежит нам путь далёк». Почему? Ответ, видимо, скрыт в двух вариантах конечного адреса корабельщиков: «Едем прямо на восток» и «Восвояси на восток». Эти варианты тоже, казалось бы, противоречат друг другу («прямо» – «восвояси»); но тут смысл противоречия может быть объяснён с точки зрения наличия в сказке двух иносказательных планов – поверхностного и глубинного. То есть в первом случае явно выражена базовая установка евроцентризма, согласно которой истинно разумные формы социального жизнеустройства распространяются в направлении с «цивилизованного Запада» на «варварский Восток». А во втором случае столь же явно имеется в виду тот давно укоренившийся в европейском сознании переносный смысл «востока», под которым обычно понимаются ближневосточные «истоки культуры», но который на самом деле сводится к истокам породившего «иллюзорную реальность» образа мышления.
Что это за образ мышления, показал В. И. Вернадский, задавшийся в своё время вопросом: почему идея «эволюционно-исторического происхождения» так навязчиво владеет массовым научным (да и не только научным) мышлением? Ответ на свой вопрос он нашел в материалах по истории научных представлений, которые ясно указали ему на донаучные корни всей эволюционно-исторической проблематики: «Представления о начале и конце нашей планеты в геологические представления вошли не из наблюдения фактов, а из готовых, чуждых науке, представлений религиозных и философских, что мы можем научно точно доказать, исходя из истории научной мысли. Эти представления считают логически неизбежным, что Мир, Жизнь, Вселенная, наша Земля имели начало и будут иметь конец. Это тесно связано с еврейско-христианско-мусульманскими представлениями о мире и божестве и генетически и исторически неразрывно с ними связанной <…> европейской (средиземноморской) философией. Эта связь выявляется или в отрицании, или в принятии и развитии религиозных представлений и догматов и создаёт своеобразный настрой мыслей западноевропейской (и американской) философии. В европейско-американскую науку это было внесено, мне кажется, Иммануилом Кантом <…> в введённом им понятии естественного тела или естественного процесса в конце XVIII или в начале XIX в. И мы сейчас видим, что учёные, связанные с другим настроем мыслей, связанные с Индией и отчасти Дальним Востоком, не видят никакой логической обязательности считать неизбежным при изучении научных явлений существование начала Мира, начала Вселенной, начала Жизни и т. п., так же как и их конца. Этот факт коренного различия в настрое научной мысли современных геологов ясно доказывает, что то, что кажется западноевропейским учёным логически неизбежным, – есть иллюзия и не вытекает из научных фактов, вывод, привнесённый в нашу мысль социальной обстановкой»204.
Иными словами, В. И. Вернадский пришел к осознанию того факта, что весь научно-теоретический аппарат эволюционно-исторической проблематики обязан своей главной предпосылочной установкой не объективной логике изучаемых фактов, а логике условной презумпции «происхождения», скрыто присутствующей в самой смысловой структуре научного языка и восходящей к очень древним, бессознательно-мифологическим языковым формам ближневосточного круга.
«Для европейской научной мысли мы в других вопросах, связанных, например, с материей, энергией, эфиром, давно уже отошли от сознания логической необходимости ставить вопрос об их начале. Для них мы приняли бесконечность во времени. Вероятно, примем такую же безначальность и для жизни, живого вещества в форме организмов, примем безначальность мира. Глубокий кризис, переживаемый сейчас в понимании идеи времени, ещё более оттеняет необходимость критического отношения к этим не исшедшим из фактов природы положениям»205.
Мысли В. И. Вернадского станут более понятными, если вспомнить, что ближневосточный мифо-религиозный вариант представления о «начале Мира» был положен в основание европейской концепции исторического развития ещё Августином Блаженным (IV–V вв.). А если учесть, что к Августину восходят и все современные представления об историческом «прогрессе», то придётся окончательно признать, что и самим «корабельщикам», и их «мозговой службе», и их омороченным жертвам, действительно, давно пора «восвояси на восток» – к основаниям предпосылок собственного мышления.
Обольщаться, впрочем, не стоит – лежащий в этом направлении путь и вправду необычайно «далёк». Только далёк он, конечно же, не в плане достижения горизонтов чаемой «прогрессивности», а в совершенно другом отношении – в прозревающем смысле блоковских строк:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь…
Глава 26
Салтаново царство
Ссылки на В. И. Вернадского могли бы показаться слишком уж большим отвлечением от нашей непосредственной темы, если бы и саму эту тему можно было чётко определить как «пушкиноведческую», или хотя бы как «литературоведческую», или даже как «историческую». Но в том-то и дело, что тема не вмещается в узкоспециальные определения, потому что не вмещается в них и сам А. С. Пушкин – явление русской культуры, преломившее в себе, как в «магическом кристалле», всю полноту главных жизненных вопросов и попыток их решения.
Тем более не вмещается в узкоспециальные определения тема «Салтанова царства», более чем далёкая от обычного, школьного уровня знаний «среднестатистического» читателя. Но и «среднестатистический» читатель вправе задаться вопросом: чего ему ждать от «царства» научного знания как явления культуры, оказывающего непосредственное влияние на качество его собственной жизни?
Чтобы получить на такой вопрос ответ, нужно, по меньшей мере, иметь представление о главных «болевых точках» (уязвимых методологических местах) «Салтанова царства». Поэтому попытаемся эти «точки» определить. И прежде всего отметим, что современный эволюционно-исторический стиль мышления можно сравнить с «Титаником», напоровшимся на невидимый методологический «айсберг». Дело в том, что затронутый в предыдущей главе вопрос об эволюционно-исторической идее как производной от более ранних, мифо-религиозных форм мышления – вовсе не является «научной экзотикой»; он подтверждается материалами многочисленных исследований других специалистов по истории духовной культуры. «Мифология в силу своей синкретической природы сыграла значительную роль в генезисе различных идеологических форм, послужив исходным материалом для развития философии, научных представлений, литературы. Вот почему так сложна (и не всегда полностью разрешима в рамках жёстких определений) задача размежевания не только мифологии и религии, но и близких по жанру и времени возникновения форм словесного творчества: сказки, героического эпоса, а также легенды, исторического предания»206.
Что касается последнего, то сегодня достаточно хорошо прослежен переход от полумифологических, квазиисторических текстов к раннеисторическим описаниям, «в которых постепенно складывается исторический взгляд на мир, сначала почти не отделимый от мифопоэтического взгляда, потом альтернативный по отношению к нему и, наконец, отрицающий его полностью»207. Конкретная же картина того, каким образом из размыкания последнего (циклического) этапа в текстах об акте творения возникала историческая наука, – «хорошо известна и многократно описана»208.
Иными словами, точка зрения на исторический метод как на производное от мифологического образа мышления становится сегодня всё более признаваемой. Но тогда получается, что исторический метод, претендующий на объяснение происхождения мифов, пытается тем самым объяснить происхождение того, от чего сам же и произошёл! То есть он как бы заранее предполагает знание того, на изучение чего нацелен. Будучи средством изучения прошлого, он как бы облекает это прошлое в заранее заданные концептуальные рамки (а именно – в рамки идеи «происхождения») и в силу этого оказывается принципиально неспособным давать ответы на вопросы, порождаемые возможным несоответствием реальности указанным рамкам.
А между тем «научное доказательство не должно предполагать как предпосылку то самое, обосновывать что является его задачей»209, – в противном случае мы имеем ситуацию, называемую в методологии научного поиска «кругом в доказательствах» («circulus visiosus»210).
В переводе на уровень методологического обобщения ситуация формулируется так: если идея историзма (понимаемая как особым образом оговоренная презумпция «происхожения») производна от ранних форм коллективного мышления, то объяснять происхождение самих этих форм исторически – означает замыкаться в плену тавтологических умозаключений. В философии и логике науки такой подход к предмету считается не имеющим собственной доказательной силы и называется методологическим порочным кругом.
К сожалению, проблема порочного круга отечественной исторической наукой игнорируется. В то время как на Западе давно уже развиваются целые направления неклассической мысли, связанные с переоценкой категории «историчности бытия». Это и отвержение линейного «прогрессизма», и неприятие упрощенного детерминизма, и критика «наивного исторического объективизма» (выражение Гадамера), и многое другое. Насколько далеко зашла в своей переоценке категории «историчности бытия» западная теоретическая мысль, можно судить по философии Хайдеггера, строящейся на череде исторически обусловленной трансформации смысла бытия. Хотя в прикладном отношении западная гуманитарная мысль продолжает очень сильно зависеть и от классической (традиционно-просвещенческой) парадигматики XVIII в.
В отечественном же обществоведении ситуация намного хуже: поскольку здесь в XX в. имело место не столько решение научных задач, сколько выполнение госзаказа на критику «буржуазной идеологии», то и всю выходящую за истматовские рамки обществоведческую проблематику отечественные методологи вообще «проспали», – почему и вынуждены сегодня ограничиваться стыдливо-молчаливым переписыванием соответствующих учебников, пособий и словарей. А в роли «крайних» при этом остаются гуманитарии узкоспециального профиля. Воспитанные практикой предыдущей эпохи в слепом доверии к спускаемым сверху методологическим установкам, они если и замечают происходящее, то не воспринимают его как непосредственно к ним относящееся.
Но это значит, что, оказавшись по факту в положении теоретически разоружённых, они, как правило, даже не осознают себя таковыми, удовлетворяясь в качестве методологии общественных наук её имитационными штампами прежних времен. В частности, им очень трудно освоиться с мыслью, что так называемый исторический метод – это не столько инструмент научного поиска, сколько внешне онаученный пережиток мифологического мышления, порождение бессознательной логики владеющих научным сознанием языковых штампов.
Как бы там ни было, идея признания ограниченности эволюционно-исторического взгляда на мир давно уже стимулирует поиски выхода из тупиков классической науки. О духе и направленности таких поисков можно судить по эпистолярному наследию В. И. Вернадского («Если есть что-нибудь абсолютное, вечное, оно тем самым исключает понятие процесса…»; «Может быть, мысль, основа личности, бессмертна…»211). А чисто теоретические принципы новых подходов были намечены ещё в середине XX в. австрийским ученым Людвигом фон Берталанфи, создателем общей теории систем (не путать с упоминавшейся выше эволюционной теорией систем Дж. Сороса).
Любопытна стоящая за научной позицией Л. фон Берталанфи её гражданская мотивация: «Индивид во все большей степени становится зубчатым колесом некоторой сложной конструкции, управляемой несколькими привилегированными лидерами, которые за дымовой завесой идеологии преследуют свои частные интересы»212. А вот ключевые посылки самой теории: «Стало очевидным структурное подобие, изоморфизм <…> моделей, построенных для различных областей; при этом в центре внимания оказались проблемы порядка, организации, целостности и т. д., которые демонстративно исключались из рассмотрения в механистической науке»213.
Наиболее же фундаментальное для общей теории систем понятие – это понятие «иерархического порядка»: «Сейчас мы видим Вселенную как огромную иерархию, от элементарных частиц до надындивидуальных организаций <…> Такая иерархия проявляется как в структурах, так и в функциях <…> Проблема иерархического порядка тесно связана с вопросами эволюции <…> В конечном счёте динамика (эволюционная. – С. Г.) и иерархический порядок могут представлять собой одно и то же»214.
В позднем СССР системное направление мысли так и не смогло стать стратегически определяющим. Примерно та же ситуация и на Западе; это видно из того факта, что проблема истоков человеческой культуры так и не попала в поле зрения общей теории систем. А между тем тут есть над чем задуматься, потому что ситуация порочного круга является непреодолимой лишь в свете традиционной эволюционно-исторической проблематики, но отнюдь не в свете её системной интерпретации.
Дело в том, что ситуация порочного круга как бы сигнализирует нам о назревшей общественной потребности в смене теоретических установок, мировоззренческих предпосылок и господствующих теорий о принципах понимания и объяснения мира, то есть в смене всего того, что принято называть мировоззренческой парадигмой215. Такая смена предсказывалась на протяжении всего XX в., причём сразу по многим направлениям мысли. Здесь имеют место и разочарование в упрощённой, чисто условной схеме развития «от простого к сложному, от низшего к высшему», и несостоятельность биологической гипотезы о наследовании приобретаемых признаков, и осознание того факта, что эволюционистское представление о возникновении «живого из неживого» не адекватно реально наблюдаемым процессам (а именно, принципу «все живое – от живого»), и идея иерархического строения реальности, и несводимость информации к материи, и загадочность «антропного принципа в космологии», и новая, связанная с мифологической семантикой, фактология в истории духовной культуры, и обнаруживаемая символическая природа языковых понятий.
Была также высказана и косвенная догадка, что в рамках новой мировоззренческой парадигмы найдёт свою «реабилитацию» аксиологическая (ценностная) проблематика. Первым здесь оказался всё тот же Вернадский: «Если подтвердится, что жизнь есть не планетное, а космическое явление – последствия этого для биологических и гуманитарных концепций будут чрезвычайны»216. А вслед за Вернадским на тот же момент указал и Л. фон Берталанфи. В частности, он писал: «Если реальность представляет собой иерархию организованных целостностей, то и образ человека должен отличаться от его образа в мире физических частиц, в котором случайные события выступают в качестве последней и единственной “истины”. Мир символов, ценностей, социальных и культурных сущностей в этом случае представляется гораздо более “реальным”, а его встроенность в космический порядок окажется подходящим мостом между <…> наукой и гуманитарным мироощущением, технологией и историей, естественными и социальными науками или сторонами любой иной сформулированной по аналогичному принципу антитезы»217.
Речь, как видим, идёт о принципиально новом для научного мышления образе мира. А этот новый образ влечёт за собой и необходимость пересмотра главнейшего вопроса человеческого бытия – вопроса о месте человека в мире. Вопрос формулируется так: каково это место? Таково ли, что человек в мире – исчезающая малая подробность, которой допустимо пренебречь? Или же, напротив, мир целиком и полностью структурирован «человеческим фактором» – мыслями, словами и поступками каждого отдельного человека?
Сегодняшняя система знаний, поделившая свои объяснительные функции между знанием без веры и верой без знания, дает на все такие вопросы хотя и противоположные, но равно неудовлетворительные своей неполнотой ответы. То есть она предлагает вопрошающим псевдовыбор. Но слишком уж очевидно, что характер современного информационного общества принципиально не совместим с псевдовыбором, что он настоятельно требует новой предпосылочной системы, дающей надежду на нарождающееся очеловечивание научного мировоззрения, надежду на то, что ничто в мире не совершается зря и что все имеет свой конечный смысл и оправдание.
Ведь если мир изначально существует в своих максимально сложных формах проявления, то и человеческая история должна будет раскрыться нам как нечто гораздо более интересное и важное, чем «самоусложняющийся прогресс». Если культура не сводима к итогам борьбы людей за выживание, то наши мысли, цели и идеалы могут оказаться в конечном счете чем-то намного большим, нежели функция высокоразвитой материи. Если место личности в мире соразмерно самому миру, то придется кардинально пересмотреть наше сегодняшнее понимание «рациональности». Если этический выбор производен от мировоззренческого выбора, если совесть (со[вокупная] весть) напрямую причастна полноте знания, то самое интересное в истории человечества – ещё впереди. Если индивидуальное человеческое бытие – это не изолированный отрезок времени между рождением и смертью, а особым образом организованный «квант» в не имеющей начала и конца структуре информационно-энергетических взаимодействий, то фатально обманется каждый, делающий свое «я» в этом мире наивысшей жизненной ценностью. И если сами рождение и смерть – суть двери, через которые неуничтожимая информация о нас самих переводится из одних своих потенциальных накопителей в другие, то не исключено, что сопереживать другим – выгодно для самого же себя. То есть не исключено, что абсолютно на всё совершаемое в этой жизни имеется счет и что поэтому столь обычное сегодня противопоставление веры и знания, правды и права, идеалов и интересов – всего лишь досадная, исторически преходящая издержка нашего нынешнего «научного» полузнания, а проще говоря – невежества.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































